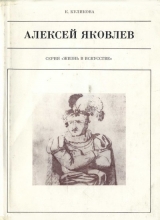
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Роль Оскольда была статична (хотя и требовала, как говорили тогда, «бешеного темперамента»). Более сложной оказалась в этом смысле следующая роль, в которой Яковлев выступил 15 июня, – новгородского князя Синава в трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». Гордый и всесильный правитель Синав нарушал долг «справедливого монарха», полюбив возлюбленную своего младшего брата Трувора Ильмену. Синав ревновал, ненавидел, мучился, совершал неправедные поступки, пользуясь данной ему властью. И горько каялся в конце, поняв, что явился причиной смерти двух самых любимых им людей.
Роль Синава была одной из наиболее прославленных ролей Дмитревского. Ее исполнением восхищался в свое время Сумароков, редко баловавший актеров восторженными отзывами. «Что я зрел! Колико́ я смущался, когда в тебе Синав несчастный унывал!» – восклицал он в «Стихах Ивану Афанасьевичу Дмитревскому». «Ты страсти все свои во мне производил: ты вел меня из страха в упованье, из ярости в любовь и из любви в стенанье… Искусство с естеством, в тебе совокупленны, производили в нас движения сердец».
Своеобразная стихотворная рецензия Сумарокова являлась одновременно и фиксацией сценического рисунка сыгранной актером роли. Как и роль Оскольда, она была разработана Дмитревским до мельчайших деталей: интонации, мимика лица в течение многих лет оставались неизменными. Ходившие в то время по многу раз на один и тот же спектакль любители театра с нетерпением ожидали наиболее эффектных в исполнении Дмитревского мест.
Обе роли получены им были в наследство от Федора Григорьевича Волкова, игравшего чаще всего царей и героев (Дмитревский исполнял тогда – в пятидесятых годах – менее ценившиеся роли первых любовников). И теперь, спустя сорок лет, общие очертания ролей еще сохраняли силуэты, созданные Волковым не без помощи Сумарокова. Но несомненно и другое. Побывав после смерти Волкова во Франции и Англии, проживший долгую сценическую жизнь, Дмитревский отшлифовал их, что-то переосмыслил и домыслил, согласно увиденным европейским классическим образцам. И подготавливая роли с Яковлевым, щедро делился накопленным и узаконенным им на русской сцене. «Пожираемый необыкновенной страстью к искусству своему, – восхищался один из современников маститого актера Н. Ильин, – Дмитревский… давал всякому настоящий тон его роли, показав свойства представляемого и все оттенки».
Разъясняя идею пьесы, расставляя акценты роли, показывая мизансцены, отрабатывая плавный, округлый жест, благородную простоту декламации с напевно-подчеркнутой ритмикой стиха, требуя скупости движений и богатства мимических оттенков, Дмитревский заставлял своего ученика следовать законам классицизма, отвечавшим особенностям драматургии Сумарокова.
Стойкий приверженец Расина, Сумароков строил свои трагедии, сохраняя верность трем единствам, рассчитанному рационализму драматургических построений, отвлеченному схематизму образов французского классицизма, откровенно декламаторской их статичности. Исследователи творчества Сумарокова не без основания называли его трагедии «драматическими поэмами». В них было много рассуждений героев и мало действия. Борьба разума и страстей, как правило, определяла их конфликт. Разум же в финале неизбежно побеждал страсти. А героями, как и полагалось в «правоверной» классицистской трагедии, оказывались монархи, правители и вельможи.
И все же в трагедиях Сумарокова (как и в интерпретации их Дмитревским) было что-то необычное, русское, не укладывающееся в прокрустово ложе строго классицистских представлений. Они несли в себе конкретный гражданский запал. При всей своей отвлеченной статике трагедии Сумарокова были злободневны, ибо в них всегда звучал урок не абстрактным, а живущим в одно время с драматургом царицам. Да и сюжеты Сумароков брал не из глубокой древности и не из античных мифов. Чаще всего он черпал их из отечественной истории, разумеется, подвыправленной, даже подвыдуманной, но все же русской.
Вероятно, все это и дало возможность Дмитревскому выпустить своего ученика на публику в «Семире» и «Синаве и Труворе» спустя много лет после их первого представления. А Яковлеву иметь в них блистательный успех. Хотя сами-то трагедии в девяностых годах уже во многом устарели – и по способу мышления автора, и по своей эстетической сущности.
Как играл в них Яковлев? Кроме общих похвал «превосходно», «восхитительно» в отзывах современников мы не найдем никаких более точных описаний. Несомненно одно: на первых порах он послушно шел за Дмитревским, который хотел создать себе преемника по образу и подобию своему. Пройдя с Яковлевым роль классицистско-декламаторского толка (первая ступень образования актера) и дав ему сыграть роль невольного злодея, подчинившего разум страсти (вторая ступень образования), Дмитревский затем приобщил его к комедийному искусству.
29 июня 1794 года состоялся третий дебют Яковлева. Он предстал в облике Доранта из комедии французского драматурга Кампистрона «Ревнивый, из заблуждения выведенный», которая, по словам ее переводчика В. И. Лукина, «была в некоторых местах на здешние нравы выправлена». Роль Доранта требовала от актера умения размышлять вслух, раскрывать тончайшие оттенки переживаний, изображая человека образованного, принадлежащего к высшему обществу. Надо было произносить обыденный прозаический текст, не опускаясь до бытового правдоподобия. И в то же время не забывать, что играешь комедию, у которой есть свои, отличные от трагедии законы.
Яковлев и в этой роли вызвал немало рукоплесканий.
«При первом появлении на театре, – вспоминал самый первый, оставшийся безымянным его биограф в статье, напечатанной журналом „Северный наблюдатель“ сразу после смерти Яковлева, – он привел в восхищение зрителей. Высокий и статный рост, правильные и выразительные черты лица, голос полный и в возвышении яркий, выговор необыкновенно внятный и чистый и, наконец, чувствительность и жар, часто вырывающийся из пламенной души его, предвозвестили уже в нем артиста, долженствующего сделать честь нашему театру. Природа щедро одарила его всем, что необходимо великому актеру, и ему тогда недоставало только того, что приобретается чтением, хорошими советами, гимнастическими упражнениями, опытностью и временем..»
Руководить его чтением, давать исполненные опыта и мудрости советы, заниматься с ним пластикой продолжал Дмитревский.
После нашумевших дебютов Алексей Семенович Яковлев был принят в русскую труппу петербургского театра. 11 августа 1794 года князь Юсупов подписал следующее «определение дирекции над зрелищами и музыкой»:
«Санкт-петербургского купца Алексея Яковлева, как он желание имеет служить при театре и по предварительному испытанию актером быть может, в театральную дирекцию принять, с жалованьем из остающейся от 1-го числа сентября нынешнего 1794 года суммы, театральным служителям положенной, в год по триста по пятидесяти рублей, да на квартиру, дрова и вместо казенного экипажа сто рублей. В продолжение ж бытности его – Яковлева актером, доколе в службе сей дирекции существовать будет и от купечества к другим должностям не выберут, играть ему беспрекословно в трагедиях и комедиях первые и вторые роли… также прочие всякие роли, которые от дирекции приказаны ему будут. О чем сие определение объявить с подпискою».
Яковлеву объявили определение. И он написал на нем: «Сие определение читал и во исполнение подписуюсь. Санкт-петербургский купец Алексей Яковлев».
По-прежнему числясь в сословии купцов, обязанных платить подушные подати, он получил право называться придворным актером театра, главным судьей которого провозгласила себя Екатерина II.
Век «великой Екатерины» был пышен, велеречив и под прикрытием внедрения просвещения, заигрывания с французскими философами коварно лицемерен.
«Екатерина уничтожила пытку – а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением, – подводил итоги ее царствованию Пушкин, – Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами – и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».
Воспевающим мудрость «просвещенной монархии» и в то же время безоговорочно послушным собственной власти хотела видеть Екатерина II театр. Таким и старался сделать его князь Юсупов.
Доведенный притеснениями начальства до полного отчаянья, Сила Николаевич Сандунов, уезжая с женой осенью 1794 года в Москву, назвал петербургский театр местом «сильных и злобствующих», где «сам командир угнетает открыто и не щадит на то способов». В это царство «сильных и злобствующих» вступал теперь Алексей Яковлев.
На первых порах он не почувствовал ни злобы, ни притеснения. Дмитревский продолжал способствовать продвижению своего ученика. Стараниями Ивана Афанасьевича довольно быстро было расчищено для него место первого любовника. 30 октября 1794 года неудачливому актеру из Тулы сообщили от имени Юсупова: «Трофиму Константинову объявить, что он по прошествии шести месяцев, т. е. считая от наступающего ноября 1 числа, от службы будет уволен». Яковлев занял его положение. Постепенно на протяжении следующего, 1795 года почти все главные роли русского репертуара отошли к нему. Что же касается самого Дмитревского…
«Успех Яковлева, – свидетельствует его биограф, – был так громаден, что умный и наблюдательный учитель сразу увидел себя вынужденным уступить свое место, как актер, новому возникающему дарованию… С этого времени он являлся только в своих лучших, коронных ролях, по преимуществу в амплуа благородных отцов и резонеров в комедии…»
Все это происходило лишь на публичных спектаклях. В Эрмитажном же театре «лукавый царедворец» Дмитревский, со своими благородными манерами, умным мастерством и славой «Нестора русской сцены», так органично вписывался в пышную изысканность интимного театра Екатерины II, что до самой смерти императрицы продолжал играть там главные роли в пьесах любого жанра.
И все же отношение Дмитревского к Яковлеву постепенно становилось несколько прохладнее. Ученик оказался с норовом. Это выяснилось довольно скоро. Именно к первому году пребывания на сцене Яковлева мемуаристы относят его слова: «Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика; а уж обезьяною никогда не буду». Яковлев начал отстаивать свою индивидуальность. И Дмитревский вовремя отступил. «Умный и осторожный старик, – рассказывал Жихарев, – рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно… своенравного… юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однако ж, к тому, что он упрямец и большой неслух».
Все глубже и глубже пускал корни Яковлев в господствующий репертуар, входя в давно слаженные спектакли вместе с другой ученицей Дмитревского Александрой Каратыгиной, только что выпущенной из театральной школы, успевшей сыграть главную роль Прекрасы в пышной зрелищной трагедии Екатерины II «Начальное управление Олега» и зачисленной в штат театральной дирекции почти одновременно с ним.
Новых постановок в последние годы царствования Екатерины II, годы откровенной, незамаскированной реакции, было немного. Молодые актеры вводились, как правило, в прославленные старые спектакли, воплощавшие переделки французской просветительской драматургии и произведения русских классицистов.
В 1795 году Яковлев сыграл главную роль в «Магомете» Вольтера, Юпитера в «Амфитрионе» Мольера, Витозора в трагедии Княжнина «Владисан», Безрассудного в комедии Ефимьева «Преступник от игры», Димитрия Самозванца в одноименной трагедии Сумарокова и несколько других, менее значительных.
Самой яркой, даже программной оказалась для Яковлева роль Магомета, которую он играл потом с перерывами около полутора десятка лет.
Единственное более или менее подробное описание ее было сделано молодым театралом Степаном Жихаревым в пору страстного увлечения им Яковлевым много позже – в 1807 году. К тому времени исполнение актера приобрело свою завершенность. Но первоначальные контуры роли появились значительно раньше. Трактовка ее была определена, по всей видимости, Дмитревским еще в восьмидесятых годах XVIII столетия. И стихийно переосмыслена Яковлевым уже при первом приобщении его к трагедии Вольтера. Именно в ней резко проявилось индивидуальное нутро молодого актера, отнюдь не соответствующее представлениям Дмитревского об идеальных качествах лицедея.
С роли Магомета началось восхождение Яковлева как актера самобытного, ни на кого не похожего. Но с ее исполнения наметился и его разлад с теми, кто являлся в театре той поры законодателем.
Для Яковлева была характерна свобода движений, которую не терпел классицистский театр. Он позволял себе резкие, угловатые жесты, нарушавшие плавную гармонию узаконенных классицистами сценических движений и воспринимаемые ими как проявление «дурного тона» поведения на театральных подмостках. Весь отдаваясь необузданным порывам одержимых неистовыми страстями героев, так же необузданно он воплощал эти страсти на сцене.
Много позже раскованность сценических движений, интуитивно пришедшую к нему на первых порах, он попытается осмыслить и теоретически защитить в печатной полемике с упрекавшими его рецензентами. Вначале же ему приходилось безропотно выслушивать нравоучения знатных ценителей театра, которые сводились к одним и тем же упрекам, сформулированным в несколько более позднее время журналом «Северный вестник»:
«Для чего не послушать советов чужих, когда они обещают нам приращение к славе нашей? Все, например, говорят, что г. Яковлев много имеет талантов; но все также говорят, что ему нужно бы выйти из круга, в котором он остановился; все говорят, что он иногда не кстати вскрикивает, часто делает судорожные движения, чего в хороших актерах заметить не можно. И в трагедии „Магомет“, в которой игра его заслуживает великую похвалу, сии недостатки часто были им повторяемы. Чтоб выразить сильные порывы страстей, не нужно беспрестанно бросать рукою, делать ею самые острые треугольники и притом с чрезвычайной скоростью, которые в телодвижениях слишком безобразны…»
«Круг, в котором он остановился», в девяностые годы еще только начинал вырисовываться. Многое прощалось актеру за счет неопытности в надежде, что, поучившись у маститых, он достигнет большего совершенства. Но и тогда уже начинало становиться ясным, что Яковлев далеко не во всем соответствует понятию о «прекрасном» Дмитревского и других ревнителей классицизма, с его мягкой пластичностью и заранее запланированной эффектной «простотой».
Правда, Жихарев утверждал, что Яковлев «с первой сцены и до последней… был совершенным Магометом, то есть каким создал его Вольтер». Но тут же и оговаривался: «ибо другого настоящего Магомета я представить себе не умею». Представления же Жихарева не всегда совпадали с восприятием искусства ревнителями классицизма. Жихарев, судя по его дневнику 1807 года, часто впитывал в себя сценические явления скорее эмоционально, чем рационально. Яковлев захватывал его куда больше, чем Дмитревский. Правда, в ролях действенных, далеких от декламаторской статики.
Жихарев восхищался величавостью и благородством «во всех телодвижениях» Яковлева – Магомета: «Что за грозный и повелительный взгляд, какая самоуверенность и решительность в его речи! Словом, он был превосходен, так превосходен, что едва ли найдется… на какой-нибудь сцене актер, который мог бы сравниться с ним в этой великолепной роли. Что за орган! Боже мой, и как он владеет им!»
«Властолюбивый и повелительный лжепророк» Магомет – Яковлев, по его словам, овладевал вниманием зрителя тем, что самые эффектные монологи произносил просто, со скрытой угрозой. Не криком, не сверкающими злобой взглядами воздействовал он на окружающих. Спокойные, хотя и «энергетически-повелительные» ноты скрытого недовольства сменялись таким же внешне сдержанным негодованием, уступавшим, в свою очередь, место полной достоинства доверительности.
Озираясь кругом, почти шепотом признавался Магомет – Яковлев своему врагу Зопиру, которого он хотел привлечь на свою сторону:
– Знай, я честолюбив…
И тут же с «величайшей убедительностью» добавлял:
– Но таковы все люди.
К сожалению, из-за утраты нескольких страниц дневника Жихарев не сумел воссоздать в своих воспоминаниях описание игры Яковлева в дальнейших сценах «Магомета». Но он привел отзыв знаменитого французского актера Лароша, игравшего в Петербурге в начале XIX века:
– Ваш Яковлев – отличный Магомет, и я удивляюсь, каким образом этот человек, ничего не видевший и ничему не учившийся, сумел так хорошо исполнить столь сильно задуманную роль.
И Лароша, и Жихарева не смущало резкое изменение драматургического рисунка роли Яковлевым, приводившее к судорожным вскрикиваниям, нервным, далеким от красивой пластичности жестам, за которые рецензенты упрекали актера. Оно проявлялось там, где на смену властительному фанатику приходил порывистый, ревнивый любовник, терпящий неудачу в несчастной страсти к воспитанной им Пальмире, любящей другого – Сеида, которого Магомет посылал на преступление и смерть.
Исполнение Яковлевым роли Магомета в этих сценах было далеко от «благоразумия, изящества, благородства и благоприличия», к которым призывал сам Вольтер. В нем не было «никакой соразмерности, никакой обходительности», то есть всего того, что хотел видеть на сцене великий французский просветитель. Магомет Яковлева был не только олицетворением зла, которое несет в себе любой фанатизм, но и живым воплощением противоречий этого зла. Его Магомет любил и страдал. И в минуты ревности терял присущую правителю гордую непреклонность и величавость жестов. Любовь не очищала его. Но приоткрывала, что в объявившем себя полубогом злодее бьется человеческое, исполненное тщеславия и страсти сердце.
Все это нарушало заданный Вольтером (а также довольно точно для своего времени переведшим трагедию Павлом Потемкиным) ритм исполнения. И вносило дисгармонию в актерское решение, которую не терпел классицистский театр. Но это же и брало в плен зрителей, обещая неведомые ранее ощущения.
Между тем Дмитревский передал Яковлеву роль еще одного героя-злодея из своего коронного репертуара – Димитрия Самозванца. О том, как играл Яковлев роль сумароковского Самозванца, который, по признанию самого героя, «злодейством разъярен, наполнен варварством и кровью обагрен», не осталось никаких свидетельств. Но в том, что играл он ее как «неслух», сомневаться не приходится.
У много лет исполнявшего эту роль Дмитревского здесь был рассчитан каждый жест, каждое движение, любое повышение и понижение голоса. Зрители заранее предвкушали, как, «закутавшись в царскую мантию и облокотись на кресла», начнет он монолог Самозванца, искусно подчеркивая «темные мысли» герои. Как эффектно, «сэкономив силы» в предыдущих действиях, вскочит с тех же кресел в первой сцене последнего акта, воскликнув при звуке колоколов: «В набат биют; сию биенью что причина?» С какой разумной простотой распределит интонационные изменения негромкого голоса.
Всем этим никогда не будет обладать Яковлев. И самое главное, не станет стремиться этим овладеть уже с начала своей актерской деятельности. Ему не нужно было распределять силы. Темперамента хватило бы ему не на одну роль. Не к чему было «экономить» сильный голос. Он не терпел заранее придуманных эффектов. Не чувствовал тяготения к ролям рационально-аналитического склада. Был силен в раскрытии огромных, но всегда понятных людям страстей. Именно их акцентировал в каждой сыгранной роли. Его Самозванец являлся не абстрактным олицетворением тирании. Подобно Магомету, он был человеком, страстно любившим и не менее страстно ревнующим. Но то была любовь и ревность тирана, несущего гибель окружающим и себе самому.
Входя в давно поставленные, много раз игранные спектакли, Яковлев был вынужден следовать за Дмитревским во всем, что касалось внешнего рисунка роли: принимать готовые мизансцены, стараться придерживаться тщательно разработанной системы интонаций, надевать нелепые, с точки зрения исторической правды, костюмы.
Так, в роли Магомета ему пришлось долгие годы играть в безвкусно стилизованном турецком костюме, что позже вызовет негодование такого знатока старины, каким был Н. И. Гнедич. А в роли Самозванца, продолжая идущую от Дмитревского традицию, надевать «шапку с горностаевым околышем, с висящей алой бархоткой, с тульей и с большой бусовой кистью, и золотое глазетовое полукафтанье, с загнутыми полями, на маленьких бочках или фижмах».
Но с узаконенным Дмитревским внешним рисунком ролей все сильнее вступало в конфликт его собственное актерское нутро.
С наибольшей силой оно дало себя знать в ставшей потом самой прославленной роли Яковлева – роли дикого, но пламенного Ярба в знаменитой, написанной на известный античный мифологический сюжет трагедии Княжнина «Дидона», которая будто специально была создана для Яковлева. Не случайно слова «дикий, но пламенный» употребит потом Пушкин уже по отношению к нему самому.
Роль Ярба была сыграна Яковлевым на первом его бенефисе 27 мая 1796 года. Полученный через год и девять месяцев после поступления на сцену, бенефис красноречиво свидетельствовал о том, какое высокое место занял молодой актер. Бенефисы в то время получали лишь избранные, самые маститые, прослужившие в театре не один десяток лет.
Пройдет полвека, и известный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков с дистанции своего времени назовет роль Ярба «нелепейшей». «Цельное исполнение ее, – скажет он, – невозможно. Ярб должен буквально беситься все четыре акта, на что, конечно, не достанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут…» И приведет в качестве примера своего любимого актера – Якова Емельяновича Шушерина, сказав, что тот, «для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба». «Так поступал Шушерин всегда, – утверждает Аксаков, – так поступали и другие, и так поступал Дмитревский в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину».
Между тем воспоминания об игре Яковлева в роли Ярба говорят об обратном. Все они свидетельствуют именно о цельности характера и о «драматической истине представляемого лица». Роль Ярба полностью соответствовала психофизическим данным Яковлева, чего нельзя было сказать о его предшественниках: Иване Афанасьевиче Дмитревском, Якове Емельяновиче Шушерине, даже Петре Алексеевиче Плавильщикове (хотя он и обладал более мощным, чем у них, голосом и могучим темпераментом).
Яковлев шел от разработки роли Ярба Дмитревским. Как и Дмитревский, он, изображая чернокожего Ярба, не делал темным свое лицо. Не «африканские страсти», не южный темперамент определяли характер его героя, а ярость бессилия любви, охватившей человека сильного и тщеславного. Он весь был под игом дурманящей рассудок страсти. И эта безрассудная страсть, противопоставленная рассудочной любви счастливого соперника Ярба Энея, влекла к гибели Дидону – ту, ради которой Ярб мог бы пойти на любую гибель. Но если Дмитревский методично, сцена за сценой, раскрывая зло, которое несла за собой лишенная разума любовь, приводил зрителя к осуждению ее, то Яковлев заставлял сочувствовать своему герою, противопоставившему себя богам.
Его Ярб не был «рыкающим львом», возбуждавшим страх, и только страх, как это делал в своей слепой ярости могучий Ярб Плавильщикова. Не отличался он и «зверской страстью», высокомерием, «презирающим все ужасы», готовым попрать «власть бессмертных» во имя собственной власти, как готов был это сделать Ярб Шушерина. К спору с богами Ярба – Яковлева приводило не властолюбие, не ненависть, а все та же неистовая ревность. Безраздельно отдавшись ее господству, он мучился, терзался, понимал свою обреченность и восставал против волн богов. В интерпретации Яковлева Ярб был прежде всего мятежником, а не могущественным властелином, стремившимся установить свои, противные разуму варварские законы.
Необыкновенно красивый внешне, глубоко чувствующий, его Ярб был личностью яркой, оттеснившей в спектакле не только покорного богам Энея, безропотно бросавшего по их приказу возлюбленную, но и обрекшую себя на смерть Дидону. Из второстепенного в трагедии Княжнина лица (где, в отличие от французской и итальянской интерпретации античного мифа, на первый план вышел не Ярб, а Дидона и Эней, с их типичными для русского классицизма борением любви и рассудка), Ярб Яковлева становился главным. Сколько добра мог бы сделать его Ярб, ответь Дидона на его чувство! Но она отвергла его, предпочтя Энея. И он мстил всему миру за попранную любовь. Так в классицистскую тему безрассудного злодейства проникали романтические попытки осмыслить истоки зла, таящиеся в непонятости окружающими неординарной личности.
По воспоминаниям Жихарева, Яковлев уже с первого выхода Ярба на сцену интонационно и пластически окрашивал роль разными оттенками. В отличие от Плавильщикова, он не вбегал в «величайшем раздражении на сцену», не закрывал в отчаянье лицо руками, дико и с «неистовым воплем» восклицая:
Плачу;
Но знай, что слез напрасно я не трачу,
И слезы наградят сии – злодея кровь!
«Яковлев играл иначе, – утверждал Жихарев, – он входил тихо, с мрачным видом, впереди своего наперсника, останавливался и, озираясь вокруг с осанкою нумидийского льва, глухим, но несколько дрожащим от волнения голосом произносил:
Се! зрю противный дом, несносные чертоги,
Где все, что мило мне – немилосердны боги…
с горьким презрением:
Троянску страннику…
с чувством величайшей горести и негодования:
с престолом отдают!
Здесь только подходил к нему наперсник с вопросом: „Ты плачешь, государь?“ и проч. Схватывая руку Гиаса, он прерывающимся от слез голосом произносил:
Плачу;
с твердостью и грозно:
Но знай, что слез своих напрасно я не трачу:
За них – Енеева ручьем польется кровь!
Последний стих Яковлев переделал сам, и он вышел лучше и удобнее для произношения. Так поступал он и с прочими своими ролями… Он был бессознательно пластичен. Того же, как он произносил стихи:
Любовь? нет, тартар весь я в сердце ощущаю,
Отчаиваюсь, злюсь, грожу, стыжусь, стонаю…
я даже объяснить не умею: это был какой-то вулкан, извергающий пламень. Быстрое произношение последнего стиха, с постепенным возвышением голоса, и, наконец, излетающий при последнем слове „стонаю“ из сердца вопль – все это заключало в себе что-то поразительное, неслыханное и невиданное…»
На протяжении всей роли Ярба, где, по выражению Дмитревского, Яковлеву было где «поразгуляться», он неоднократно прибегал к «глухому полуголосу», к «поражающей пантомиме», «хотя без малейшего неистовства», и только в нескольких случаях дозволял себе разразиться «воплем какого-то необъяснимо радостного исступления, производившим в зрителях невольное содрогание». Выразительность лица, звучность и увлекательность голоса и даже, «если хотите, сама естественность» исполнения Яковлева – позволили Жихареву отнести роль Ярба к лучшим творениям актера.
Жихарев видел своего кумира в роли Ярба много лет спустя после первого бенефиса Яковлева. Время отточило, отшлифовало первоначально найденное, отбросило заимствованное, сделало самостоятельней игру актера. Но путь к освоению роли наметился уже тогда – в памятном для Алексея Семеновича 1796 году. Бенефис упрочил славу молодого Яковлева. Вскоре после этого он сыграл еще одну ставшую для него знаменательной роль. 29 июня того же года петербургские зрители впервые увидели пьесу немецкого драматурга Августа Коцебу «Сын любви». В ней Яковлев явился в облике простого солдата Фрица.
Коцебу. Сколько в его адрес было сказано потом насмешливо-уничижительных слов. И сколько слез пролито на его ловко скроенных, наспех написанных, но отмеченных несомненной одаренностью автора драмах. И в скольких из них нашли свои главные роли актеры, привнесшие в них собственные раздумья о людях и человеческих судьбах.
Около полувека драматургия Коцебу будоражила театральные умы России. И сошла со сцены не менее триумфально, чем взошла на нее в скромном, но эффектном обличии «Сына любви». Завещав похоронить себя в костюме барона Мейнау – главного героя драмы Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», великий Павел Мочалов в середине следующего, девятнадцатого века как бы предрек и ей вместе с собой уйти в небытие.
Надо отдать должное Коцебу: он умел строить интригу, выискивать бьющие по чувствительным сердцам ситуации, намечать характеры, приспосабливать к сцене взятую из жизни разговорную речь.
Откровенный честолюбец, бесстыдный приспособленец, добивающийся любыми средствами успеха, он был беспринципен и даже, как сказали бы теперь, беззастенчиво спекулятивен. Он не явился провозвестником или хотя бы приверженцем прогрессивных идей просветительской сентименталистской драмы. Но в целях собственного утверждения не раз пользовался ими, облекая их в сценически яркие, доходчивые формы. Образы несчастных, вольнолюбивых, разочарованных жизнью его героев порою обретали сценическую правду, вызывая сочувствие зрительного зала. Спекулятивная слащавость, которая, как правило, наличествовала в пьесах Коцебу, уходила на задний план, согретая подлинным, живым чувством исполнителей. Но для этого нужны были поистине большие актеры. Таким актером уже в те годы, о которых идет речь, был Яковлев.
Ролью Фрица начинался для Яковлева новый этап. Не случайно через несколько лет, когда ему будет дано право самому диктовать требования, дважды возьмет он «Сына любви» для бенефиса. Не случайно повезет его на единственные свои гастроли в Москву через двенадцать лет после первой постановки на петербургской сцене. «Яковлев попал тут собственным художественным инстинктом в свою колею… – скажет в середине XIX века Рафаил Зотов. – В немецких пьесах он впервые понял сам силу своего таланта, то есть, когда увидел возможность играть естественно и передавать зрителям глубокие чувства души, не становясь на ходули декламации».
В роли Фрица Яковлеву не нужно было натягивать на себя «благородную» личину, сковывающую свободу движений и мимику лица. Фриц был незаконнорожденный сын барона Нейгофа, продавший себя в солдаты. В драме, а не в трагедии главному герою было позволено оставаться естественным человеком. Причем человеком сильной воли, сумевшим защитить честь своей несчастной матери-крестьянки. Таким его и играл Яковлев.








