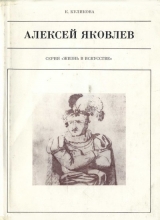
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
МОСКОВСКИЕ ГАСТРОЛИ
В Москву лучших актеров петербургского театра начальство решило послать в декабре 1807 года. В это время Яковлев жил в доме бывшего портного Кребса на Офицерской улице. Театральная дирекция приобрела этот дом у Кребса в 1805 году и приспособила под театральную школу. Дортуары воспитанниц размещались в нем на третьем этаже. На втором находились репетиционный зал, классы и спальни воспитанников. Там же жил главный хореограф театра Иван Иванович Вальберх с семьей. В нижнем этаже между дворницкой и прачечной поселился Яковлев. Переехав по каким-то причинам из дома Вальха, где еще оставались жить остальные актеры, он начал обособляться от них.
Из документов, подшитых в дела театральной дирекции, явствует, что к десятилетию службы своей на сцене Яковлев получил прибавку – 500 рублей в год. 3 февраля 1806 года «в уважение отличного таланта и усердной службы» жалованье его увеличили еще на 500 рублей. Таким образом, получая 2500 рублей в год, он сравнялся с самыми высокооплачиваемыми актерами русской труппы. Двумя годами раньше он добился перевода в Петербург друга своего Жебелева, которому 31 июля 1804 года был послан подписанный Нарышкиным следующий приказ: «Находящемуся в Москве актеру Григорию Жебелеву предложить со стороны оной конторы, что ежели желает он служить в числе российских придворных актеров в ведомстве сей дирекции на амплуа молодых любовников, то я согласен определить ему жалованье по штатному положению 1000 рублей в год и в уваженье известных его талантов назначить ему сверх жалованья двухгодичный бенефис».
Григорий Иванович немедленно согласился и вскоре прибыл в Петербург. Здесь в ноябре 1804 года и встретились снова старые приятели в заветном, по воспоминаниям юности, для обоих «Магомете», сыгранном на дебютном спектакле Жебелева. Только теперь роли их существенно переменились. Бывшая Пальмира превратилась в могущественного Магомета, а бывший Магомет обернулся юным возлюбленным ее Сеидом.
Разделив с актером Щенниковым роли молодых любовников лирического плана, Жебелеву случалось порой выступать и в качестве наперсников героя Яковлева. Верным наперсником его оставался Жебелев и в обыденной жизни. Но встречались они теперь вне театра не часто. Вскоре по приезде в Петербург Жебелев женился на выпускнице театральной школы. От холостяцкой жизни своего одинокого приятеля поотстал. Хотя по первому его зову являлся безотказно.
Впрочем, свободного времени в те годы у Яковлева было не так уж и много. По единственному сохранившемуся журналу, которые велись в начале XIX века театральной дирекцией, становится очевидным, что играть в сезон 1806/07 года Яковлеву приходилось много. Всего в тот сезон он сыграл 118 раз: 41 в трагедиях, остальные, как правило, в драмах и изредка в комедиях.
В журнале отмечено также, что особенно громкий успех он имел в трагедиях. Всеобщие рукоплескания, превращающиеся в овации, делил в основном с Каратыгиной. И только в озеровских пьесах – с Семеновой. Но слава Семеновой продолжала расти. Именно с Семеновой, о которой еще в 1805 году дошла весть в Москву как о «чуде», предстояло ему ехать туда и выступать в репертуаре, определенном дирекцией театра. Репертуар почти весь был составлен из пьес сугубо патриотического звучания. Представления таких пьес продолжало требовать время.
Поражение наполеоновских войск при Прейсиш-Эйлау, а затем русских при Фридланде закономерно привело к Тильзитскому миру, переговоры о котором начались между русским и французским императорами 13 июня 1807 года. Еще недавно именуемый во всех русских церквах «проклятым богом Боунапартием», Наполеон, войдя в сооруженный на плоту посередине реки Неман «чертог» со словами: «Из-за чего мы воюем?», через два часа вышел оттуда, обнявшись с «благословенным» тем же богом Александром I.
Новоявленные «братья-императоры» около двух недель вели переговоры и в присутствии свит, и наедине. Разговоры наедине позже историки нарекли «тайнами Тильзита». Среди государственных дипломатических тайн, по всей видимости, была и еще одна – более интимного характера. Наполеон дал согласие на отъезд из Франции своей бывшей возлюбленной знаменитой трагической актрисы мадемуазель Жорж, видеть которую в Петербурге, не без личных побуждений, жаждал российский монарх…
Союз с Францией Александром I был заключен. Но тревожная атмосфера в России не разрядилась. Временная передышка в битвах с наполеоновскими войсками сменилась войной со Швецией, а чуть позже – с Турцией. Патриотические страсти не угасали. Естественно, что в Москве только что построенный деревянный театр у Арбатских ворот дирекция хотела открыть «Димитрием Донским» и «Пожарским», для участия в которых главным образом и отправляла туда Яковлева с Семеновой.
10 декабря 1807 года Нарышкин издал приказ: «По предлагаемому у сего расчету назначенным на время в Москву театральным служителям, предлагаю отправить их туда. И по оному учинить им денежную выдачу». Из прилагаемого расчета видно, что Яковлев и Семенова должны были получить на прогон троек каждый по 69 рублей 18 копеек, на покупку кибиток по 300 рублей и на еду по 25 рублей.
Кроме двух драматических актеров в Москву отправлялись также танцовщики Вальберх, Огюст и танцовщица Колосова с мужем-музыкантом. Раньше других туда выехал Иван Иванович Вальберх. Из переписки его с женой да из газетных сообщений и черпаем мы сведения о том, как проходили гастроли Яковлева с Семеновой в Москве.
Приехав туда в десятых числах декабря 1807 года, Иван Иванович Вальберх был удивлен, что новый просторный и удобный Арбатский театр, созданный по проекту входящего в известность Карла Росси, для представления еще не готов. В старом же, переделанном из манежа на Моховой улице, «делать нечего»: «нет ни платьев, ни декораций, одним словом, качельный театр!»
«Крайне я теперь сожалею, – сокрушался он, – что приехал в Москву, потому что ежели Александр Львович не переменил свои намерения и послал сюда Колосову с братией, то мы принуждены будем танцевать в гнусном сарае, который тесен, холоден: одним словом, имеет все мерзкие достоинства… Театр дьявольски тесен… Пол будут переделывать, потому по этому полу ходить страшно, а не только танцевать…»
Но «Колосова с братией» уже были в пути. Среди «братии» находился и Яковлев со своим слугой Семеном. На несколько дней позже отправилась лишь Семенова. Остальные гастролеры выехали из Петербурга дружным караваном – кибитка за кибиткой, пять экипажей.
О самом путешествии из Петербурга в Москву актеров почти ничего не известно. Из переписки Вальберха с женой и дневника Каратыгина можно лишь узнать, что при прощании с провожающими (среди которых была чуть не вся русская труппа и множество театралов) на Средней Рогатке произошла «большая ссора» Яковлева с «полковым адъютантом конной гвардии» Жандром. Упоминают о ней Вальберхи неопределенными намеками: «Говорят, будто произошло нечто чудное и шумное»; «страшная история Яковлева с Жандром. Я очень рада, что не поехала провожать…» «Неужели Колосова тебе не рассказывала, это мне странно…»
Больше подробностей содержат письма Вальберха жене о самом пребывании петербуржцев в Москве. «Здесь также есть партии и кабалы пристрастия», – сразу же замечает он. Но на первых порах и он, и остальные приехавшие актеры настроены были оптимистично.
Все, кроме Яковлева (о том, где он жил, сведений не сохранилось), разместились у предприимчивого Силы Николаевича Сандунова. За время пребывания в Москве он сумел приобрести дом за Кузнецким мостом, «что у фонтанов», рядом с банями, носящими имя Сандунова до сих пор. Колосова и Семенова, по выражению Вальберха, устроились «основательно и хозяйственно». Поначалу, в ожидании выступлений, жили дружно. Ходили вместе с Вальберхом в Оружейную палату, в модный Данс-клуб. «Катенька и Евгения Ивановна от московской жизни толстеют», – не без умиления писал он о них. И уже с меньшим умилением сообщал, что петербургским актерам «никуда показаться невозможно», москвичи толпами ходят за ними, указывая на них пальцами: Вальберх, Огюст, Колосова, Семенова…
«Указывали пальцами» и на Яковлева. На него, по всей вероятности, даже чаще других. Выступлений петербургского премьера ждали в Москве с нетерпением. Начиналось своеобразное состязание его с превосходными актерами, имевшими в Москве много поклонников: Петром Плавильщиковым, Василием Померанцевым, Степаном Мочаловым (отцом будущего великого трагика). С нетерпением ожидал такого состязания и сам Яковлев. Москва, по его наблюдениям, жила «вольно, в свое удовольствие, и театром занималась серьезно», не то что в Петербурге, где столько «чиновников да гвардейцев», которым некогда углубляться в тонкости театрального искусства…
Впервые предстать перед московской публикой ему довелось через десять дней после приезда – 17 января в «Росславе». За «Росславом» последовали «Димитрий Донской» – 21 января, «Пожарский» – 24 января, «Отелло» – 31 января. Наряду с трагедиями играл он и в драмах: в «Гусситах под Наумбургом» – 8 февраля, в «Сыне любви» – 15 февраля. Коронные роли по требованию публики исполнил дважды: спектакли «Димитрий Донской» и «Отелло» повторили 3 и 10 февраля.
Принимали в Москве его шумно, с овациями, с громкими криками одобрения. Несколько позже появилась статья в журнале «Аглая», где говорилось, что «пример г-на Яковлева,игравшего некоторое время на здешнем театре, содействовал много развитию способностей актеров», что «г. Мочалов подражает ему весьма удачно, и мы желаем, чтобы он не переставал подражать столь хорошему образцу!»
Об успехе Яковлева после первых представлений писал в Петербург и Вальберх: «Яковлев вчера играл и принят с похвалой»; «Мы вскружили голову москвичам…»
Но «кабала пристрастий» начала теснить Яковлева и здесь. «Партерные кабалеры», как называл слишком пристрастных поклонников московских талантов Вальберх, хулили петербургского премьера так, что за него гневно вынужден был вступиться молодой Карл Росси. В дирекцию императорских театров, вопреки правде, кто-то упорно доносил, что Яковлев не имеет успеха, что его затмила Семенова. На это Вальберх с возмущением возражал: «Семенову здесь хорошо приняли, ровно как и Яковлева, правда, но тот солгал, кто разнес такие слухи… что она с ума Москву свела…», «Ее принимали хорошо, но не лучше Яковлева…»
Гастроли петербуржцев вообще проходили не так уж гладко. В новом Арбатском театре, ради открытия которого они прибыли в Москву и о котором сами отзывались как о «театре бесподобном», даже более красивом, чем петербургский Большой, выступить им не пришлось. Открылся театр 29 января, но не спектаклями, а маскарадом, более выгодным, по расчету московского театрального начальства, чем выступления актеров. Столичным же гастролерам пришлось довольствоваться ужином в ложе помер 32 у расстроенного Росси, который на открытии своего детища мечтал увидеть отнюдь не маскарад. «Мы, как комнатные собаки, – не без приправленной горечью иронии сообщал жене Вальберх, – имели везде свободный пропуск…»
До самого своего последнего спектакля, прошедшего 16 февраля, они играли в неблагоустроенном театре на Моховой. В театральном же здании у Арбатских ворот московское театральное начальство продолжало по воскресеньям устраивать маскарады, не продавая порой и трехсот билетов. Управляющий репертуарной частью Приклонский чинил петербургским актерам всяческие препятствия в отместку за то, что они сообщали Нарышкину о беспорядках и произволе, господствующих на московской сцене.
«Происки Приклонского подействовали, – возмущался Вальберх, – прислан приказ театр не открывать, а нам ехать на закрытие в Петербург… Спектакль был готов, декорации, театр, музыка, балеты, все к черту. Ложи все распроданы, да и на второй раз подписались вдвойне. Упросили здешнего главнокомандующего писать, что будто для здоровья опасно дать спектакль, а маскарады дают…»
По-видимому, не без содействия московского начальства со значительно меньшим успехом прошел 15 февраля последний спектакль, в котором выступали Яковлев и Семенова: «Сын любви». «Я так мало дорожу здешними вызовами, – с горечью признавался Вальберх на второй день, – что по обидам, которые чинили Яковлеву, нимало бы не огорчился, если меня и забыли..»
Наступил великий пост. В театре представления прекратились. Между гастролерами давно уже кончился безмятежный мир. Повздорив с Сандуновым вскоре после приезда, они разъехались на разные квартиры. И объединялись лишь в изменившемся отношении к Семеновой. Она успела поссориться и с петербургскими актерами и с московским начальством. Актеры перестали называть ее Катенькой, пеняли ей за «зависть», ворчали про себя, что «она забывается», что «ей довольно чести» хотя бы такой, когда с ней обращаются «не как с девчонкой, а как с товарищем». Семенова же ни с кем не собиралась считаться. И начала собираться в Петербург. Но тут неожиданно прискакал камердинер Нарышкина с приказанием остановить подготовку к отъезду и дожидаться его, Александра Львовича, прибытия в Москву…
Приехал он лишь в конце февраля одновременно с приятелем своим князем Гагариным. Всех обласкал, недовольных обнадежил, обещая переменить московских директоров. Петербургских актеров утихомирил сообщением, что уж больно дороги плохи, да и мороз «непомерный», пусть посидят еще в Москве. Семенова повеселела. Остальные гастролеры начали сникать. Все это явственно читается в строках и между строк писем Ивана Ивановича Вальберха, адресованных, как и прежде, в Петербург, «в дом театральной дирекции в Офицерской улице, что прежде был домом портного Кребса», жене, Софье Петровне Вальберх:
«…Не могу тебе сказать, когда мы отсюда выедем, хотя все желают, кроме Семеновой, ты знаешь почему! Прежде она более всех скучала, а теперь Гагарин здесь… Нарышкин со всеми Нарышкин… Думаю, что приезд его сюда будет пустой, он вместо дела здесь только объедается…
…Нарышкин часто бывает болен объедением, и от того мы остаемся в совершенном безвестии, когда отсюда выедем?..
…Сегодня Яковлев слышал и меня обрадовал… что нас оставляют чуть до святой…
…Ежели эта пустая головасказал бы уж, что мы должны здесь до открытия театра остаться, то, покоряясь судьбе и службе, взял бы свои меры, а то ни то ни се.
…Только что узнал, до какой степени большой барин может употреблять во зло знать свою…»
Пообъедавшись, попринимав лежа в постели актеров, Нарышкин отправил их наконец в середине марта в Петербург. Новый сезон они открыли уже в столице. Старая же Москва проводила их шумно обедами да попойками, одарив Семенову и Колосову драгоценными диадемами, а Яковлева, Вальберха и Огюста золотыми табакерками, на которых бриллиантовым блеском сверкали слова «за талант».
Не один драгоценный перстень был пожалован Яковлеву императорами. Но нигде мы не найдем воспоминаний о том, как отнесся он к высочайшим дарам. И куда исчезли они: были ли проданы за бесценок, потеряны или остались невыкупленными в закладе? Табакеркой же от московских зрителей, по воспоминанию Аксакова, он «ужасно возгордился». Табакерка, по словам Яковлева, была «знаком благодарности» от истинных знатоков. Стараясь забыть неприятности, пережитые в Москве, он хотел сохранить в памяти лишь признание таких знатоков.
Глава пятая
«ЗДЕСЬ НЕПРАВДА ОБИТАЕТ ЛИШЬ…»
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Петр Андреевич Каратыгин писал, что он хорошо помнит Яковлева, когда тому было лет тридцать пять. В это время Яковлев «часто бывал» в их семье. «Это действительно был необыкновенный артист, – утверждал Петр Андреевич, – умный, добрый, честный человек, но, к несчастью, русская широкая натура его была слишком восприимчива, и он… предался грустной слабости… По словам моего отца, эта несчастная страсть появилась у Яковлева после его поездки в Москву…»
Тридцать пять лет Яковлеву исполнилось в 1808 году. О более позднем общении Яковлева с семейством Каратыгиных Петр Андреевич не упоминает. И, по-видимому, не случайно. В этом году Яковлев съезжает на частную квартиру из дома, где помещалось театральное училище. Он совершенно отделяется от актеров. Начинает вести разгульную жизнь. Становится невыносимо дерзким с вышестоящими, молчаливо мрачным среди равных. Пытается забыться в вине.
Петр Андреевич Каратыгин объясняет пристрастие к вину, появившееся у Яковлева после приезда из Москвы, тем, что «там он попал в общество богатых и разгульных купцов, которые были в упоительном восторге от прежнего своего собрата». Подтверждает это и Рафаил Зотов, говоря, что не только в Москве, а и в Петербурге Яковлева «наперерыв звали из дома в дом… Яковлев должен был первенствовать во всех, этих собраниях… и вся честь угощения обращалась к нему…» Но Зотов видит и еще одну, более важную причину «усиления этой несчастной страсти»: «Яковлев испытал на себе все действия безнадежной любви».
Слова Зотова подтверждает и Жихарев, общавшийся с Алексеем Семеновичем с 1806 по 1816 год: «Правда, Яковлев имел пристрастие к крепким напиткам или, вернее, к тому состоянию самозабвения, которое производит опьянение, пристрастие, развившееся особенно в последние годы его жизни… Он не знал никакого вкуса в вине и не пил его, как пьют другие, понемногу или, как говорится, смакуя,но выпивал налитое вдруг, залпом, как бы желая залить снедающий его пожар…»
Объясняя, что это был за «снедающий пожар», Жихарев замечал: «Иногда он писал стихи, но они всегда отзывались слогом наших трагиков прошедшего столетия, хотя и заключали в себе сильное чувство и особенно заднюю мысльо той несчастной страстной любви, которая пожирала его существование. Эта мысль, которая, как ни тщательно он хотел скрыть ее, проявлялась почти во всех его стихотворениях, даже и в шуточных, написанных им в последние годы». И для примера Жихарев приводил одно из них, не вошедшее в изданный сборник:
Если по льду скользя,
Не упасть нам нельзя —
Как же быть,
Чтоб с страстьми человек,
Не споткнувшись, свой век
Мог прожить?
Поневоле кутнешь,
Иногда и запьешь,
Как змея
Злая сердце сосет,
И сосет и грызет…
Бедный я!
Говоря о Яковлеве, он негодовал, возмущался теми, кто прилепил к «памяти актера, славе нашей сцены» ярлык «гуляки и горлана». Жихарев видел в этом «умышленное уничижение величайшего таланта, который когда-либо являлся на нашем театре и, может быть, не боюсь вымолвить, на театрах целого света». Он требовал, не защищая недостатков любимого актера, разбирать Яковлева «как человека, всего», «со всем беспристрастием», вникая в причины его «слабостей». «Этого требует не одна поверхностная снисходительность, но самая справедливость и человеколюбие», – утверждал он. Особенно если речь идет об умершем актере, у которого нет другой защиты, «кроме справедливых о нем отголосков его современников!»
«Разбирать» Яковлева «как человека, всего», «со всем беспристрастием», прислушиваясь к пристрастным отголоскам его современников, обязано и наше время. И прежде чем рассказать о дальнейших событиях в его жизни и творчестве, попытаемся из беглых порою упоминаний, восхищенных возгласов и сокрушенных упреков воскресить человеческий облик актера, не вуалируя его противоречий и сложности.
Природа дала ему многое. На этом утверждении сходились все, кто писал о Яковлеве: и самые ярые приверженцы актера, и не менее яростные его недоброжелатели.
– Наружность его была прекрасна… Открытый лоб, глаза светлые и выразительные, рот небольшой, улыбка пленительная, память он имел необычайную, – вспоминал Жихарев.
– Талант огромный, – вторил ему куда менее восторженно относившийся к Яковлеву Аксаков, – одаренный всеми духовными и телесными средствами.
Даже желчный Вигель, и тот не мог не признать:
– Природа дала ему все: мужественное лицо, высокий стройный стан, орган звучный и громкий.
Почти все, кроме Вигеля, писавшие о Яковлеве, сходились и на другом: он был необыкновенно добрый и честный человек. Не повторяя одних и тех же определений, вот что можно уловить в этом смысле из высказываний знавших Алексея Семеновича:
– В основании характера этого человека много лежало благородного и прекрасного.
– Яковлев всегда отличался… умом и благородством характера.
– Яковлев имел много неприятелей (как то бывает со всеми людьми с дарованиями), но не ненавидел их; много имел завистников, но не презирал их: вот истинный оселок добродетели…
– Природа наделила его добрым сердцем.
Сохранилось немало рассказов, как он, не задумываясь, отдавал последнюю копейку приятелю, одаривал ошеломленных нищих десятком рублей, на свои средства воспитал подброшенного ему ребенка, «ходил в тюрьмы к узникам и разделял с ними последнее достояние свое». Как стремился помочь каждому «страждущему», причем делал это втайне, и «очень не любил, чтобы упоминали об этом».
Он был доверчив, бесхитростен, искренен. Бесчисленные воспоминания о Яковлеве полностью подтверждают слова Жихарева, на которого опять стоит сослаться, ибо никто с такой полнотой не охарактеризовал этого редкостного человека: «Он был умен (не говорю, рассудителен), добр, чувствителен, честен, благороден, справедлив, щедр, набожен, одарен пылким воображением и – трезвый – задумчив, скромен и прост, как дитя…»
Мы мало знаем о том, каким он был в юности. Большинство рассказов о его жизни относится к периоду между 1807 и 1813 годами, когда был он уже в поре мудрой для всех людей зрелости и громкой славы, добившись того, что к нему относились с уважением большинство актеров и многие истинные любители театра.
«Из русских актеров, – вспоминала приобщавшаяся в десятые годы к театру Александра Егоровна Асенкова, – первенствующей личностью был тогда славный трагик Яковлев, обладавший колоссальным талантом и весьма редким в то время образованием, что дает ему перед всеми большое преимущество, которое он сознавал вполне, и, будучи притом еще самолюбив, держался поодаль от всех товарищей по искусству. К этому особенно побуждало его общее уважение артистов, чтоб не сказать подобострастие, дружеское обращение директора и многих случайных людей того времени, очень уважающих его огромное дарование…»
По сравнению с другими актерами, многие из которых ничего не читали, кроме ролей, и с трудом подписывали свою фамилию, Яковлев беспрестанно занимался самообразованием и впрямь мог казаться им «мужем ученым». Впрочем, не только им. Вопреки мнению окончившего университет Плавильщикова (и несомненно ревниво относившегося к успеху петербургского премьера), что Яковлев «неуч», ряд воспоминаний свидетельствует о другом. Он много и углубленно читал, его влекли к себе книги философские и исторические, он пытался проникнуть в их суть, постоянно возвращаясь к проблемам бытия и смерти, поверяя прошлое настоящим, ища в истории сравнений для текущих дней.
Получая довольно высокое жалованье, он жил скромно, в холостяцкой квартире, с неизменным слугой Семеном, которого с ласковой усмешкой называл на латинский лад Семениусом. Толстый добродушный Семениус, ленивый и плутоватый, приносил для Яковлева и его гостей обеды из кухмистерской, потчуя их одновременно несусветным враньем, чем несказанно забавлял Яковлева. Сочинявший по каждому поводу стихи, Яковлев написал как-то для своего верного «Ричарды» эпитафию, которая рисует дружеские отношения окруженного славой Первого придворного актера и его слуги:
Под камнем сим лежит Семениус великой,
Кто невозможному служил живой уликой…
Неуютным, неустроенным выглядело для посторонних жилье актера, одиноко сидящего с книгой на диване около небольшого, покрытого цветной скатертью столика. С малознакомыми людьми Яковлев сходился трудно, больше слушал, изредка задавая скупые вопросы, и с напряжением, пытливо оценивал про себя ответы на них. Впервые увидевший его восемнадцатилетний Жихарев был удивлен, даже поражен тем, что подобный «огненному вулкану» на сцене актер имеет в жизни такую задумчивую физиономию и «говорит как бы нехотя и, кажется, вовсе не думает о том, что говорит», а только испытующе смотрит и слушает.
Жихарев сразу сделал вывод, показавший немалую его проницательность в оценке людей: «Несмотря на угрюмость его, он должен быть одарен прекрасными качествами души и сердца». Только одно неприятно поразило молодого человека, вращавшегося в светском обществе: Яковлев пренебрегал своим туалетом. Волосы всклокочены, галстук завязан кое-как, черный сюртук как будто шит не по мерке: узок и рукава очень коротки – точно он из него вырос; из кармана вместо носового платка торчит какая-то ветошка. «Словом, – в изумлении подумал Жихарев, – в костюме его заметна чрезвычайная небрежность и даже отсутствие приличия».
Чуждым внешним условностям, погруженным в нелегкие думы выглядит Яковлев и в других описаниях современников. Он постоянно размышлял о добре и зле, противоборствующих в человеке. Искал примеров в древности, чтобы найти ответ на мучающие его вопросы. Не давал себе права жить бездумно, беря лишь блага, дарованные природой. Он склонен был к философским обобщениям, часто думал о несправедливости, окружающей людей. И пытался выразить все это в той же далеко не безупречной стихотворной форме:
Но увы! на наше горе,
С языком сердце в раздоре,
Нет и средств их примирить;
Справедливость, дружба, братство
Суть одни слова: лукавство
Их внушает говорить.
Кто же этому виною,
Что от правды мы бежим,
Чистым сердцем и душою
Редко с близким говорим?
Злато, зависть, гордость, слава
Чистоту затмили нрава,
Покорив народный дух;
К цели всяк своей стремится,
О себе лишь суетится,
А для ближних – слеп и глух.
В запальчивости идеализируя древнее прошлое, Яковлев противопоставлял его царствованию Александра I и уверял:
О! Когда б с чудесной силой
Аристида пробудить,
G тем, чтоб сей мудрец правдивый
Согласился вновь пожить;
Он, увидя наши нравы,
Образ жизни и забавы,
Верно б, горько зарыдал,
Подражая Гераклиту,
Иль, подобно Демокриту,
До удушья б хохотал…
Яковлев сокрушался, что при дворе Александра I нет людей подобных Долгорукову, который «правду силе говорил» и которым гордился Петр I: «истину монарх любил!». Да и сам Александр I, по его мнению, не относится к тем, кто, «приобретя к бессмертию права» и «блистая на престоле»:
Удаляет сонм лукав
Царедворцев, склонных к лести,
Но в народе к благу, к чести
Мудрых чтит, как свой венец…
А только такой «скиптровладелец» может быть, по утверждению Яковлева, «друг людей и благодетель», и «народу он отец».
С упорством стремился понять он смысл высказываний немецких мыслителей-романтиков – И. Юнг-Штиллинга и К. Эккартсгаузена. И, признаваясь, что многое не понимает в их усложненной, наполненной мистическими размышлениями философии, снова и снова бросался к своим настольным «вечным книгам»: Библии и жизнеописаниям Плутарха. Но и там в смятении не находил непреложных истин. Он искал бога «вездесущего и незримого» в себе, стремился постигнуть в своей душе начало начал добра и зла, но тут же восклицал:
Горы не можно дланью сдвинуть,
Не может тварь творца постигнуть
И тщетно силится к тому;
Дух, в бренной плоти заключенный,
Проникнет ли в чертог священный
К отцу, к началу своему?
Его страстная вера в бога, в доброе начало человека была близка не менее страстному безверию, ибо он все подвергал сомнению. Он сам был противоречив, многогранен. И слишком далек от христианского завета всепрощения. Он казался тихим, задумчивым, «как дитя». Но порою становился дерзким бунтарем, преступающим все законы приличия и канонизированные верования. И в своей вере и в своем безверии он повсюду оставался максималистом, как и в своем страстном чувстве однолюба.
Будучи от природы человеком застенчивым, самоуглубленным, он в то же время был лишен всякого рационализма. «Минута решала у него все», – признавали близко знавшие его. А такие минуты наступали чаще всего в состоянии опьянения. Тогда и давали знать себя те «эксцентрические поступки», которые, по словам многих, не сошли бы с рук никому, кроме Яковлева. В этих поступках с особой широтой проявлялись и присущая ему чисто русская щедрость, и сопутствующие в опьянении ее уродливые «тени» – бесшабашное удальство, самолюбование, неудовлетворенное тщеславие.
Чувство непрестанного самоутверждения, присущее большинству людей творческих профессий, нередко лежало в основе поступков Яковлева. И если в трезвом состоянии он загонял его вглубь, в самого себя, то в состоянии опьянения оно дерзко вылезало наружу, принимая порой искаженные, нелепо подчеркнутые формы. «Самолюбие – чертов дар», – говорил, имея в виду себя, сам Яковлев. Оно несомненно заставляло его творчески совершенствоваться. Но оно, так же несомненно, и будоражило о нем скандальную молву.
То и дело возникали слухи о «диком и неистовом» Яковлеве.
Так, рассказывали, что позвал его однажды к себе сам митрополит почитать монологи из трагедий. И тут же, будучи в восторге от чтения актера, начал наставлять его на путь истинный, говоря о грехах пьющего человека. Яковлев заплакал, чем умилил растроганного проповедника. А затем с насмешливым вызовом попросил от удовлетворенного исполнением своей миссии митрополита стакан «пуншика».
Среди театралов быстро разнесся слух и о том, как срезал подобным образом Яковлев считавшего себя непререкаемым наставником актеров Гнедича. Увидев, что на одной из репетиций одинокий и задумчивый Яковлев сидит еще «натощак», Гнедич вздумал читать ему нотацию:
– Стоит ли искажать свой талант, дар божий, неумеренностью и невоздержанием? Ну, признайтесь, не правда ли?
– Правда, – вздохнув, согласился Яковлев. – Совершенная правда. Гадко, скверно, непростительно и отвратительно!
Тут же подошел к буфетчику, да и попросил:
– Ну-ка, братец, налей полный, да знаешь ты, двойной.
И осушив залпом стакан травника, не без вызова громогласно обратился к Гнедичу со словами из монолога переведенного тем вольтеровского «Танкреда»:
Пусть растворяют круг для соисканья славы,
Пусть выйдут судии пред круг сей боевой,
О, гордый Орбассан, тебя зову на бой!
«Мы так и померли со смеху, – рассказывал Жихарев. – Кажется, что Гнедич с этих пор будет следить за игрою Семеновой дома, а в театр на репетицию больше не приедет».
Многие в городе были свидетелями и того, как, рассорившись с Семеновой, он в ответ на какую-то очередную ее дерзость «пришел в бешенство» и выбежал перед самым спектаклем из Малого театра Казасси на Невский проспект как был – в костюме античного героя. «День был летний, праздничный, – рассказывала А. Е. Асенкова. – Улицы были наполнены пешеходами и экипажами. Можно себе представить изумление народа, когда на Невском показался богатырь, почти исполинского роста, закованный в блестящие доспехи, в пернатом шлеме с поднятым забралом… Народ валил за ним стеной, как за чудом..»








