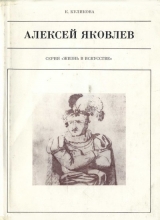
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
ЦАРИЦА ИЗ КРЕПОСТНЫХ
Яковлев и Семенова… На их отношениях необходимо остановиться, потому что за глубинными причинами их конфликтов стоят и противоположные типы человеческих характеров, и различные сценические дарования, и непохожие друг на друга жизненные принципы.
Екатерина Семеновна Семенова была, по идеалам того времени, красавица. Ее уподобляли греческим богиням, неизменно воспевая ее лицо, похожее на древнюю камею, ее тело, подобное торсам античных статуй. Густой синеве ее огромных глаз сочиняли мадригалы. Обаянию мелодичного голоса поддавались даже недруги. Богатству ее артистического воображения, умению вживаться в изображение страстей, величавости поступи и жестов, неизменной ровности исполнения ролей при наличии пылкого темперамента удивлялись все современники. Знатные театралы, сидящие в первых рядах кресел, неизменно выказывали ей свое благоволение, даже уважение. Это ей-то, актрисе из крепостных, нарушившей закон добродетельных устоев.
Сценическая репутация ее была безукоризненной. О том неустанно пекся и бывший с ней в близких отношениях Гагарин, и приятель его Мусин-Пушкин, и дружившие с ними Оленин с Гнедичем, и многие другие, действительно тонкие и умные «образователи» русских талантов.
Сценической репутацией дорожила и сама Семенова. Она сумела поставить себя в такое положение, что любые неблаговидные о ней слухи замерзали на лету под надменным взглядом ее глаз. Всякую фамильярность, столь свойственную в отношениях молодых театралов и театральных девиц, она изничтожала брошенным на ходу высокомерным и презрительным: «Чего-с?» Поставившая себя в исключительное положение среди актеров, эта театральная царица из крепостных обладала способностью со всей «свирепостью» осадить недорослей из дворян любого знатного рода.
Во всем она была противоположна Яковлеву. Если тот жил широко, не заботясь ни о меблировке, ни об одежде, то квартира Семеновой, обставленная князем Гагариным (сам он, будучи вдовцом, жил вместе со своими детьми в другом доме), была средоточием богатых и изящных вещей. Не менее роскошными были наряды Семеновой. Даже на репетиции приходила она, увешанная жемчугами, в дорогой турецкой шали, со сверкающими бриллиантами кольцами, которых, по воспоминаниям современников, на пальцах ее было «больше, чем на московской купчихе в праздничный день». Может быть, все это и не говорило о большом вкусе и чувстве меры. Но все это свидетельствовало о том обостренном самоутверждении, которое у нее проявлялось во всем.
Поставив себя в особое положение, она почти не общалась с актерами: никогда, кроме пребывания в Москве, не жила в одном доме, избегала внекулисного общения с ними. И если Яковлев приближал к себе всех, кто попроще, победнее, повеселев, то Семенова вращалась в кругу самом избранном, утонченном, светском. Правда, мужском. Женщины из этого общества предпочитали ей аплодировать из абонированных лож, в лучшем случае они могли пригласить ее для участия в домашнем концерте, но принимать ее в своих салонах, естественно, не стали, как и наносить визиты в ее богатую квартиру на аристократической Миллионной. Но Семенова пока что и не нуждалась в их обществе. Пока что… Наступит время, когда к дому Семеновой, ставшей княгиней Гагариной (через восемнадцать лет незаконной связи она добьется своего), покатят в изящных экипажах благородные дамы. Будучи же актрисой, Семенова умела обходиться и без их визитов.
Она «высоко поняла предназначение актрисы». Не растрачивала дни в праздности и лени. Упорно развивала талант. Ее окружали не светские шалопаи, а люди образованные, влюбленные в театр, бескорыстно отдающие себя ему. Из общения с ними Семенова выносила огромную пользу. Она училась у них, не теряя самобытности. И, взяв у каждого полезное для себя, осталась «великой и неповторимой Семеновой».
Не прослужив на сцене еще и десяти лет, она уже заставила Яковлева поделить трагедийный трон. На что он шел в высшей степени неохотно. И не потому, что боялся потерять единодержавие на сцене. Он был достаточно ярок и талантлив, чтобы бояться успеха молодой партнерши. Положение его до 1813 года было прочным. И неприятие Семеновой вряд ли было обусловлено его завистью к ней.
Конечно, немалую роль играло в его антипатии к ней то, что Семенова в значительной мере вытеснила из репертуара Каратыгину, на страже интересов которой неустанно стоял Яковлев. И все-таки конфликт между Яковлевым и Семеновой был глубже.
Нельзя согласиться с некоторыми исследователями, что у Семеновой, в отличие от Яковлева, не было определяющей творческой темы. Такая тема была: утверждение достоинства женщины, воспевание гордости и цельности ее характера. По воспоминаниям современников, Семенова, будучи непохожей на «бездушную Жорж» (которая, по ее собственным словам, «деревянила» роли), всегда вкладывала в них душу: душу гордой, страстной, сильной женщины. С Яковлевым ее рознило другое. Героини Семеновой возвышались над окружающей средой, но не противостояли ей в трагическом одиночестве, как противостояли герои, наиболее любимые им. Даже в самых острых конфликтах чувства и долга, при самых трагических исходах сценические создания Семеновой были целостными, лишенными сложной двойственности, непонятости окружающими, столь характерных для героев Яковлева. Ее героини, как правило, восхищали, но не вызывали тех чувств у зрителей, которые заставляли после спектаклей с участием Яковлева восклицать, как делал это Жихарев:
– Милая Семенова, вы бесспорная красавица, бесспорно драгоценная жемчужина нашего театра, и вами не без причины так восхищается вся публика, но скажите, отчего я, профан, не плачу, смотря на игру вашу, как обыкновенно плачу я по милости товарища вашего Яковлева?..
Любимые Яковлевым герои были всегда дисгармоничны. Героини Семеновой отмечены печатью гармонии. Игра Яковлева была вдохновенной, но неровной. Семенова постоянно стремилась к совершенству. Оставаясь самой собою, она в то же время легко подчинялась в чем-то неизменным и в то же время меняющимся под влиянием времени трагическим канонам.
Восприняв от Дмитревского величавую простоту пластики и декламации классицистского искусства, она проявила много страсти и огня в исполненных лирическими чувствами предромантических «несовершенных трагедиях Озерова», которые готовились под руководством Шаховского. А затем, увидев Жорж, пошла, по ироническому выражению Яковлева, «на выправку» к Гнедичу, чтобы в совершенстве овладеть поэтической ритмикой стихотворных строк. Начав с послушного «выпевания» стихов на занятиях с Гнедичем (он расписывал ее роли, как в свое время это делал Расин, по нотам: указывая повышения, понижения голоса, его тональности), она, в конце концов мастерски овладев ритмикой монологов классической трагедии, подчинила ее своему пониманию образов.
Яковлев никогда не знал, как будет играть на спектакле. Семенова могла, отдавшись вдохновению, изменить какую-то мизансцену на спектакле, но всегда оставалась верной принятому и продуманному рисунку роли. Насколько легко ему было играть с Каратыгиной, насколько естественно было его противоречивым героям любить ее нежных героинь, настолько величавые, гордые красавицы Семеновой были чужды ему.
Семеновой с ее стремлением к целостности образов, к выдержанности стилевых законов тоже нелегко было существовать рядом с Яковлевым на сцене.
На протяжении всей жизни Яковлева непрестанно упрекали в том, что он не выдерживает «стиля». В классицистской трагедии его неуравновешенные герои взывали не к умам, а к сердцам зрителей, внушая сострадание там, где должны были бы, согласно классицистской эстетике, возбуждать страх. В сентименталистской мещанской драме служили предметом для нападок, явно не укладываясь своим бунтарским трагизмом в ее чувствительные рамки. Роли трагических порочных героев всегда усложнялись им и тем самым облагораживались. Роли несчастных жертв приобретали ярко выраженное протестующее начало.
Трактовка пьес, соотношения главных героев, которых должны были воплощать Семенова и Яковлев, у них не могли совпадать. Им было тяжко друг с другом на сцене. Не легче им было друг с другом в жизни.
Неприкаянным, одиноким, то погруженным в невеселые раздумья с поникшей головой, то не знающим предела в неистовой дерзости, остался в памяти современников простодушный, гостеприимный, добрейший Яковлев. Блестящей, надменной, величавой красавицей, окруженной толпой высокообразованных почитателей, подлинной царицей петербургской сцены запечатлелась в многочисленных воспоминаниях Екатерина Семенова.
Слава его была в зените. А дальновидный Шаховской, ошибившись в Щенникове, еще в самом начале десятых годов начал искать Яковлеву нового преемника. И нашел в лице бедного сенаторского регистратора Якова Григорьевича Григорьева, взявшего для сцены более благозвучную фамилию – Брянский. Увидев в нем «сущий клад, сокровище», легко увлекающийся Шаховской с восторгом предрекал:
– Вот увидите, что из него выйдет!
– А выйдет то, что бог даст, – охлаждал Шаховского трезво на все смотревший его приятель Иван Андреевич Крылов, живший с князем в одном доме. – Только с этим талантом надобно поступать осторожно… Заставь-ка его выучить роль Тита или Тезея и пусть себе разглагольствует, пока не созреет для ролей страстных…
Князь Шаховской на первых порах так и поступил. Добившись принятия Якова Брянского в российскую труппу с жалованьем 400 рублей и казенной квартирой, он включил в предложение конторе дирекции, подписанное Нарышкиным, и еще одно условие, «чтоб он для образования своих способностей находился при театральном училище, куда и имеет он являться для изучения декламации, танцам, пению и фехтованию».
Приказ Нарышкина был подписан 22 августа 1811 года. А 7 сентября состоялся первый официальный дебют Брянского на сцене Кушелевского театра, где дебютант выступил в так называемой молодой русской труппе, которую сформировал из старших учеников театрального училища Шаховской. Выступил он не в трагедии, а в коронной комедийной роли Яковлева – «влюбленного Шекспира».
«Брянский, – вспоминал потом Жихарев, – несмотря на сравнение с великим нашим актером, которое его ожидало, имел отличный успех… Игра Брянского… нравилась и самому Яковлеву, который был чужд зависти, принимая радушное участие в успехах молодых талантов, и готов был уступить им роли, если они находили их по своим силам». Лишенный яркой индивидуальности Брянский постепенно становился основным партнером Семеновой. И соответствовал на сцене ей гораздо больше Яковлева.
Совместные же выступления Семеновой и Яковлева, как правило, приносили мало радости обоим. Молодая актриса относилась, вопреки другим собратьям, к Яковлеву крайне «непочтительно», «даже высокомерно». По воспоминаниям А. Е. Асенковой, «между ними были беспрестанно неудовольствия, принявшие впоследствии характер открытой вражды». Конфликты принимали сенсационный характер. Семенову не любили многие актеры. Сказанное о ней острым на слово Яковлевым молниеносно становилось всеобщим достоянием. Это ему приписывали произнесенный кем-то о Семеновой каламбур: «Она может быть первой любовницей, может отличаться в „Сыне любви“, в „Ненависти к людям“, – но амплуа благородных жен и матерей не по ее части!»
Семенова платила ему еще большей неприязнью. Неприязнь ее усиливала недовольство Яковлевым покровительствующих ей вельмож и восторгающихся ее талантом знатоков театра.
Какое уважение, какая забота о Семеновой чувствуется в письмах Оленина и Гнедича, сохранившихся в архивах. Для своей «кумушки» (Оленин крестил незаконнорожденного ребенка Семеновой и Гагарина) он «истощал все свои знания», создавая костюмы и отсылая эскизы их в «особо запечатанном конверте». Прося Гнедича вручить ей пакет, он предупредительно просил ей передать, что сам «к ней будет». Гнедич же, любя Батюшкова, отказывал тому в гостеприимстве, хотя и понимал, что обоим им было бы от совместного пребывания хорошо «и по приятности… и по выгодам жизни». «Не позволяют обстоятельства, – объяснял он Батюшкову, – ибо у меня бывают тайные театральные школы с людьми, которые не хотят иметь к тому свидетелей, хотя свидетельства о сем весьма ясны, ибо Семенова в Гермионе превзошла Жорж…»
Как не похоже все это на отношения тех же Оленина и Гнедича к Яковлеву. Гнедич полупрезрительно объявляет Яковлева «плохим судьей» в театральных делах. Оленин, разозленный непокорностью Яковлева, с недоброй усмешкой заявляет, говоря об «актерах», но имея в виду его:
– Мне приятно видеть в князе Шаховском ревность к защищению начальнического его достоинства и посрамленных, как он говорит, актеров. Мне бы желательно было в нем видеть ту же ревность в наказании актеров… также начальническую свою власть, когда они бурлят… Сижу я как вкопанный и удивляюсь про себя, с одной стороны, наглостию, а с другой – терпением…
И с еще большей усмешкой сетует, процитировав реплику из крыловского «Трумфа», что бурливого Яковлева и на дуэль-то вызвать нельзя, «ибо он, как актер, в таком случае скажет: „Вить деевянную я спагу-то носу“».
Яковлев действительно носил лишь деревянную шпагу. На разрешение Павла I носить придворным актерам дворянскую шпагу во времена Александра I смотрели как на одно из чудачеств почившего в бозе императора. Защищать свою честь актер мог лишь словами и в крайнем случае холопским способом… кулаками. Что и делал порой, не без бравады, Яковлев, в пылу закипавшего в нем бешенства, не разбирая, с кем имеет дело: с обругавшими его извозчиками, с насмешничающим над ним или Каратыгиной своим братом-актером или с ядовито поучающим его театралом, вставшим на защиту «бедной» Семеновой.
«СМУТНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ РУССКОГО ТЕАТРА»
На многих спектаклях патриотического звучания публика продолжала устраивать ему овации. Но он уже познал обманчивую цену ее рукоплесканий и ее хулы.
Публика…
«Что такое наша публика? – воскликнет через несколько лет Пушкин. – Пред началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми.
– Откуда ты?
– От Семеновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой.
– Как ты счастлив!
– Сегодня она поет – она играет, она танцует, – похлопаем ей – вызовем ее! Она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..
…Можно ли полагаться на мнения таких судей?»
Нельзя полагаться, по мнению Пушкина, и на других зрителей. На тех, кто «в заоблачных высях» душного райка готов прийти в исступление от «громкого рева» трагических актеров. И на тех, кто, явясь из казарм и совета, сидит в первых двух рядах абонированных кресел. «Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий, сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль, – вопрошает Пушкин, – необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души, если природа одарила их душою?»
Природа одарила Яковлева щедрой и пылкой душою. Его игру почти за два десятка лет пребывания на сцене не раз охлаждала «однообразная печать скуки, спеси, забот и глупости» на лицах сидящих у самой сцены сановных зрителей.
Правда, был еще высоко ценимый им партер… Именно оттуда, с рублевых сидячих и стоячих мест больше всего аплодировали «несравненному Яковлеву». Но за эти рукоплескания, за восторженные крики оттуда и попадало ему больше всего от рафинированных театралов. Его считали актером плебеев, чуждым, по словам Вигеля, «двору, лучшему обществу», тем людям, которые видели «лучшие образцы». Яковлев играл, с презрением уверял Вигель, перед многочисленной толпой, в которой «самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе простонародью, даже к черни… Как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант?» – восклицал он. И не без циничности признавался, что самому-то ему «случалось быть в немецком и русском театре… очень редко», «что страсть к французской сцене» доходила в нем «до безумия», что там была «вся услада», все «утешение» его жизни.
«Как легко и как несправедливо бывает, – с горечью возражал Яковлев в ответ на подобные упреки, – суждение о человеке издали, без сведения об образе его мыслей, о его чувствованиях и склонностях. Как легко сказать: „Играет с некоторым небрежением“, „не очень хорошо представлял“ и пр. Как легко можно тем обидеть; но как трудно доказать сие без совершенного знания театрального искусства…»
«Совершенное знание театрального искусства» знатоки из стана противников Яковлева, как неоднократно уже мог убедиться читатель, видели в совсем ином, во что веровал он. «Непонятым и опередившим свой век актером», которому хлопал «площадной партер», с иронией назвал Яковлева с ненавистью воспринявший новые веяния русского театра в середине XIX века Вигель. В исполненных яда словах была своя правда. Яковлев многими, даже рукоплескавшими ему, был не понят и действительно опередил свой век.
Трагедия одиночества находящегося в славе актера усиливалась общей обстановкой в театре.
1812 год подвел печальный итог «прекрасных дней прекрасного начала» царствования Александра I. Аракчеевщина мутной паутиной обволакивала жизнь русских людей. Усиление казарменного духа проникало всюду, и прежде всего в придворные департаменты. Даже театр, который никогда не жаловал полуграмотный временщик, начал подчиняться ему. Увеличилось количество арестов служителей сцены.
5 октября 1813 года дирекцией был издан унизительный для них приказ: «О произвождении посылаемых на квартиры к актерам и актрисам для содержания их под арестом в домах за неисполнение должности и другие проступки унтер-офицерам порционных денег каждому по 1 рублю на день, вычитая оные из жалованья содержащихся под арестом».
Творческая жизнь театра оказалась приторможенной. Репертуар, за исключением ультрапатриотических поделок, почти не обновлялся. В 1813 году Яковлев один раз сыграл в «Марии Стюарт», два раза в «Отелло», много раз в пьесах Коцебу, получивших второе рождение, и в других, прежде игранных, изживающих себя драмах. И, конечно, в «Пожарском», «Димитрии Донском» и снова в «Пожарском» (его повторяли особенно часто), от беспрерывной декламации в которых он начал уже уставать…
В октябре, на второй день после приказа об унтерах, посылаемых к арестованным актерам, он исполнил роль Антиоха в трагедии «Маккавеи», взятой П. А. Корсаковым, как извещали афиши, «из священного писания» и показанной на бенефисе Каратыгиной. 9-го сыграл Пожарского. Потом две недели вообще не выступал. В трагедиях «Смерть Роллы», «Дебора» и в драме «Лиза, или Следствие гордости и обольщения» главные роли сыграл вместо него Мочалов.
Жизнь Яковлева обессмысливалась все более и более… «24 октября был смутный день для русского театра, – зафиксировал в своей летописи Пимен Арапов. – Во время представления в Малом театре „Недоросля“ Фонвизина среди зрителей мгновенно разнеслась весть, что только что перерезал себе горло лучший актер российской сцены Алексей Семенович Яковлев».
– Эта грустная катастрофа, – вспоминал Петр Андреевич Каратыгин, – в тот же день сделалась известна всему Петербургу.
Петербуржцы сообщали грустную весть москвичам: «Здесь перехватил себе ножом несколько жил под горлом лучший актер Яковлев…» «Кажется, он уже и умер, ежели верить, что пришедшие ко мне сейчас говорят. О нем все сожалеют…» «Актеру Яковлеву легче. Надеются даже, что повреждение горла не так велико, чтоб он не мог более по-прежнему играть на театре…»
Причины объясняли по-разному. Чаще всего очень романтично, связывая их с именем Каратыгиной:
– Бредил одной ею и… в припадке отчаянья решился положить конец своим страданиям самоубийством. Он долго обдумывал свое намерение и за несколько минут до того, как его исполнить, написал стихи…
– Разгульная жизнь была единственным противоядием любви… Припадки меланхолии были ужасным следствием этого образа жизни. К счастью, бритвенный порез был не очень глубок..
– Делая добро, утешая других, Яковлев всех более имел нужду в помощи и утешении, несчастная страсть терзала его сердце…
Для всех этих предположений были, вероятно, основания. Это подтверждается признанием самого Яковлева Григорию Ивановичу Жебелеву незадолго до его неудавшегося самоубийства. Разговор в передаче Григория Ивановича звучал приблизительно так:
– Жебелев, я очень несчастлив!.. Болезнь душевная неизлечима! И терзанию моему нет лекарства… Сколько счастливее меня ты, Жебелев! Ты имеешь супругу, детей. Тебя зовут мужем, отцом!
– Кто же мешает тебе жениться, если находишь в том счастье?
– А где найду другую, где найду подобную душу, сердце? Все думают, что я погряз в пороке и жадности к нему. Люди обыкновенно судят по наружности и самые невинные чувства представляют порочными. Кто видит, как мучительно я провожу ночи, как мрачны для меня дни. Часто, очень часто, сидя один дома, прихожу я в ужасное отчаянье. Дом мой мне кажется пустынею…
Но была и еще одна, может быть самая серьезная, причина, которая привела актера 24 октября 1813 года к катастрофе. О причине той свидетельствует письмо Аракчееву (этой «правой руке» Александра I, по выражению самого императора) генерал-майора Степана Творогова, с пометкой на конверте: «собственноручно».
Легким, светским тоном уведомлял Творогов своего грозного адресата о следующем: «Театр всякий день, и множество новых пьес, содержащих в себе события нынешних великих дел, представление героев и героических подвигов». Подготовив таким образом всесильного подручного императора к тому, что под вновь введенной охраной унтеров в храме Мельпомены обстоит все благополучно, Творогов между прочим замечал: «Славный наш актер Яковлев, по строгости в дисциплине службы Александра Львовича, посажен под караул для вытрезвления, но он, быв в амбиции великой, не мог переносить сего унижения, чуть не зарезался было, ускорили не допустить, но со всем тем поранил шею себе и теперь болен. Вот наши городские новости…»
Действительно ли для «вытрезвления» или по иной причине был посажен под унизительный арест Яковлев, определить, не имея в руках других доказательств, кроме письма раболепствующего перед временщиком Творогова, не представилось возможности. Под арестом Яковлеву приходилось бывать в молодые годы не раз: за «дерзость» начальству, за отказ от роли. Но, так или иначе, Аракчеев мог быть доволен: «строгость в дисциплине службы» Александром Львовичем Нарышкиным была усилена (за нее безустанно ратовал суровый временщик). Что же касается «великой амбиции» актера Яковлева, то ничьих амбиций, кроме своей собственной, Аракчеев, как известно, не переносил. Никакого ходу делу о попытке самоубийства Яковлева дано не было. Даже ежедневные записи журнала театральной дирекции, где фиксировались все наказания актеров, об аресте Яковлева не поминали. В деле «О больных» свидетельств врача не оказалось. Таким образом, всколыхнувшая весь Петербург попытка самоубийства Первого трагического актера русской труппы никакого отражения в делах театральной дирекции не нашла…
В письме Творогова не упоминается, где содержался посаженный под арест Яковлев. До нас дошел документ, подшитый в дело дирекции, об аресте тремя годами раньше Екатерины Семеновны Семеновой, надерзившей князю Шаховскому при Нарышкине, за что тот и приказал взять ее в специальную караульню при Большом театре. Просидела она там одну ночь. Наутро в восемь утра была выпущена. А затем, по свидетельству Рафаила Зотова, подкараулив в царскосельском парке императора, который весьма охотно вступил в разговор с «одной из первых современных красавиц», нажаловалась ему на Шаховского. Александр I остался верен себе, лицемерно пообещав дать указание кому следует разобраться в притеснениях, с нежной улыбкой распрощался с окрыленной надеждами Семеновой. Но вмешиваться в действия Нарышкина по усилению дисциплины даже тут не стал.
Яковлев и на такую царственную аудиенцию рассчитывать не мог. Сидел же он не в театральной караульне (она сгорела вместе с Большим театром), а либо под арестом у себя дома, либо на Съезжей в полицейском участке. Если же довелось ему побывать в полицейском участке (упомянутый раньше Голубев утверждал, что именно так оно и было), то оскорбительных уколов по самолюбию актера, который совсем незадолго до этого чувствовал себя на сцене великим российским князем Димитрием Иоанновичем Донским и которому стоя аплодировал весь зрительный зал, включая важных сановников, было более чем предостаточно.
Мы не располагаем подробными данными, каков был режим арестованных актеров в Петербурге. Но до нас дошел документ, красноречиво живописующий, в каких условиях находились под арестом московские «придворные актеры» в те же самые десятые годы. За отказ от роли Видостана в пресловутой «Русалке» (которую, напомним, считал для себя оскорбительным играть Яковлев) приказано было посадить актера Якова Соколова в «солдатскую кутузку». Театральное начальство дало команду «тащить его в караульню».
«Солдаты же, – рассказывал Соколов, – долго на сие не решались, как вдруг выбежавший из комнаты начальников чиновник… закричал повелительным голосом: „Берите, тащите его!“ и, ударив меня в грудь, предал в руки солдат,которые, взяв меня за ворот, толкали до самой караульни, препровождая сие действие непристойною бранью.Пораженный сим жестоким поступком, равно как и толчками, пришел я в беспамятствои по некотором времени, опомнясь, увидел, что нахожусь посреди солдат… За множеством народу и теснотою места ни присесть, ни даже стоять было невозможно…»
Три дня просидел в кутузке игравший первые оперные роли на московской сцене Соколов. Когда вышел из нее, сразу же направил жалобу «добрейшему», по словам Булгарина, Нарышкину.
Вскоре в московскую театральную контору пришел ответ. Нарышкин полностью одобрял ее действия. Отказ Соколова играть в «Русалке», утверждал он, «одно упрямство… к приказаниям начальства». Арест же «бесчестия не приносит», им «наказываются иногда лица звания гораздо высшегопротив актерского…»
Ответ Нарышкина был санкционирован указаниями значительно более высокопоставленного лица в Российской империи. Доказательством этому служит письмо Александра I Аракчееву, написанное через пять лет после описываемых событий по поводу совершенно незначительного поступка одного из актеров петербургской труппы.
«Аахен, октября, 24-го 1818. По сему объяви военному генерал-губернатору и министру юстиции, да строго быть надсматриваемо, и даже и прочих, и при первой дерзости арестовать виновного и, посадя в смирительный дом, уже не иначе из оного выпустить, как с выключением из труппы и отсылкою на житье в Вятскую, Пермскую или Архангельскую губернию в пример другим, весьма мало заботясь, что устройство труппы от того потерпит. Я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов. В России они терпимы быть не должны…»
Таково было мнение об актерах самого императора. Стоит ли удивляться при этих обстоятельствах, что рука самолюбивого, названного уже великим, всегда с горячностью, со страстью отстаивавшего чувство актерского достоинства Яковлева потянулась при аресте к бритве?..








