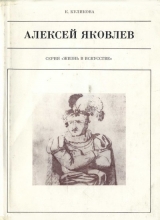
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Таково было положение петербургского театра в начале царствования Александра I, пока не появился там в качестве ближайшего помощника Нарышкина по репертуарной части будущий известный драматург и страстный театрал Александр Александрович Шаховской.
Глава четвертая СЛАВНЫЕ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И БЕССМЕРТНЫЙ ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАВР
НЕУТОМИМЫЙ ШАХОВСКОЙ
До конца жизни не будет знать покоя этот картавящий, пришепетывающий, с маленькими острыми глазками и огромным птичьим носом, быстро семенящий короткими ножками, одержимый театром человек. Он то и дело менял свои взгляды, быстро сходился с людьми и так же быстро наживал в них врагов, бесконечно ошибался, противоречил сам себе. Его неоднократно (и не без основания) упрекали в пристрастии к кому-либо или к чему-либо и сопутствующей этому несправедливости. Но ему совершенно были чужды чиновничье равнодушие, холодный эгоистический расчет, карьеристское утверждение собственного я. С его приходом начала оживляться русская сцена. Нарышкин дал ему немалую власть.
Сам Александр I не занимался театром. Он имел достаточно компетентных чиновников. И предпочитал (как, впрочем, и во многих других делах) спрашивать с них, а не опекать. Это позволяло как будто бы проявиться большой инициативе. А на самом деле чаще всего сковывало ее: самостоятельно действовать чиновники боялись, оглядывались на вышестоящих, вышестоящие же пытались предугадать оценку их действий императором.
Нарышкин умел одним из первых улавливать малейшие колебания придворной атмосферы. Он быстро усвоил носившийся в воздухе принцип: находясь во главе чего бы то ни было, прежде всего спрашивать с подчиненных. Для этого надо дать своим ближайшим помощникам власть над нижестоящими.
30 апреля 1804 года последовал его приказ конторе театральной дирекции: «Чтобы актеры и танцовщики ведомства театральной дирекции не подавали мне никаких бумаг иначе как через своих инспекторов; или бы относились с таковыми в сию контору к господину советчику репертуарной части князю Шаховскому, который, доведя их до сведения моего, будет получать от меня надлежащие по оным приказания». И «советчик репертуарной части» с энтузиазмом принялся за дело.
Пеструю картину представлял в 1804 и 1805 годах репертуар русской труппы. Пародийно-пасквильные комедии «Новый Стерн», «Черный человек» (постановкой которых начинал поход Шаховской против «слезливых», по его словам, писателей и «плаксивых» сочинителей), обе сентименталистские «Лизы» и другие подобные им пьесы, классицистские трагедии и комедии бурно сосуществовали на сцене. Им аплодировали, им свистели, о них спорили, но ходили смотреть не по одному разу.
Начало нового, 1805 года ознаменовалось возобновлением старой трагедии. На своем бенефисе 30 января Яковлев сыграл роль Росслава в одноименной пьесе Княжнина.
«Кто не знает „Росслава“? – восклицал „Журнал российской словесности“. – Сего лучшего произведения российского театра?.. День представления „Росслава“… может послужить доказательством тем людям, которые несправедливо укоряют русских в пристрастии к французскому театру и которые говорят, что у нас нет хороших актеров, что единственно от театральных сочинителей зависит заставить любить или презирать отечественный театр… Господа актеры разыграли „Росслава“ со всем искусством и пленили зрителей своей игрой. Особливо же г. Яковлев, игравший роль Росслава, восхитил зрителей…»
А «Журнал для пользы и удовольствия» заключил свой отзыв лаконичным похвальным экспромтом:
Кто боле заслужил хвалы – творец Росслава
Иль Яковлев игрой? – обоим честь и слава!
Давно умерший «переимчивый» Княжнин еще имел успех у публики. В «Росславе» сконцентрировались страсти политические, исполненные вольнолюбивого патриотизма. Сквозь тяжеловесную вязь устаревшей стихотворной формы прорывались строки, достойные жить в веках. И строки эти были вложены в уста плененного шведами российского полководца Росслава.
Цари! Вас смерть зовет пред суд необходимый,
Свидетель вам – ваш век, судья неумолимый…
И смерть, срывая с вас багряную порфиру,
Кто вы, являет то попранну вами миру.
Как и в других классицистских русских трагедиях, историческая основа «Росслава» была условна и абстрактна. Но иллюзионная сущность трагедии, созданной во времена Екатерины II, не потеряла своей актуальности и при ее внуке. В сгущавшейся над Россией военной атмосфере начала 1805 года пророческим предостережением звучали слова мужественного Росслава:
Российскую страну в плачевны дни сии
Объемлют зависти ужасные змии.
Европа, будуще ее величье видя,
Трепещет, в ней царицу ненавидя;
И чтоб пожрать ее, смущая тишину,
Отсюда к ней влечет кровавую войну…
Не менее пророчески звучал и ответ Росслава пленившему его узурпатору Христиерну:
…Тот свободен,
Кто, смерти не страшась, тиранам не угоден.
23 мая 1805 года «с дозволения правительства» была снова допущена на сцену крамольная «Ябеда». Из прежних исполнителей в ней играли лишь Яковлев, с тем же успехом выступивший в роли Прямикова, да Андрей Васильевич Каратыгин, вновь исполнивший роль стряпчего Паролькина. «Ябеда» вызвала огромный интерес. И новые надежды на молодого русского императора. «Она опять позволена, – с упоением восклицал рецензент „Северного вестника“». И добавлял: «Комедия „Ябеда“ не есть один только забавный идеал, и очень верить можно злоупотреблениям, в ней представленным; это зеркало, в котором увидят себя многие, как скоро только захотят в него посмотреться… Г-да актеры разыгрывают эту пьесу, по-моему, удачно».
Как бы в укрепление этих надежд «Ябеде» рукоплескал сам государь. И где! На празднике, устроенном в его честь на даче Нарышкина, стоящей в тринадцати верстах от Петербурга. Каких только зрелищ не было на этом празднике. Все труппы петербургского театра и воспитанницы участвовали в нем. «Ябеда» же была представлена как сопровождение другой комедии – «Вестникова с семьей», когда-то в придворно-памфлетной манере сочиненной Екатериной II.
Государь смеялся на комедии Екатерины II. Смеялся также и на представлении «Ябеды». Показ ее на публичных театрах не запретил. Но почему-то она после появления на домашнем театре Нарышкина будто сама по себе, будто без всякого нажима соскользнула с постоянного репертуара императорской сцены, несмотря на полные сборы и более чем сенсационный успех… Как все это было в духе лицемерного царствования «благословенного» Александра I!
А время требовало новых пьес. 1805 год сгустит кровавые тучи над головами русских людей. Уже недалек был тот час, когда русские войска отправятся далеко за пределы своей страны. Шенграбенский бой с наполеоновскими войсками разразится осенью 1805 года. Тот самый бой, за который немногие из оставшихся в живых героев получат в награду медаль с надписью: «Один против пяти»…
13 августа русские солдаты двинутся в длинный военный поход. В начале сентября на театр военных действий отправится считавший себя великим полководцем император Александр I. В преддверии грядущих событий с особым эффектом прозвучат 30 августа речи сыгранного Яковлевым карамзинского героя Алексея Любославского в постановке «Наталья – боярская дочь».
«И теперь, в уединении моем, – вспоминал потом инсценировавший повесть Карамзина Сергей Глинка, – слышу рукоплескания при том месте, когда Яковлев, игравший Любославского… обнажил меч и воскликнул: „Тень моего отца, ты зовешь меня на подвиг славы и смерти… Наталья, враги грозят земле русской! Нам должно расстаться! Смерть за отечество – торжество души русской!“»
Слова Глинки подтверждает и отзыв «Северного вестника»: «Публика была весьма довольна драмой С. Глинки… г. Яковлев представил Алексея; этот день ему был удачен: он был наполнен чувствами страстного любовника, изъяснял их с чувствительностью и когда нужно было с жаром и вызывал слезы у зрителей». Но слезы вызывались отнюдь не у всех. Многие могли бы присоединиться к словам студента Жихарева, записавшего в свой дневник: «И „Лиза“ Федорова скучна, а „Наталья“, по-моему, еще скучнее. Персонажи все на ходулях, несут такую пошлость, что мочи нет».
Все настойчивее начинает наступать на сентименталистский репертуар Шаховской. Убежденный классицист, талантливый комедиограф, он стремится стать «русским Мольером». Ищет новую героическую отечественную трагедию. Протестует против напыщенности старой. Только что приехавший из Франции, он в восторге от разговоров с актером Монвелем. Повсюду повторяет его слова о том, что актеру необходимы «образование и обогащение ума и души… чтением славных поэтов, историков, наблюдателей, советами и беседой людей просвещенных и опытных…»
Шаховской окружает театр такими «поэтами, историками и наблюдателями». В только что организованный репертуарный комитет, кроме него, входят: его ближайший приятель баснописец Иван Андреевич Крылов, будущий директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин, получивший высокое звание академика Иван Афанасьевич Дмитревский; светские высокопоставленные поклонники театральных муз: Иван Алексеевич Гагарин, Василий Валентинович Мусин-Пушкин, Павел Михайлович Арсеньев.
Князю Шаховскому нужна новая, никогда не ставившаяся на петербургской сцене трагедия, которую актеры подготовили бы под его, князя, руководством. И Шаховской еще в 1804 году нашел такую трагедию. А вместе с ней обрел и такую актрису, которая прославила эту трагедию: Екатерину Семенову.
После выступлений в 1803 году она продолжала жить и учиться в театральной школе. Во время гастролей московского трагика Петра Алексеевича Плавильщикова на петербургской сцене Семенова сыграла в сочиненной самим гастролером пьесе «Ермак» роль Ирты. Большого успеха тогда ни она, ни сама пьеса не имели. Но «звездный час» Екатерины Семеновой уже приближался.
Ее прочил Шаховской на главную роль трагедии, которую он отыскал, на которую делал решающую ставку. За которую поручился перед главным казначеем Альбрехтом (не верившим, что новая трагедия сделает сборы) своим годовым окладом. И риск полностью себя оправдал. С постановки этой трагедии начался новый этап развития русской сцены.
В ТРАГЕДИЯХ ОЗЕРОВА
С детства знакомы каждому пушкинские строки о «волшебном крае» – театре:
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил…
«Невольны дани» зрительского признания Озеров ощутил сразу же после представления 23 сентября 1804 года второй своей пьесы – «Эдип в Афинах». Она была показана на сцене Большого театра. И тотчас получила восторженные отзывы. Первым откликнулся журнал «Северный вестник»: «Жалуются, что знатная публика пристрастилась к французским спектаклям; что надобно играть „Русалок“, чтобы видеть наполненным весь театр. Играйте пьесы, подобные „Эдипу“, и играйте, как играли в „Эдипе“… и театр будет полон… Можно поздравить русский театр с прекрасным произведением». Через два с половиной месяца после второго представления тот же журнал «Северный вестник» восклицал: «Сказывают, что многие любители отечественной словесности, восхищенные представлением „Эдипа“, положили собрать подписку для выбития золотой медали в честь господина Озерова, желая изъявить свою благодарность за такую трагедию, которая по справедливости может почесться одной из лучших, какие до сих пор на российском языке писаны были».
Что же нового было в этой стихотворной трагедии, построенной на античном сюжете, соблюдающей, казалось бы, все те же классицистские единства: времени, места и действия? Чем воздействовала она на зрителей с такой сокрушающей силой? Почему именно с ее представления, по мнению историков театра, началась на русской сцене новая эпоха?
Позже, говоря о произведениях Озерова, Жуковского и Батюшкова, Белинский скажет: «Языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа».
«Эдип в Афинах», как бы сплавляя в себе воедино принципы высокой трагедии (в прежнем, классицистском ее понимании) и руссоистские традиции сентименталистской драмы (с ее культом чувствований «естественного человека»), предвещал уже качественно новое направление. Не борьба страстей и долга лежала в основе содержания второй пьесы Озерова. И не прямые поступки героев двигали развитие сюжета. Их переживания, размышления о бренности жизни, о ее смысле, выраженные в элегически-лиричной интонации, определяли смысл трагедии.
Об «Эдипе» заговорил весь Петербург. «Эдипа» восхваляли. «Эдипу» удивлялись. Строки из него заучивались наизусть. Восхищались самой трагедией; интерпретацией мифологического сюжета, историческим принципом ее постановки, задуманной Шаховским в духе античных представлений; сценическими костюмами, на эскизах которых известный археологическими познаниями Оленин выверил каждый узор, каждый орнамент. Восторгались грандиозной перспективной декорацией Гонзаго: ее мощными дорическими колоннами, храмом мстительных эвменид. По словам рецензента, декорация «занимала самое сердце, рождая в нем какие-то мрачные предчувствия». Наслаждались музыкой капельмейстера Козловского, ее величавой трагичностью (правда, несколько не соответствующей благополучному концу пьесы, к которому склонили автора тяготеющие к классицизму члены репертуарного комитета).
Пели дифирамбы игре актеров. Особенно Шушерину в облике гонимого роком, свергнутого сыновьями с царского трона, ослепившего себя Эдипа; Семеновой, создавшей образ трогательной и «полной огня», верной отцу Антигоны; Яковлеву – в роли вставшего на их защиту мудрого и доблестного афинского царя Тезея.
Позже, получив полную меру признания в роли Эдипа, Шушерин не без злорадства утверждал, что Яковлеву якобы лишь «во уважение высокого роста и богатырской фигуры предложили играть царя и героя Тезея». И что на его, Яковлева, месте он, Шушерин, взял бы роль Полиника, «которая могла затмить Эдипа». В словах Шушерина имелась доля истины. Роль предавшего отца, а потом готового положить за него жизнь Полиника (которую играл незадолго до этого приехавший из Москвы и зачисленный в петербургский театр Григорий Жебелев) была насыщена той сложностью чувств, которая всегда привлекала Яковлева. В ней был тот нерв, то противоборствование страстей, которые соответствовали характеру его дарования и которые отсутствовали в декламаторско-звучной роли Тезея. Но роль Тезея дали ему не только за «богатырскую фигуру». Роль гуманного афинского царя в первой постановке «Царя Эдипа» несла на себе груз политически острых ассоциаций.
Вера в прогрессивность учреждаемых императором всевозможных комитетов, в усовершенствование государственной системы, которая должна привести к «справедливости», еще не покачнулась.
Где на законах власть царей установление,
Сразить то общество не может и вселенна,—
с гордостью возглашал в трагедии Озерова Тезей. И слова его вызывали восторженную бурю в зрительном зале. «Спасибо нашей публике, – записывал, имея в виду эту реплику, еще будучи студентом университета, Жихарев, – которая, какова ни есть, не пропускает, однако ж, ничего, что только может относиться к добродетелям обожаемого нашего государя».
Как уже говорилось, недалек был тот час, когда русские войска поспешат в Австрию для борьбы с Наполеоном Бонапартом. Но тогда, в 1804-м, еще у всех на слуху были обещания Александра I (данные во время заключения Россией со странами Европы Амьенского мира), что он не допустит военных действий. Зрители пятиярусного Большого театра исступленно аплодировали благородному Тезею – Яковлеву, с величественным достоинством вещавшему хитрому посланцу Фив Креону, который призывал Афины возглавить военные действия:
Но я не для того поставлен здесь владыкой,
Чтоб жизнью жертвовать мне подданных своих,
Чтоб кровь их проливать к защите царств чужих.
Для славы суетной, мечтательной и лживой
Не обнажу меча к войне несправедливой!..
Лавр трону есть краса, но мирные оливы —
Сень благотворная для общества всего.
Величественный, «сладкогласный», с одухотворенным лицом, Яковлев был единственным в то время на петербургской сцене актером, который с наибольшей силой мог донести до зрителей и политический смысл трагедии и ее поэтический ритм.
Озеров же был очень придирчив к актерам, когда дело касалось чтения сочиненных им стихотворных строк. «Везде, где должно занять ум, – утверждал он, – возбудить внимание зрителей и поражать воображение, там сочинители стараются красотою, согласием и звучностью стихов прельстить слух, и такие стихи должны быть произносимы с силою, с важностью в голосе… В тех же местах, где по сильным движениям страсти, по истинным изображениям чувства, сочинитель считает, что зритель должен забыть все и следовать за действующим лицом и, так сказать, уличить себя в нем, там употребляются самые простые и обыкновенные выражения и обороты. Следовательно, и актер должен произносить сии стихи почти как прозу…»
Яковлев с силой, с «важностью в голосе» произносил стихи. Простых выражений и оборотов в речи Тезея не было. Так же как не было и сильного накала страстей. Роль была статична и однообразна. Но Яковлев, если пользоваться терминологией Дмитревского, был в ней весьма эффектен. Рукоплесканий в его честь неслось не меньше, чем в адрес Шушерина и буквально покорившей публику в роли Антигоны «младой Семеновой». От Александра I всем троим за исполнение озеровского «Эдипа» были преподнесены бриллиантовые перстни.
И все же Яковлев не был в упоении от Тезея. Ему нравилась трагедия Озерова. С вдохновением читал он из нее отдельные строки. «С каким глубоким чувством и с какою благородною греческою простотою, – восхищался Жихарев, – произносил он два стиха»:
Родится человек лет несколько поцвесть,
Потом – скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть.
Но то были отрывки из монологов несчастного Эдипа, а не благополучного Тезея. Роль Тезея он мастерски, чуть нараспев, как читают поэты, декламировал. В других ролях – жил. В «Эдипе» не пришлось сыграть ему такой роли. И все же, пользуясь успехом этой трагедии, он сыграл другую – желанную, когда-то насильно отторгнутую от него, в первой пьесе Озерова (с которым он, по словам мемуаристов, подружился). Роль слабовольного, неверного своему слову, во всем противоположного Тезею правителя в трагедии «Ярополк и Олег».
Несмотря на небывалый успех «Эдипа», дирекция не соглашалась на возобновление «Ярополка и Олега». Тогда Яковлев взял ее себе в бенефис. Первое драматическое творение Озерова по сравнению с «Эдипом» было менее совершенным. Но и оно, благодаря игре бенефицианта и известности автора, теперь возбудило огромный интерес. Увидев это, дирекция, пользуясь данными ей правами, хотела удержать пьесу в репертуаре, не заплатив автору ни копейки. Самолюбивый Озеров не согласился на это. Тотчас после спектакля «в пользу Яковлева» он демонстративно забрал из театра единственный имевшийся там экземпляр трагедии. Сделал он это, разумеется, при помощи бенефицианта. За что Яковлев и вступил в очередной конфликт с начальством.
28 ноября 1805 года конторой театральной дирекции было получено следующее предписание: «В постановлении правил о бенефисах существует, между прочим, и то, что хотя актерам в бенефис и дозволяется получить первое представление новых пьес, но с тем, однако ж, чтобы оные потом оставались в пользу дирекции. Ныне же актер Яковлев, получивши в свой бенефис представление трагедии „Ярополк и Олег“, возвратил оную автору, не испрося на то от начальства дозволения, и в то самое время, когда уже об ней возвещено было публике афишами. Предлагаю, как за несоблюдение им введенного единожды навсегда о том порядка, так и за то, что через сие воспрепятствовал он дирекции воспользоваться принадлежащим ей правом и выгодою, удержать 500 рублей из полученного им жалованья. А. Нарышкин».
Ведавший бухгалтерскими делами Майков дал в свою очередь приказание казначею Альбрехту удержать из жалованья Яковлева 500 рублей. Что тот и сделал не без удовольствия, записав их в приход.
Со свойственной ему широтой махнув рукой на неприятности и существенный материальный урон, Яковлев готовился уже к выступлению в новой пьесе Озерова «Фингал», постановку которой, несмотря на распри с драматургом, всячески торопила дирекция. Слишком велика была слава автора «Эдипа в Афинах». Новую его пьесу ожидали как величайшего события.
«Фингал» увидел свет 8 декабря 1805 года. В спектакле были заняты прославленные актеры – Яковлев, Шушерин, а также многообещающие молодые: певец Самойлов с женой Черниковой-Самойловой и Екатерина Семенова. Оформляли его мастера перспективной живописи «могучий» Гонзаго и «романтический» Корсини. Костюмы готовили снова по эскизам Оленина. Торжественную музыку к нему, то элегически-нежную, с преобладанием звучания арф и гобоев, то тревожно-суровую – с ведущей партией громкозвучных духовых инструментов, создал композитор О. А. Козловский. Музыка пронизывала все действие спектакля. Она служила своеобразным камертоном решения пьесы Озерова постановщиками, оформителями и актерами как романтической трагедии. Это соответствовало драматургическим особенностям «Фингала».
Трагедия основывалась на знаменитых «Песнях шотландского барда Оссиана». Своеобразный оссиановский романтизм с его мрачным северным колоритом воспринимался Озеровым (как и многими другими русскими литераторами) в несколько смягченном аспекте. Не случайно, говоря о песнях Оссиана, Карамзин восклицал: «Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная… приводит читателя в некоторое уныние, но душа наша любит предаваться унынию сего рода…»
Лирико-элегическое начало определяло весь строй спектакля.
Средневековые с античными деталями костюмы. Торжественное звучание хоров, сопровождающее все три действия трагедии. Звучные, исполненные страстной любви и не менее страстной ненависти монологи героев, стоящих на фоне унылых, пустынных скал. Мужественная красота и благородное достоинство Фингала, созданного Яковлевым. Очарование его возлюбленной Моины – Семеновой. Отточенный Шушериным рисунок роли ее отца, коварного Локлинского царя Старна, который обещал вождю вольного Морвена Фингалу руку дочери, но из чувства кровавой мести стремился его погубить. Превосходные балетные и пантомимные сцены, перемежающие драматические эпизоды. Все это отличалось подлинным вкусом, слаженностью, великолепным мастерством.
В роли Фингала «употреблялись самые простые обыкновенные выражения и обороты». Хотя в ней тоже не было движения страстей. Она тоже была в какой-то степени декламаторской. Но образ доблестного морвенского вождя определяли романтические черты всепоглощающей любви, во имя которой совершаются все лучшие поступки на земле.
Твой взор переменил нрав дикий и суровый:
Он дал мне нову жизнь, дал сердцу чувства новы,—
признавался Фингал Моине. Ради возлюбленной он шел на все. Становился терпимее к недостаткам людей. Обретал веру в них. С открытым сердцем соглашался на унизительные условия, которые выдвигал ненавидящий его Стари. Проникнутый гуманизмом образ требовал психологической окраски. Она-то и отличала его от образа Тезея. Фингал был ближе Яковлеву, чем идеальный афинский царь в «Эдипе».
Задушевность, лирическая самоуглубленность, характерные для русских романтиков начала XIX века в литературе, отличали сценический облик Фингала, созданного Яковлевым.
«Яковлев в роли Фингала, – утверждал Жихарев, – может служить великолепным образцом художнику для картины: это настоящий вождь Морвена; черты лица, стан, походка, телодвижение, голос – все было очаровательно в этом баловне природы. Что ж касается до искусства его в роли Фингала, то, мне кажется, оно заключалось в отсутствии всякого искусства: он играл с одушевлением и непринужденно».
Роль окрашивалась разными психологическими оттенками. Фингал Яковлева был нежнейшим из возлюбленных и одновременно храбрым воином. В сцене спора Фингала со Старном, по утверждению того же Жихарева, «он был истинно превосходен».
Царь, изменяешь ли ты слову своему?
Коль нам не верить, царь, то верить ли кому? —
с суровым спокойствием спрашивал Фингал. И, услышав в ответ от Старна угрожающее:
Ты в областях моих! —
с не меньшей угрозой напоминал:
Я здесь не в первый раз!
«Это полустишье сказано было Яковлевым с такой энергией, что у меня кровь прихлынула к сердцу. За это полустишье, которым он увлек всю публику и от которого застонал весь театр, можно было простить гениальному актеру все его своенравие…»
Слова Жихарева подтверждает рецензия, помещенная в журнале «Любитель словесности»: «Какая обширная мысль заключается в малых сих словах: „Я здесь не в первый раз!“ О том же говорит и дошедшая до нас запись в дневнике безымянного очевидца спектакля, сделанная после смерти Яковлева: „Фингал останется навсегда памятником той потери, которую театр нам сделал смертию Яковлева. Кто может выразить полустишье: „Я здесь не в первый раз!“ так, как выражал Яковлев…“
Во время одного из спектаклей „Фингала“ кто-то сочинил экспромт, сразу же пошедший по рукам зрителей:
Довольно, коль актер героя выражает!
Но Яковлев игрой героев возвышает.
Вскоре после премьеры появился отклик и в журнале „Северный вестник“: „Фингал“ представлен в первый раз. Он принят публикой с восхищением; „Фингал“ сыгран удачно; „Фингал“ соединяет в себе премного такого, что занимает вместе и слух, и взор, и воображение. Пение г-жи Самойловой, г-на Самойлова, одушевленная игра господ Яковлева и Шушерина, томная игра госпожи Семеновой, великолепный наряд актеров, новые декорации господ Гонзаго и Корсики; выразительная и трогательная музыка господина Козловского; танцевание госпожи Колосовой; отменное сражение воинов и, наконец, прекрасные стихи… – вот что украшает „Фингала“. „Фингал“ останется навсегда украшением нашего театра». «Трагедия сия чрезвычайно понравилась публике, – сообщал и „Любитель словесности“… – Господа Шушерин и Яковлев… также и госпожа Семенова… искусством своим заставляли зрителей почти беспрестанно аплодировать…»
Правда, «Любитель словесности» многого в спектакле не принимал. «Балеты и сражения, – уверял он, – в сей трагедии нимало ее не украшают: можно бы было обойтись и без них, потому что балеты совсем не нужны… Трагедии пишутся более для ума и для сердца, а не для глаз».
Но спектакль продолжал волновать зрителей. Следующие за первым представления «Фингала» превращались из сенсационных в триумфальные. «Фингал» закреплял романтические веяния на русской сцене. И являлся новым этапом их развития. Это еще не всегда понимали его ценители, восклицая: «Трагедия не производит того действия, которое, по правилу истинной пиитики, состоять должно в жалости и в ужасе, возбуждаемых в сердце зрителя». Но и они подпадали под очарование ее постановки, тут же признаваясь: «Как бы то ни было, я люблю эту трагедию: смотря ее, мысленно переношусь в страну Локлинскую, на берег Скандинавии; вспоминаю о правах и обычаях северных пародов и об чудной их мифологии…»
Мифология же, лежавшая в основе содержания «Фингала», не только погружала в созерцательные размышления. Незримым образом беспощадного бога войны Одена, которому поклонялся жестокий Старн, она вольно или невольно вызывала ассоциации с тем, что происходило в окружающем зрителей мире.
После трагического поражения русских под Аустерлицем в декабре 1805 года тревожная атмосфера военного времени в России сгущалась все более и более. Послушно склонив перед Францией голову, бескровно сдала Вену Австрия. Готовился занять Берлин опьяненный «солнцем Аустерлица» Наполеон. Вернулись на родину плененные им в боях русские воины. Военные события назревали где-то там, за пределами России. Но Пруссия все еще оставалась союзницей. Но поражение под Аустерлицем еще свежо было в памяти людей. Чувство патриотизма нарастало. Кульминация трагедии наполеоновской войны для России лишь начиналась. А сколько на долю россиян выпало уже военных трагедий! Русские люди слишком хорошо знали, что несет за собой краткое слово «война».
Может быть, именно поэтому и воспринимали они с таким страстным сопереживанием каждый намек на боль, на горе, которые сопутствуют войне. Может, именно поэтому те слезы, тот гражданский порыв, которые сопровождали третьесортную, чувствительнейшую из чувствительных драм Коцебу «Гусситы под Наумбургом», впервые показанную в Петербурге 18 мая 1806 года, и определили ее прочный громкий успех.
Яковлев играл в ней мужественного, стойкого «гражданина Наумбурга» Вольфа, пытающегося спасти родной город ценою возможной гибели своих детей. Каратыгина – его жену Берфу, которая ради защиты родного Наумбурга с муками отпускала их в стан врагов. «Яковлев в роли гражданина Вольфа и Каратыгина в роли Берфы, – признавался Арапов, – восхищали публику. Многие дамы постоянно проливали слезы в театре, в сцене, когда являлись дети, предводительствуемые Вольфом, в стан Прокопия (начальника гусситов) для испрошения помилования городу».
За два года до этого объявивший себя императором Наполеон не собирался заниматься «помилованьем». Он пока что завоевывал города. Россия вступила еще в одну коалицию против Франции. Кроме нее, туда вошли Пруссия, Англия и Швеция. 16 ноября был опубликован новый царский манифест о войне с Францией. В церквах священники обращались к народу с проповедями: «Братие, облецытеся во всея оружие божия и шлем спасения восприимите и меч духовный». Согласно еще одному царскому манифесту, приступали к организации народного ополчения в количестве 612 000 человек (и только пятую часть, кстати, сумели обеспечить простейшим оружием). Петербургская печать сообщала, что в Пруссии «с крайней нетерпеливостью ожидали первых сообщений о победах над неприятелем. Боялись, чтобы король не заключил мира, не начавши военных действий… В театре только и представляли, что „Стан Валленштейна“ [12]12
Первая часть драматической трилогии Шиллера «Валленштейн».
[Закрыть]… Зрители пели: „Зовет труба, развеваются знамена…“»
То было в августе и в сентябре. В октябре же после недельных сражений под Иеной и Ауэрштадтом, по образному выражению Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала существовать». Под революционные марши «Марсельезы» и «Ça ira» император Наполеон, принимая ключи от склонивших низко головы берлинцев, приказал водрузить над столицей Германии трехцветное французское знамя. С каждым днем все более и более старался услужить ему прусский король. И с каждым днем все беспощадней и жестче становились требования Наполеона.
Изможденная Пруссия взывала к России. Русская армия Направилась к Польше. Французские войска встретили ее у реки Нарев. Кровопролитное сражение у Пултуска 14 декабря каждая из воюющих сторон считала своей победой. Оно продолжалось один день, унесло тысячи жизней, многих превратило в калек. И не дало обеим сторонам ни одного пленного, ни одного знамени. Ночью русские покинули поле боя. Наполеоновские войска возвратились в Варшаву, где их император решил переждать зиму.








