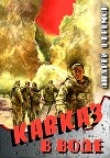Текст книги "Ру. Эм"
Автор книги: Ким Тхюи
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
КОГДА Я БЫЛА МОЛОЖЕ, МНЕ ДОВОДИЛОСЬ видеть тетушку Вторую на коленях перед Буддой, перед Иисусом, перед сыном, которого она молила не исчезать на много месяцев и после всех этих месяцев не возвращаться с людьми, приставившими к его горлу нож. До того, как я стала матерью, я не понимала, как она, предпринимательница с железной хваткой, живым взглядом и острым языком, могла верить россказням и лживым обещаниям сына-игрока. Когда я в последний раз была в Сайгоне, она сказала мне, что, наверное, совершила много преступлений в прежней жизни, раз в нынешней вынуждена верить в постоянный сыновий обман. Она бы и рада больше его не любить. Устала от любви.
Поскольку и я теперь мать, я тоже ее обманула, умолчав отой ночи, когда ее молодой сын взял мою детскую руку и вложил в нее свой взрослый член, и еще об одной, когда он проскользнул под москитную сетку к тетушке Седьмой, юродивой, беззащитной. Я придержала язык, чтобы тетушка Вторая, стареющая, опустошенная, не умерла от любви.
ТЕТУШКА СЕДЬМАЯ – ШЕСТОЙ ребенок бабушки со стороны матери. Цифра семь не принесла ей положенного счастья. Когда я была маленькой, тетушка Седьмая иногда поджидала меня с деревянной лопаткой в руке, чтобы шарахнуть ею изо всех сил, изгоняя накопившийся в теле жар. Ей постоянно было жарко. Ей нужно было кричать, бросаться на пол, пускать в ход кулаки. Едва заслышав крики, вся прислуга бегом неслась через весь дом, бросая кто ведро с водой, кто нож, кто котелок, тряпку или веник, чтобы ее обездвижить. К сумятице добавлялись крики моей бабушки, мамы, других тетушек, детей и мои собственные. В нашем хоре из двадцати голосов слышались ноты истерики и умопомешательства. Вскоре мы уже не понимали, почему вопим, поскольку давно заглушили то, с чего все началось, – крик тетушки Седьмой.
Иногда вместо того, чтобы караулить нас у двери, тетушка Седьмая открывала ее, предварительно украв у бабушки ключи. Открывала и оставляла нас, обретая свободу в городских закоулках, где ее недуг был незаметен или, по крайней мере, на него не обращали внимания. Кто-то, не обращая внимания на недуг, принимал колье из чистого золота в обмен на кусок гуавы или совокуплялся с ней в обмен на лесть. Некоторые даже рассчитывали, что она забеременеет, чтобы использовать ребенка для шантажа. По умственному развитию мы с тетушкой Седьмой были тогда ровесницами, подругами. Мы делились страхами, раскрывали свои секреты. Теперь недужная тетушка считает меня взрослой, так что не рассказывает ни о своих побегах, ни о прежних похождениях по лабиринту улиц.
Я тоже мечтала вновь оказаться на улице и играть в классы с соседскими детьми. Завидовала им через окна с решетками или с балкона. Дом окружала двухметровая бетонная стена, из которой торчали осколки стекла, чтобы никто не влез. На моем месте трудно было сказать, зачем они нужны: чтобы нас защищать или чтобы отрезать от жизни.
Улицы кишмя кишели детьми – они прыгали через скакалку, их волосы стягивали сотни разноцветных резинок. Моей любимой игрушкой была не кукла, говорившая: «I love you»[27]27
Я тебя люблю (англ.).
[Закрыть]. Игрушкой моей мечты была деревянная скамейка с выдвижным ящиком, в который уличные торговки прятали деньги, и две корзины, которые они переносили на концах длинной бамбуковой жерди, лежавшей у них на плечах. Они продавали всевозможные супы. Поэтому шли всегда между двумя грузами: с одной стороны – большой котелок с бульоном и угли, чтобы он не остывал; с другой – миски, палочки, лапша, специи. Иногда за спиной у них был привязан ребенок. У каждой торговки, предлагавшей товар, была особая мелодия. Один мой друг-француз вставал в пять утра, чтобы записать, как они поют. Он говорил, что скоро эти звуки в переулках затихнут, а уличные торговцы бросят корзины и пойдут на фабрику. Поэтому он благоговейно сохранял голоса, а потом просил постепенно переводить записи, распределяя их по категориям: торговки супом, соевыми сливками, скупщицы стекла для переплавки, точильщики, мужские массажисты, торговки хлебом… Часто мы занимались переводом всю вторую половину дня. От этого друга я узнала, что источник музыки – голос, внутренний ритм, сердце каждого, что благодаря музыкальности эти незаписанные мелодии приподнимают завесу тумана и проникают сквозь окна или москитные сетки, осторожно пробуждая нас подобно утренней колыбельной.
Чтобы их записать, вставать ему приходилось рано, ведь супы чаще всего продают по утрам. К каждому была своя лапша: круглая – к говядине, мелкая и плоская – к свинине или креветкам, прозрачная – к курице. У каждой женщины было свое фирменное блюдо и свой маршрут. Когда Мари-Франс, учительница в Гранби, попросила описать мой завтрак, я ответила: суп, лапша, свинина. Она обращалась ко мне несколько раз, изображая будильник, потирая глаза и потягиваясь. Но я отвечала одно и то же, с небольшими вариациями: вместо лапши мог быть рис. Описания других вьетнамских детей были похожими. Тогда она позвонила нам домой, чтобы выяснить у моих родителей, верно ли то, что мы говорим. Постепенно мы перестали завтракать супом и рисом. Правда, лично я замены им не нашла. Поэтому завтракаю очень редко.
ПРИВЫЧКА ЗАВТРАКАТЬ СУПОМ вернулась, когда я была беременна и во Вьетнаме ждала Паскаля. Мне не хотелось ни корнишонов, ни арахисового масла, только миску супа с лапшой, купленной на улице. Пока я росла, бабушка запрещала нам есть эти супы, потому что миски мыли в крошечном ведре с водой. Торговки не могли носить на своих плечах воду вдобавок к бульону и посуде. Они просили людей по возможности поделиться с ними чистой водой. В детстве я часто ждала у ограды возле кухонной двери, чтобы залить воду в их ведра. И готова была обменять свою куклу с голубыми глазами на деревянную скамейку. Надо было предложить, потому что теперь эти скамейки – пластиковые, более легкие, без выдвижного ящика; в отличие от деревянных, они не хранят следы усталости и изнуренности в своих прожилках. Торговки вступили в новую эру, но, как и прежде, с коромыслами на плечах.
СЛЕД ОТ ПАКЕТА ИЗ-ПОД ХЛЕБА «ПОМ» с красными и желтыми лентами навсегда остался на нашем первом тостере. Этот хозяйственный предмет открывал список первоочередных покупок, составленный нашими крестными из Гранби, когда мы въехали в свою первую квартиру. Многие годы этот тостер переезжал вместе с нами с места на место и не использовался, потому что завтракали мы рисом, супом и остатками вчерашнего ужина. Потом мы плавно перешли на рисовые хлопья «Райс крис-пиз», без молока. Впоследствии мои братья предпочли обжаренный хлеб с вареньем. Мой младший брат вот уже двадцать лет каждый день без исключения съедает на завтрак два куска тостового хлеба с маслом и клубничным джемом – в Нью-Йорке, в Нью-Дели, в Москве или в Сайгоне. Вьетнамская домработница попыталась изменить эту привычку – она готовила ему дымящиеся шарики из клейкого риса, обвалянные в свежем тертом кокосе, жареных зернах кунжута и толченом арахисе, или горячий багет с ветчиной, сдобренный домашним майонезом, утиным паштетом и украшенный веточкой кориандра… Он все это отодвигал и возвращался к своему тостовому хлебу из холодильника. В последний раз, навещая его, я обнаружила, что в шкафу у него хранится наш старый заляпанный тостер. Это единственная штуковина, которую он возит с собой из страны в страну, словно это своего рода якорь или воспоминание о первом якоре.
СВОЙ ЯКОРЬ Я ОБНАРУЖИЛА, КОГДА ехала в Ханойский аэропорт встречать Гийома. Аромат кондиционера для белья «Баунс» от его футболки довел меня до слез. Две недели я спала, положив на подушку предмет его одежды. Гийом, в свою очередь, был потрясен ароматом плодов хлебного дерева, рамбутана, кумквата, дуриана, карамболы, горькой тыквы, полевых крабов, сушеных креветок, лилий, лотосов, трав. Он стал завсегдатаем ночного рынка, где овощи, фрукты, цветы кочевали из одной корзины в другую, а продавцы торговались между собой в зычном, но управляемом хаосе, словно это зал фондовой биржи. Отправляясь на ночной рынок с Гийомом, я всегда набрасывала поверх блузки один из его свитеров, потому что вдруг поняла, что понятие дома сводится для меня к этому обыкновенному, простому, обыденному американскому запаху. У меня не было собственного почтового адреса, я жила в служебной квартире в Ханое. Мои книги лежали у тетушки Восьмой, дипломы – у родителей в Монреале, фотографии – у братьев, зимние пальто – у соседки, с которой мы вместе снимали жилье. Я впервые поняла, что «Баунс», аромат «Баунса» пробудил во мне ностальгию.
ПЕРВЫЕ ГОДЫ В КВЕБЕКЕ МОЯ одежда пахла сыростью или едой, потому что после стирки ее сушили в комнатах на веревках, натянутых между стенами. По ночам, изо дня в день перед тем, как закрыть глаза, я видела разноцветие, протянутое через всю комнату наподобие молитвенных флагов Тибета. Годами я вдыхала аромат кондиционера от одежды моих одноклассников, принесенный каким-то ветром. И блаженствовала, принюхиваясь к мешкам с секонд-хендом, которые мы получали. Это был верх мечтаний.
ГИЙОМ УЕХАЛ, ПРОВЕДЯ СО МНОЙ в Ханое две недели. Чистой одежды для меня у него не осталось. В последующие месяцы время от времени я получала по почте свежевыстиранный в «Баунсе» платок, запечатанный в полиэтиленовый пакет. В последнем конверте был билет на самолет в Париж. Гийом назначил мне там свидание у одного парфюмера. Хотел, чтобы я узнала, как пахнет лист фиалки, ирис, кипарис, ваниль, любисток… и обязательно бессмертник – это его имел в виду Наполеон, когда сказал, что чует родную землю, еще не ступив на нее ногой. Гийом хотел, чтобы я нашла аромат, который поможет мне отыскать свою землю, свой мир.
МОИ ЕДИНСТВЕННЫЕ ДУХИ БЫЛИ созданы специально для меня, их заказал Гийом во время той поездки в Париж. Они заменили «Баунс», стали моим голосом, напоминанием, что я существую. Одна из моих соседок по квартире несколько лет изучала теологию, археологию, астрономию, чтобы понять, кто наш создатель, кто мы есть и почему существуем. По вечерам она возвращалась домой с новыми вопросами вместо ответов. У меня же всегда был только один вопрос: в какой момент я могу умереть. Надо было выбрать этот момент до появления детей, ведь с тех пор я утратила право на смерть. Кисловатый запах их волос, выгоревших на солнце, запах пота ночью у них на спине, когда они просыпаются от страшного сна, пыльный запах их рук после уроков заставили и по-прежнему заставляют меня жить, восхищаться тенями их ресниц, умиляться при виде снежных хлопьев, а от слезинки на их щеке чувствовать, как замирает сердце. Дети дали мне исключительное право дуть на рану, чтобы прошла боль, понимать все без слов, знать истину, быть феей. Феей, очарованной их запахами.
УАЙАТТ ЛЮБИЛ АОЗАЙ[28]28
Вьетнамский национальный женский костюм в виде длинной шелковой рубахи-платья и брюк.
[Закрыть], ВЕДЬ ПЛАТЬЕ придает женскому телу пленительную хрупкость и невероятную романтичность. Однажды он привел меня в большой частный дом, скрытый за беседками, которые стояли рядами в бывшем саду. В доме жили две стареющие сестры, они понемногу распродавали мебель коллекционерам, чтобы хватало на хлеб насущный. Уайатт был их самым частым покупателем, поэтому нам предложили отдохнуть на просторной кушетке из красного дерева, почти как у моего дедушки со стороны папы, положив головы на керамические подушки, какими раньше пользовались курильщики опиума. Хозяйка принесла чай и засахаренную имбирную стружку. Когда она наклонилась, чтобы поставить чашки между Уайаттом и мной, от легкого дуновения полы ее аозая приподнялись. Хоть ей и было шестьдесят, мы ощутили чувственность ее костюма. Приоткрывшийся квадратный сантиметр тела словно насмехался над беспощадным временем: он по-прежнему обезоруживал. Уайатт сказал, что этот крошечный фрагмент – его золотой треугольник, островок счастья, его личный Вьетнам. Между двумя глотками чая он шепнул мне: «It stirs my soul»[29]29
Это будоражит мне душу (англ.).
[Закрыть].
СОЛДАТ-СЕВЕРЯН ТАКЖЕ взбудоражил этот телесный треугольник, когда они попали в Сайгон. Их смущали лицеистки, выходившие после занятий в белых аозаях, гурьбой выпархивавшие из шкального двора, словно бабочки весной. И тогда носить платье запретили. Его нельзя было надевать еще и потому, что перед ним мерк героизм женщин в зеленых кепках, которых мы видели на огромных щитах, установленных на каждом углу, в рубахах цвета хаки с засученными рукавами и сильными руками. Правильно, что платье отменили. Застегивали его в три раза дольше, чем снимали. Одно резкое движение – и пуговицы-кнопки выскакивали, застежки открывались. Чтобы надеть рубаху, моя бабушка тратила даже не в три, а в десять раз больше времени, ведь после десяти детей приходилось заново ваять собственное тело, облекая его в бандаж на тридцати крючках, чтобы сохранить плавные линии этого лицемерно целомудренного и обманно невинного платья.
СЕГОДНЯ МОЯ БАБУШКА – ОЧЕНЬ пожилая женщина, но она по-прежнему красива, роскошна, как королева. Когда ей было за сорок, у себя в гостиной в Сайгоне она являла собой дух эпохи, невиданной в своей красоте и роскоши. По утрам у ее дверей толпились в ожидании торговцы, чтобы показать свои находки. Большинство уже знало, что ее интересует. Они несли новую посуду, пластиковые цветы – свежий груз из Европы – и непременно бюстгальтеры для шести ее дочерей. Но поскольку страна воевала и рынок был нестабилен, надо было заранее все предвидеть. Иногда приносили бриллианты. У всех вьетнамских женщин нашего круга была лупа для бриллиантов. Я с юных лет научилась находить в камнях вкрапления – без этого умения было не обойтись, управляя семейными финансами. Банковская система стала шаткой и изменчивой, так что необходимо было овладеть искусством покупки и продажи золота и бриллиантов, чтобы сохранять сбережения. Моя бабушка целыми днями занималась покупками, не сходя с места. Между визитами торговцев она принимала также друзей или слуг, ищущих работу.
С утра до вечера бабушка проводила в повседневных делах. Так что, будь она даже религиозной, ей некогда было присесть перед Буддой. Когда на рынках не стало ни товаров, ни торговцев, когда подселившиеся соседи-коммунисты забрали содержимое ее сейфа и кружевные шарфы, она облачилась в длинное серое кимоно, в каких ходят верующие. Ее волосы цвета перца с солью были просто приглажены и собраны в узел под затылком, но она все равно сохраняла совершенную красоту. С утра до вечера она читала молитвы среди курящихся благовоний и ждала новостей от своих детей, отправившихся в море. Двух младших детей, сына и дочь, она отпустила с моей матерью, несмотря на риск. Мать предложила бабушке выбрать, что страшнее: потерять сына в море или узнать, что его разорвало на куски на минном поле, когда он будет служить в армии в Камбодже. Выбирать нужно было тайно, без колебаний, дрожи и испарины. Чтобы совладать со страхом, она, наверное, и предалась молитве. А чтобы дурман от благовоний не улетучился, не отходила от алтаря.
МОЯ ХАНОЙСКАЯ СОСЕДКА из квартиры напротив тоже молилась по утрам, на заре, по несколько часов. От моей бабушки ее отличало то, что окна с бамбуковыми шторами в ее комнате выходили прямо на улицу. Ее мантры и монотонные удары по деревяшке слышал весь квартал. Сперва я думала переехать, пожаловаться или даже украсть у нее деревянный колокол и разнести его в щепки. Но через несколько недель я перестала проклинать эту женщину: меня посетил образ бабушки.
В первые годы больших потрясений бабушка иногда находила прибежище в храмах. Ей так хотелось там укрыться, что она была согласна добраться туда на мопеде с тетушкой Седьмой. Тетушка Седьмая не умела водить, ведь никто ее этому не учил, а главное – ей не полагалось выходить из дома. Но правила переписали с тех пор, как сама конструкция ее жизни и жизни вообще перевернулась. Из-за распада семейного ядра у моей недужной тетушки появилась некоторая свобода, а еще – причина повзрослеть. В таких обстоятельствах она завела мотор единственного оставшегося во дворе мопеда. Впервые в жизни моя бабушка уселась верхом на это средство передвижения. Тетя тронулась с места, да так и поехала, не сбавляя скорость и не останавливаясь даже на красный свет. Позже она мне призналась, что при виде светофора зажмуривалась.
Бабушка же, положив руки на плечи дочери, молилась.
Вот бы тетушка Седьмая рассказала, как рожала в монастыре. Не знаю, в курсе ли она, что приемный сын тетушки Четвертой на самом деле – ее ребенок. Не помню, как я об этом узнала. Может, дети подслушивали под дверью через замочную скважину, а взрослые не заметили. Или взрослые не всегда обращали на детей внимание. Родителям не приходилось присматривать за детьми, они знали, что за ними присмотрят кормилицы. Но забывали порой, что кормилицы молоды: у них были такие же желания, им нравилось ловить взгляд водителя или улыбку портного, а смотрясь в зеркало, они видели себя частью фоновой декорации, которая в нем отражалась.
Кормилицы у меня были всегда, но они порой обо мне забывали. И я ни одну из них не запомнила, хотя нередко нахожу их с краю, почти за кадром, на своих детских фотографиях.
МОЙ СЫН ПАСКАЛЬ ТАКЖЕ ПОЗАБЫЛ свою кормилицу, Лек, почти сразу после нашего отъезда из Бангкока обратно в Монреаль. А ведь его тайская кормилица оставалась с ним изо дня вдень, круглые сутки, в течение двух лет, за исключением нескольких редких выходных. Лек полюбила Паскаля с первой секунды. Она расхваливала его соседям, словно это ее ребенок, самый красивый, самый славный. Она любила его настолько, что я начала бояться, как бы она не забыла о неизбежности расставания, о том, что мы однажды уедем и, увы, мой сын, возможно, не вспомнит о ней.
Лек знала всего несколько английских слов, а я – несколько слов на тайском, однако нам удавалось подолгу обсуждать жильцов в моем доме. Лучше всего, как в кино, вышел портрет соседа с девятого этажа, американца лет тридцати. Как-то вечером, вернувшись с работы, он обнаружил, что вся его квартира в перьях и пене. Его брюки были разорваны надвое, диваны вспороты, столы исцарапаны ножом, шторы превратились в лохмотья. Всю эту резню учинила любовница, с которой он собирался сойтись на месяц, а уволил через три. Зря он нарушил месячный лимит: день ото дня в ее мыслях росла надежда на большую любовь, пусть даже по пятницам она продолжала получать за нее плату. Чтобы избежать столь огромного разочарования, наверное, не надо было водить ее на все те ужины, где она непонимающе улыбалась, украшала собой стол и ела луковые супы, хотя больше всего ей хотелось салат из зеленой папайи с тайским перцем, дерущим глотку, обжигающим губы и воспламеняющим сердце.
Я ЧАСТО СПРАШИВАЛА у иностранцев, покупавших в Азии штучный товар любви, почему после бурных ночей они непременно требовали, чтобы их вьетнамские или тайские пассии делили с ними пищу. Те предпочли бы получить деньгами сумму, составлявшую стоимость этих блюд, чтобы купить наконец башмаки матери, поменять матрас отцу или отправить брата на курсы английского. Для чего им находиться рядом вне постели, если их словарного запаса хватает только для разговоров при закрытых дверях? Они отвечали, что я ничего не понимаю. Эти девушки нужны были им совсем по другой причине. Чтобы вернуть юность. Глядя на них, эти люди и себя видели молодыми, словно их жизнь наполнена мечтами и возможностями. С девушками появлялась иллюзия, будто жизнь проходит не зря или хотя бы есть силы и желание начать все сначала. Без девушек оставались разочарование и тоска. Тоска оттого, что они недолюбили, и оттого, что недолюбили их. Разочарование оттого, что деньги не приносят счастья, за исключением тех стран, где счастье можно найти за пять долларов в час – или хотя бы тепло, участие, внимание. За пять долларов у них появлялась неумело накрашенная девушка, которая пила с ними кофе или пиво и громко смеялась, когда они произносили по-вьетнамски «мочиться», имея в виду «перец». Эти два слова отличаются только произношением, тональностью, почти неуловимой для неподготовленного уха. Простое произношение – цена простого мгновения счастья.
КАК-ТО ВЕЧЕРОМ, ПРИДЯ В РЕСТОРАН с мужчиной, у которого была разорвана мочка уха – так же, как у одного из солдат-коммунистов, живших с моей семьей в Сайгоне, – через щель между перегородками приватного кабинета я увидела шесть девушек, они стояли в ряд у стены, пошатываясь на шпильках: толстый слой штукатурки на лицах, гусиная кожа, они были худыми и совершенно голыми в мигающем неоновом свете. Шестеро мужчин дружно целились в девушек стодолларовыми купюрами, которые они скручивали в трубочку и перегибали пополам в обхват натянутой резинки. Купюры пулями свистели через прокуренный кабинет и врезались в прозрачную кожу.
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВО ВЬЕТНАМЕ мне всегда льстило, когда в компании шефа люди принимали меня за эскортницу, несмотря на костюм с эмблемой фирмы и строгие каблуки, ведь это означало, что я еще молодая, худая и хрупкая. Но после той сцены, увидев, как девушкам приходится наклоняться и подбирать скомканные стодолларовые купюры, разбросанные у их ног, я перестала тешить свое самолюбие из уважения к ним, ведь, несмотря на восхитительные тела и юность, они тоже несли на себе невидимый груз истории Вьетнама, подобно женщинам с согбенными спинами.
Для нескольких девушек, чья кожа была еще слишком нежна, груз оказался непосильным – как и они, я не стала ждать третьего тура стрельбы. Вышла из ресторана, оглохнув не от пьяного звона бокалов, а от едва уловимого звука, с которым купюры бьются о кожу. Вышла, унося в голове эхо стоического молчания оставшихся девушек – тех, кому хватило сил противостоять нравственному падению, они отняли у денег власть, стали неприкасаемыми, непобедимыми.
ВСТРЕЧАЯ В МОНРЕАЛЕ ИЛИ в других местах девушек, которые намеренно, по собственной воле увечат свои тела, хотят носить шрамы, навсегда впечатанные в их кожу, я невольно втайне мечтаю, чтобы они встретились с теми, другими девушками, у которых тоже есть шрамы на коже, но такие глубокие, что их не видно невооруженным глазом. Поставить бы их лицом к лицу и послушать, как они сравнивают шрамы желаемые и навязанные, купленные и возмещенные, зримые и не просматривающиеся, поверхностные и глубокие, прорисованные и бесформенные.
У ТЕТУШКИ СЕДЬМОЙ ТОЖЕ ЕСТЬ шрам внизу живота, след одного из побегов в лабиринт закоулков, где ей встречались продавцы мороженого, торговцы шлепанцами, соседи в зигзагах домов, женщины в гневе, мужчины в момент эрекции. Кто из этих мужчин был отцом ее ребенка? Спросить об этом тетушку Седьмую никто не решался: все время беременности приходилось ей лгать, чтобы сберечь ее собственный живот, пряча его под одеждами монахини из обители Птиц. Сестры называли ее Жозеттой и показывали, как пишется ее имя, пунктиром выводя буквы. Жозетта так и не узнала, почему толстела и почему похудела вдруг, пробудившись от глубокого сна. Она только знала, что приемный сын тетушки Четвертой тоже сбегал при первой возможности. Он со скоростью света метался по тем же закоулкам, держа сандалии в руках, чтобы чувствовать ногами тепло асфальта, текстуру экскрементов, край осколка бутылки. Все его детство прошло в бегах. Все его детство мы, от мала до велика, десять, пятнадцать, а то и двадцать человек каждый месяц патрулировали окрестности. Но однажды все вернулись ни с чем – и мы, и слуги, и соседи. Он ушел из нашей жизни туда, откуда и появился, и единственным воспоминанием о нем остался шрам над лобком его матери.
МОЙ СЫН АНРИ ТОЖЕ СБЕГАЕТ. Он мчится к реке за автострадой, бульваром, улицей, парком и еще одной улицей. Мчится туда, где мерный ритм и неизменная рябь текущих вод гипнотизируют его, успокаивают, оберегают. Я научилась быть тенью в его тени, следовать по пятам, не мешая, не тревожа, не донимая его. Но однажды, стоило мне отвлечься всего на секунду, как на моих глазах он бросился наперерез машинам, небывало радостный и полный жизни. От этого контраста у меня перехватило дыхание: его ликование, столь редкое, неожиданное, и мой ужас при виде его тела, взметнувшегося над бампером. Может, надо было закрыть глаза и замедлить шаг, чтобы не увидеть удара, чтобы выжить? Материнство, мое материнство обернулось вандализмом любви, поразившей мне сердце, вздувшей, загнавшей его, материнство вырвало сердце из грудной клетки, когда я увидела, как мой старший сын Паскаль, взявшись ниоткуда, кладет брата на стриженый пряный газон на бульваре. Паскаль явился брату, словно ангел с пухлыми бедрами, конфетными розовыми щеками и поднятым вверх детским большим пальцем.
Я ПЛАКАЛА ОТ РАДОСТИ, ДЕРЖА обоих сыновей за руки, но в этих слезах была боль другой вьетнамской матери, сына которой казнили у нее на глазах. За час до гибели этот мальчишка, в чьих волосах жил ветер, бегал по рисовым полям, доставлял письма: от отправителя получателю, из рук в руки, из одного укрытия в другое, приближая революцию, помогая сопротивлению, а иногда просто передавал любовную записку.
Детство сверкало пятками. Он и не думал бояться, что его схватят солдаты врага. Ему было шесть, а может, семь. Он и читать еще не умел. Зато крепко сжимал в руках клочок бумаги, который ему вручили. Но когда его поймали, окружили и наставили на него винтовки, он не смог вспомнить, куда бежал, к кому и откуда именно. От страха он онемел. Солдаты убили его. Щуплое тело опустилось на землю, а солдаты пошли дальше, жуя резинку. Мать бросилась через рисовое поле, где еще оставались свежие следы ног ее сына. В воздухе свистели пули, но пейзаж вокруг не менялся. Ветер продолжал баюкать молодые рисовые побеги, безразличные к жестокости слишком сильной любви и слишком глубокой боли, и потекли слезы, и крик вырвался из этой матери, укутывавшей старой циновкой тело сына, наполовину утопленное в грязи.
Я СДЕРЖАЛА ВОЗГЛАСЫ, ЧТОБЫ НЕ перебить гипнотический стук швейных машинок, поставленных друг за другом в гараже моих родителей. Как и мы с братьями, наши кузены шили после школы – зарабатывали карманные деньги. Следя за ритмичным и быстрым движением иглы, мы не видели друг друга, и наши беседы часто походили на исповедь. Кузенам исполнилось всего десять. Но им было о чем рассказать, ведь они родились в померкшем уже Сайгоне и выросли в самый черный для Вьетнама период. Хихикая, они поведали, как тормошили чьи-то члены за миску супа, стоившую две тысячи донгов. Без тени смущения описали нам сексуальные движения – с наивной простотой, свойственной тем, кто уверен, что проституция – это только про взрослых, про деньги, а не про детей вроде них, шестилетних, семилетних, делавших это за еду стоимостью пятнадцать центов. Я выслушала их, ни разу не обернувшись, не перестала строчить, не вставила ни слова – хотела сохранить невинность их рассказа, не замарать взглядом их чистоту. Эта невинность, верно, и помогла им, отучившись десять лет в Монреале и Шербруке, стать инженерами.
НА ОБРАТНОМ ПУТИ ИЗ университета Шербрука, куда я отвезла своих кузенов, на заправке ко мне подошел вьетнамец: он заметил у меня шрамы – следы от прививок. Едва взглянув на эти шрамы, он смог перенестись в детство, когда ходил по проселочной дороге в школу с грифельной доской под мышкой. Едва взглянув на эти шрамы, он понял, что и его, и мои глаза видели желтые цветы на ветвях сливы перед каждым домом в дни Нового года. От одного взгляда вспомнил настойчивый аромат рыбы в перченой карамели, томившейся в глиняном горшке прямо на углях. Всего один взгляд – и наши уши вновь услышали свист молодого бамбука в воздухе, который вот-вот рассечет нашу кожу – в наказание. Всего один взгляд, и наши тропические корни, пересаженные в заснеженную почву, напомнили о себе. Всего один миг – и мы обнаружили свою двойственность, гибридность существования: наполовину здесь, наполовину там, все и ничего одновременно. Всего лишь шрам на коже – и между двумя бензоколонками на съезде с автострады стала зримой вся наша общая история. Свой шрам он спрятал под сине-черным драконом. Не сразу и разглядишь. Однако стоило ему прикоснуться пальцем к моей бесстыдно оголенной отметине и, взяв мой палец другой рукой, поднести его к спине дракона, как мы ощутили сопричастие, единение.
ЕДИНЕНИЕ ПРИШЛО И ТОГДА, КОГДА вся наша большая семья собралась в Апстейт Нью-Йорк отметить восьмидесятипятилетие моей бабушки. Два дня тридцать восемь человек без конца болтали, хохотали, подначивали друг друга. Тогда я впервые заметила, что у меня такие же круглые бедра, как у тетушки Шестой, и почти такое же платье, как у тетушки Восьмой.
Тетушка Восьмая мне как старшая сестра: это она поделилась со мной трепетом слова «богиня», нашептанного ей в ушную раковину одним мужчиной, когда она тайком от матери сидела на раме его велосипеда, а он держал ее в обруче своих рук. Она же показала мне, как ловить и смаковать удовольствие от мимолетного желания, легкокрылой лести, украденного мгновения.
Когда моя кузина Сяо Май села за моей спиной, чтобы обнять меня перед фотоаппаратами двух своих дочерей, мне улыбнулся дядюшка Девятый. Дядюшка Девятый знает меня лучше, чем я сама, ведь это он подарил мне мой первый роман, первый билет в театр, первый поход в музей, первое путешествие.
СЯО МАЙ СТАЛА ИЗВЕСТНОЙ предпринимательницей, публичной фигурой, современной королевой, но до этого взбила не один десяток яиц, причем вручную – электричества в Сайгоне не было пять дней из семи, – пока готовила праздничные торты, которые продавала новым руководителям-коммунистам. Она походила на цирковую гимнастку, когда развозила торты на велосипеде, лавируя среди других велосипедистов и уклоняясь от выхлопа мотоциклов или зева канализации там, где украден люк. Сегодня ее торты, к которым добавилось мороженое, выпечка, шоколад и кофе, продаются по всем большим городам страны от юга до севера.
Я ВСЕ ЕЩЕ ТЕНЬ СЯО МАЙ. И МНЕ ЭТО нравится: вернувшись во Вьетнам, я стала тенью, танцевавшей вокруг столов, где шли переговоры, отвлекая ее собеседников, пока она думала. Мне, своей тени, она могла доверить беспокойства, опасения, сомнения, себя не скомпрометировав. Будучи ее тенью, я одна смею заглядывать в ее частную жизнь, ставшую непроницаемой с тех давних пор, когда она продавала кофе из перемолотого жженого хлеба, сидя на тротуаре напротив своего дома, с тех пор как окна из ее дома были проданы. Теперь, не спрашивая разрешения, я вновь разжигала искры, которые ей казались давно потухшими за укрепленным фасадом. Я сеяла вольность, позволяя ее детям швыряться кремовыми тортами на своей террасе, или пряча их в картонную коробку с конфетти перед ее комнатой, чтобы, когда она проснется, поздравить ее с днем рождения, или подкладывая ей в папку с документами на подпись красные кожаные стринги.