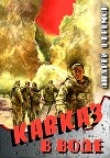Текст книги "Ру. Эм"
Автор книги: Ким Тхюи
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Ким Тхюи
Ру
Эм
2023
Kim Thúy
Ru
Em
Перевели с французского Александра Глебовская и Анастасия Захаревич
Дизайн обложки Анны Стефкиной
Ru: Copyright © Les Éditions Libre Expression, 2009
Translated from the French language (Canada): RU
First published by Libre Expression, Montréal, Canada
Em: Copyright © Les Éditions Libre Expression, 2020
Translated from the French language (Canada): EM
First published by Libre Expression, Montréal, Canada
© Глебовская А. В., перевод на русский язык (Эм), 2023
© Захаревич А. Б., перевод на русский язык (Ру), 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2023
* * *
РУ
Во французском языке ru означает «ручеек», в переносном смысле – «поток» (слез, крови, денег) (Исторический словарь «Робер»).
Во вьетнамском рю означает «колыбельная» или «убаюкивать, нянчить».
Моим соотечественникам посвящается
Я ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ ВО ВРЕМЯ Тетского наступления[1]1
Масштабное наступление войск коммунистических сил, ставшее в 1968 г. переломным в ходе вьетнамской войны.
[Закрыть], в первые дни года Обезьяны, когда длинные гирлянды петард, развешенные перед домами, взрывались наперебой с пулеметными очередями.
Я впервые увидела мир в Сайгоне, где клочки тех петард красили землю в красный цвет, как лепестки вишни или кровь миллионов солдат, вставших под ружье, разбросанных по городам и весям расколотого надвое Вьетнама.
Я родилась под покровом небес, озаренных фейерверками, расцвеченных сиянием уличных украшений, рассеченных ракетами и снарядами. Мое рождение виделось восполнением людских утрат. Моя жизнь должна была продолжить жизнь матери.
Я НГУЕН АН ТИНХ, ПИШЕТСЯ –  , через
, через  ; моя мать тоже Нгуен Ан Тинх, только через i – Tinh. Мое имя – вариация маминого, точка под i – единственное несовпадение, она отличает меня от матери, отделяет от нее. Я расширяю ее образ даже в том, как нас зовут. На вьетнамском ее имя означает «окружающий покой», а мое – «покой внутренний». Этими почти взаимозаменяемыми именами моя мама хотела показать, что я – ее продолжение, что моя жизнь – новый этап ее собственной.
; моя мать тоже Нгуен Ан Тинх, только через i – Tinh. Мое имя – вариация маминого, точка под i – единственное несовпадение, она отличает меня от матери, отделяет от нее. Я расширяю ее образ даже в том, как нас зовут. На вьетнамском ее имя означает «окружающий покой», а мое – «покой внутренний». Этими почти взаимозаменяемыми именами моя мама хотела показать, что я – ее продолжение, что моя жизнь – новый этап ее собственной.
ИСТОРИЯ ВЬЕТНАМА, ИСТОРИЯ с большой буквы, нарушила мамины планы. Тридцать лет назад волей Истории мы переплыли Сиамский залив, в который канули нюансы наших имен. История лишила наши имена прежних смыслов, свела их к чуждому и странному для французского уха сочетанию звуков. А главное – распорядилась так, что в десять лет я перестала быть естественным продолжением матери.
ИЗГНАНИЕ ПОЗАБОТИЛОСЬ О ТОМ, чтобы мои дети не стали продолжением моего «я» и моей судьбы. Их зовут Паскаль и Анри, они на меня не похожи. У них светлые волосы, белая кожа, густые ресницы. Я ждала, что материнская природа сразу проявит себя, но в три часа ночи, когда они прильнули к моей груди, ничего не почувствовала. Материнский инстинкт пришел гораздо позже: с недосыпом, грязными пеленками, бесхитростными улыбками, всплесками радости.
Лишь тогда мне открылась любовь матери, сидевшей напротив меня в трюме судна и державшей младенца, чью голову покрывали зловонные струпья. Эта картина была у меня перед глазами днем и, видимо, ночью. Маленькая лампочка на проводе, крепившемся ржавым гвоздем, озаряла трюм слабым и всегда одинаковым светом. Внутри того судна что день, что ночь – все было едино. Постоянство освещения спасало нас от безграничности моря и неба. Сидевшие на палубе говорили, что линия, отделяющая синеву неба от синевы моря, полностью исчезла. И стало непонятно, взмываем ли мы ввысь или погружаемся на глубину. В чреве нашего судна ад и рай сплелись воедино. Рай сулил поворот судьбы, новое будущее, новую жизнь. Ад умножал страхи: нарваться на пиратов, умереть от голода, отравиться сухарями, пропитанными моторным маслом, остаться без воды, не разогнуть онемевшие ноги, страшно было мочиться в красный горшок, который передавали друг другу, страшно заразиться от паршивой башки младенца, не ступить больше на твердую землю, не увидеть вновь лица родителей, сидящих где-то в полумраке среди еще двухсот человек.
ДО ТОГО, КАК НАШЕ СУДНО СРЕДИ ночи снялось с якоря и покинуло берег Ратьзя[2]2
Город, расположенный на юге Вьетнама, на побережье Сиамского залива.
[Закрыть] большинство пассажиров боялись лишь одного – коммунистов, потому и бежали. Но когда вокруг остался только ровный синий горизонт, страх сделался столиким чудовищем, отнявшим у нас ноги, так что мы уже не чувствовали онемение в неподвижных мышцах. Мы цепенели от страха, стыли в нем. Не зажмуривались, когда младенец с паршой на голове пи́сал прямо нам в лицо. Не зажимали нос, когда кого-то из соседей рвало. Мы деревенели в тисках чужих плеч, чьих-то ног и страха у каждого внутри. Нас парализовало.
Весть о девочке, которую смыло в море, когда она проходила вдоль борта, разлеталась по пахучему чреву судна, словно анестезия или веселящий газ, превратив единственную лампочку в полярную звезду, а сухари, пропитанные моторным маслом, в сливочное печенье. Ощущение этого масла в горле, на языке, в мозгу усыпляло нас под монотонную колыбельную моей соседки.
ПАПА ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ: ЕСЛИ НАС схватят коммунисты или пираты, он навсегда усыпит нас, как Спящую красавицу: для этого были капсулы с цианидом. Долгое время я хотела спросить, почему он не думал оставить нам выбор, почему собирался лишить нас возможности выжить.
Я прекратила задаваться этим вопросом, когда стала матерью и когда господин Винь, известный в Сайгоне хирург, рассказал мне, как посадил всех своих пятерых детей, от мала до велика, начиная двенадцатилетним сыном и заканчивая пятилетней дочкой, на пять разных судов, в разное время и отправил куда глаза глядят, подальше от угрожавших ему коммунистов. Он был уверен, что сгинет в тюрьме за то, что якобы убил их товарищей по партии во время операции, и неважно, что те даже на порог больницы не ступали. Он надеялся спасти хотя бы одного ребенка или, может, двух, бросив их в море. Я встретила господина Виня на ступенях церкви, которые он чистил от снега зимой и подметал летом – в благодарность священнику, заменившему отца его детям и растившему всех пятерых, от мала до велика, пока они не повзрослели, а сам он не вышел из тюрьмы.
Я НЕ ЗАРЫДАЛА И ДАЖЕ НЕ прослезилась, когда мне сообщили, что мой сын Анри навсегда заточён в собственном мире, когда подтвердилось, что он из тех детей, которые нас не слышат и не говорят с нами, не будучи глухими или немыми. Он из тех детей, которых надо любить отстраненно, не прикасаясь к ним, не обнимая, не улыбаясь, потому что все их органы чувств будут поочередно страдать от запаха нашей кожи, звука голоса, текстуры волос, биения сердца. Должно быть, он никогда не скажет мне с любовью «мама», хотя, произнося слово «груша», передает всю округлость и сочность предмета. Не поймет, почему я заплакала, когда он впервые мне улыбнулся. Не узнает, что благодаря ему любая искра радости теперь – благословение свыше и что я не брошу битву с аутизмом, хотя заранее знаю, что она проиграна.
Я уже повержена, беззащитна, беспомощна.
ВПЕРВЫЕ УВИДЕВ СУГРОБЫ ИЗ иллюминатора в аэропорту Мирабель, я тоже почувствовала себя беззащитной и чуть ли не голой. Несмотря на оранжевый джемпер с короткими рукавами, купленный в лагере для беженцев в Малайзии перед отъездом в Канаду, несмотря на коричневый свитер из толстой шерсти, связанный вьетнамскими женщинами, я была голой. Все мы в этом самолете припали к окнам и обалдело таращились, открыв рот. Еще бы – после долгого пребывания без света этот пейзаж, такой белый, такой девственный, неизбежно нас поразил, ослепил, опьянил.
Меня потрясли встретившие нас разные незнакомые звуки, как и высота ледяной скульптуры, охранявшей стол с канапе, снеками и слоеными тарталетками, пестревшими всеми цветами радуги. Еда была незнакомая, но я все равно знала, что жизнь здесь – сплошной сахар, что это страна мечты. Не будучи глухой и немой, я, как и мой сын Анри, не могла ни говорить, ни слышать. Не за что было зацепиться: я не умела мечтать, смотреть в будущее, жить настоящим, жить в настоящем.
НАС, СЕМЕРЫХ ВЬЕТНАМЦЕВ, САМЫХ юных в группе, провела по мосту в день сегодняшний моя первая канадская учительница. Она пестовала наши новые корни так же бережно, как мать – новорожденного, появившегося на свет раньше срока. Нас баюкало плавное покачивание ее надежных покатых бедер и объемных тугих ягодиц. Эдакая мама-утка, она шла впереди и звала за собой в ту гавань, где мы снова станем детьми, просто детьми в пестроте красок, карандашей и разных мелочей. Я всегда буду ей благодарна: она внушила мне первое на чужбине желание – мне захотелось такую же презентабельную попу, как у нее. Ни один вьетнамец в нашей группе не отличался столь пышными, богатыми, вальяжными округлостями. Все мы были угловатыми, костлявыми, жилистыми. Так что когда она наклонилась надо мной, положила ладони на мои руки и произнесла: «Меня зовут Мари-Франс. А тебя?» – я повторила каждый слог, не мигая, даже не пытаясь понять: меня убаюкало свежее, легкое, ароматно-сладкое облако. Я не поняла ни слова, уловила только мелодию голоса, и этого мне хватило. С лихвой.
ПРИДЯ ДОМОЙ, Я ВОСПРОИЗВЕЛА ТУ же череду звуков перед родителями: «Меня зовут Мари-Франс. А тебя?» – «Ты поменяла имя?» – спросили они. Тут меня и настигла сиюминутная реальность, в которой вынужденные глухота и немота вытесняют мечты, а значит, способность смотреть далеко-далеко вперед.
Мои родители хоть и говорили по-французски, но также не могли смотреть далеко вперед: их отчислили с курсов, где язык изучали на начальном уровне, то есть вычеркнули из списков тех, кому платили сорок долларов в неделю. Для этих курсов у них была слишком высокая квалификация, но слишком низкая для всего остального. Заглянуть в собственное будущее они не могли, поэтому всматривались в наше – ради нас, их детей.
НА НАШЕМ ГОРИЗОНТЕ НЕ БЫЛО черных досок – чтобы вытирать их, как они, школьных туалетов – чтобы драить, бургер-кингов – чтобы доставлять по адресам. Там просматривалось только наше будущее. Мы с братьями так и пошли вперед – по направлению их взгляда. Мне довелось встречать других родителей, чей взгляд потух, у одних – под грузным телом пирата, у других – под тяжестью долгих лет коммунистического перевоспитания в лагерях, но не в военных, во время войны, а в мирных, после войны.
В ДЕТСТВЕ Я СЧИТАЛА, ЧТО ВОЙНА и мир – противоположные по смыслу слова. Тем не менее я жила в мире, пока Вьетнам полыхал, и познала войну лишь после того, как он сложил оружие. Мне кажется, что на самом деле война и мир – неразлейвода и смеются над нами. Порой они видят в нас врагов, непредсказуемо, без причины, и им все равно, какими видим их мы, какую отводим им роль. Наверное, не стоит полагаться на внешность, выбирая, на кого из них направить взор. Мне повезло, мои родители уберегли глаза, каким бы ни был цвет времени, цвет момента. Мама часто повторяла выражение, написанное на черной доске в Сайгоне, когда она была в восьмом классе: Doi là chiên trân, nêu buôn là thua: «Жизнь – это борьба, в которой уныние обрекает на поражение».
МОЯ МАТЬ ВСТУПИЛА В БОРЬБУ ПОЗДНО и не унывала. Впервые она пошла работать в тридцать четыре года, сначала была уборщицей, потом чернорабочей – на заводах, фабриках, в ресторанах. В прежней, утраченной жизни ей довелось быть старшей дочерью отца-префекта. Занималась она только тем, что мирила французского и вьетнамского поваров во дворе семейного дома. Или разбиралась с тайными связями прислуги. Все остальное время она причесывалась, красилась и наряжалась, чтобы вместе с отцом ходить на светские вечеринки. Эта шикарная жизнь позволила ей предаваться любым мечтам, особенно в том, что касалось нас. Меня и братьев она готовила к тому, что мы будем одновременно музыкантами, учеными, политиками, спортсменами, художниками и полиглотами.
Между тем где-то далеко продолжала литься кровь и падали бомбы, поэтому она учила нас вставать на колени, как это делают слуги. Каждый день она заставляла меня вымыть четыре плитки на полу и очистить двадцать проросших бобов, один за другим отрывая их корешки. Она готовила нас к краху. И правильно делала: вскоре мы остались без крыши над головой.
ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО НОЧЕЙ в Малайзии мы спали прямо на охристой совершенно голой земле. Красный Крест построил лагеря в соседних с Вьетнамом странах, чтобы принимать boat people[3]3
Лодочников (англ.). Так называли беженцев из Вьетнама, как правило покидавших страну морским путем.
[Закрыть] – так называли тех, кто уцелел в море. Остальных, утонувших по дороге, вообще никак не называли. Они умерли безымянными. Мы попали в число тех, кому посчастливилось пасть на твердую землю. Не иначе как милостью свыше оказались среди двух тысяч беженцев в лагере, рассчитанном лишь на двести.
В ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ ЛАГЕРЯ, НА склоне холма мы построили хижину на сваях. Две недели двадцать пять человек из пяти семей были заняты тем, что тайком срубили несколько деревьев в ближайшем лесу, воткнули их в мягкую глинистую почву, закрепили шесть фанерных листов, чтобы получился просторный пол, и покрыли всю конструкцию тентом – ядовито-синим, пластиково-синим, игрушечно-синим. Нам повезло: мы нашли мешки из-под риса, джутовые и нейлоновые, их хватило, чтобы обтянуть все четыре стороны хижины и еще три стороны нашей общей выгороженной ванной. Вместе эти постройки походили на инсталляцию современного художника в музее. Ночью, во сне, мы так тесно прижимались друг к другу, что не замерзали даже без одеяла. Днем, на жаре, которую впитывал синий тент, в хижине становилось душно. Дождливыми днями и ночами тент пропускал воду через проколы, сделанные листьями, ветками, стеблями, положенными сверху, чтобы легче дышалось внутри.
Окажись дождливым днем или ночью под этим тентом хореограф, он наверняка воспроизвел бы увиденное: двадцать пять человек, дети и взрослые, стоят с консервными банками в руках, собирая воду, проникающую сквозь навес, – иногда струей, а иногда по капле. Окажись там музыкант, он услышал бы оркестровку в звуках воды, бьющей по днищам консервных банок. Будь это кинорежиссер, он запечатлел бы красоту безмолвного и стихийного сопричастия обездоленных людей. Но тогда мы одни стояли там, на полу, постепенно уходившем в глину. Через три месяца пол так накренился, что пришлось перераспределить все места, чтобы дети и женщины не скользили во сне и не упирались во вздутый живот соседа.
ТЕ НОЧИ, КОГДА СНОВИДЕНИЯ утекали от нас по наклонному полу, не помешали моей матери приближать наше будущее. Она нашла себе единомышленника. Он был молод и, конечно, наивен, раз позволял себе сохранять жизнерадостность и непринужденность в монотонной пустоте нашей повседневной жизни. Вместе они организовали занятия по английскому. Все утро мы повторяли за ним слова, которых не понимали. Но приходили все: он сумел приподнять небесный свод, чтобы мы различили новый горизонт вдали от зияющих ям, наполненных экскрементами двух тысяч обитателей лагеря. Если бы не его лицо, как вообразить перспективу, в которой нет тошнотворных запахов, мух и опарышей? Если бы не его лицо, как представить, что однажды нам не придется есть протухшую рыбу, которую швыряют прямо на землю в конце дня, когда приходит время раздачи продовольствия? Если бы не его лицо, мы наверняка утратили бы желание протянуть руку и ухватить собственные мечты.
ЖАЛКО, ЧТО ПОСЛЕ ВСЕХ УТРЕННИХ занятий с нашим – какой уж был – учителем английского я запомнила только одну фразу: «Му boat number is KGO338»[4]4
Номер моего судна KGO338 (англ.).
[Закрыть]. Фраза оказалась совершенно бесполезной, воспользоваться ею мне не пришлось даже на медицинском осмотре канадской делегации. Врач не произнес ни слова. Вместо вопроса «Boy or girl?»[5]5
Мальчик или девочка? (англ.)
[Закрыть] он потянул за резинку моих трусов. Эти два слова я тоже знала. Видно, мы были такими худыми, что лица десятилетних мальчиков и девочек не отличались одно от другого. Да и время поджимало: за дверью ждала целая толпа. Жарко было в маленькой смотровой, окнами выходившей на шумную дорогу, где сотни людей стучали ведрами у колонки с водой. Все мы стояли в парше и вшах, лица у нас были потерянные, состарившиеся.
В любом случае говорила я мало, иногда вообще молчала. В детстве за меня всегда говорила двоюродная сестра, кузина Сяо Май, а я была ее тенью: тот же возраст, класс, пол, только ее лицо было на стороне, куда падает свет, а мое – на той, где тень, мрак, молчание.
МАМА ХОТЕЛА, ЧТОБЫ я заговорила, то есть как можно скорее научилась говорить по-французски, а еще по-английски, потому что мой родной язык стал не то чтобы куцым, скорее бесполезным. В Квебеке на второй год она отправила меня в казарму к англоговорящим кадетам. «Там можно бесплатно выучить английский», – сказала она. Бесплатно – это она ошибалась. Заплатить пришлось, и недешево. Кадетов было человек сорок, все – рослые, бойкие, а главное – все подростки. Они со всей серьезностью следили за сгибом воротника, наклоном берета, лоском сапог. Старшие орали на младших. Их игра в войну превращалась в какой-то абсурд, никому не понятный. Я их не понимала. Не понимала, зачем командир постоянно повторяет имя парня, стоявшего рядом со мной в строю. Может, он хотел, чтобы я запомнила, как зовут этого типа в два раза выше меня. Под конец занятия свой первый диалог на английском я начала с обращения: «Bye, Asshole»[6]6
Пока, жопа (англ.).
[Закрыть].
МАМА ЧАСТО СТАВИЛА МЕНЯ в унизительное положение. Однажды она попросила сходить за сахаром в лавку прямо под нашей первой квартирой. Я пошла, сахара не нашла. Мама отправила меня снова и даже заперла на замок дверь: «Без сахара не возвращайся!» Забыла, что я глухонемая. Я просидела на ступенях у входа до закрытия, пока хозяин не подвел меня к мешку с сахаром за руку. Он понял, чего я хочу, хотя слово «сахар» у меня вышло горьким.
Я долго думала, что маме ужасно нравится все время подталкивать меня к краю пропасти. Сама став матерью, я наконец поняла, что тогда попросту не заметила, как она смотрит в глазок за запертой дверью, не услышала, как она говорит с лавочником по телефону, пока я сижу и реву на ступенях. А еще позже я поняла, что у мамы, конечно, были на мой счет мечты, но главное – она научила пользоваться тем, что помогло мне пустить новые корни, помогло мечтать самой.
ГОРОД ГРАНБИ, КАК НАСЕДКА, согревал нас своим телом в первый год в Канаде. Местные жители по очереди с нами нянчились. В моей начальной школе ученики выстраивались в очередь, чтобы пригласить нас на обед. Что ни полдень, то чья-нибудь семья, и каждый раз мы возвращались в школу почти с пустыми желудками, потому что не умели есть вилкой рассыпчатый рис. Мы не знали, как объяснить, что это чужая для нас пища и не нужно бегать по рынкам, добывая последнюю упаковку «МиньютРайс»[7]7
Популярный бренд, под которым выпускался рис быстрого приготовления.
[Закрыть]. Мы не могли им ничего рассказать и слушать их не могли. Но было главное. Щедрость и благодарность в каждом зернышке, оставленном нами на тарелках. Я до сих пор думаю, что слова, скорее всего, очернили бы эти благословенные минуты. А молчание порой помогает понимать чувства, как это было у Клодетт с господином Кьетом. Поначалу они обходились без слов, однако господин Кьет без лишних вопросов передал ребенка из своих рук в руки Клодетт – ребенка, собственного ребенка, которого он отыскал на берегу после того, как их судно слизнула языком прожорливая волна. Жену он не нашел, только сына, заново родившегося без матери. Клодетт протянула им обе руки, приютила у себя – на много дней, месяцев, лет.
ТОЧНО ТАК ЖЕ ПРОТЯНУЛА МНЕ руки Джоанн. Я понравилась ей, хотя носила шапку с логотипом «Макдоналдса», а после уроков тайком ездила на грузовике еще с пятьюдесятью вьетнамцами в Восточные кантоны – работать в поле. Джоанн хотела, чтобы на следующий год я вместе с ней пошла в частную среднюю школу. Правда, она знала, что в конце каждого дня я жду во дворе той самой школы грузовики с фермы, чтобы ехать на подработку и получить несколько долларов за собранные мешки с фасолью.
А еще Джоанн сводила меня в кино, хотя на мне была рубашка, купленная на распродаже за восемьдесят восемь центов, с дырой у подгиба. Когда мы возвращались после фильма «Слава»[8]8
Фильм режиссера Алана Паркера, вышедший в 1980 г.
[Закрыть], она пропела для меня на английском его главную музыкальную тему – «I sing the body electric…»[9]9
«Электрическое тело пою» (англ.).
[Закрыть]… Только слова я не поняла, да и разговор с сестрой и родителями возле дома тоже. Она помогала мне вставать поначалу, когда я падала на коньках, и аплодировала, выкрикивая мое имя в толпе, когда Серж, одноклассник, в три раза выше ростом, подхватил меня с футбольным мячом в руках и перенес в ворота – так я забила гол.
Иногда мне кажется, что я придумала себе такую подругу. Я встречала много людей, которые верят в Бога, но сама верю в ангелов. Джоанн – один из них. Она из армии ангелов, спустившихся с небес на землю, чтобы устроить нам «шоковую терапию». Они десятками возникали у наших дверей с теплой одеждой, игрушками, приглашениями и мечтами. Мне часто казалось, что нам не хватит места, чтобы принять все дары, заметить все адресованные нам улыбки. Легко, думаете, побывать в зоопарке Гранби больше двух раз за выходные? А получить удовольствие от похода на природу? Или полюбить омлет с кленовым сиропом?
У МЕНЯ ХРАНИТСЯ ФОТОГРАФИЯ, НА которой отец стоит в обнимку с нашими «крестными» – назначенной нам семьей волонтеров. По воскресеньям они занимались тем, что водили нас по блошиным рынкам. Бойко торговались, чтобы мы смогли купить матрасы, посуду, кровати, диваны, в общем, все необходимое, уложившись в триста долларов – пособие, выделенное государством на обустройство нашего первого жилища в Квебеке. Один продавец в качестве бонуса отдал отцу красный свитер с большим воротом-трубой. Папа гордо надевал его каждый день нашей первой весной в Квебеке. Сегодня при виде его широкой улыбки на фотографии забывается, что свитер был приталенным, женским. Некоторых вещей порой лучше не знать.
Разумеется, были моменты, когда мы, напротив, предпочли бы знать больше. Например, знать, что в старых матрасах есть блохи. Но все это мелочи, ведь их не видно на фотографиях. Вообще-то мы думали, что к укусам у нас иммунитет, что ни одна блоха не прокусит кожу, забронзовевшую под малайзийским солнцем. Но холодные ветра и горячие ванны отчистили ее, так что укусы стали – хоть вой, а зуд – до крови.
Мы выбросили матрасы и не сказали об этом крестным. Не хотели их огорчать, ведь они подарили нам душу, подарили время. Мы оценили их щедрость, пусть и не в полной мере: мы еще не знали, что время дорого, не знали, какова его истинная цена и как его мало.
КРУГЛЫЙ ГОД ГРАНБИ ОСТАВАЛСЯ земным раем. Лучше места на свете я и представить не могла, хотя мухи там кусались точно так же, как в лагере беженцев. Один местный ботаник повел нас, детей, на болота, обильно поросшие камышами, – решил показать насекомых. Он не знал, сколько месяцев мы прожили с мухами в лагере. Они облепляли ветки сухого дерева возле выгребной ямы, рядом с нашей хижиной. Собирались в гроздья, напоминавшие черный перец или виноград. Так много, такие большие – зачем им летать, если они и так маячили у нас перед глазами, вошли в нашу жизнь? Мы могли слышать их сквозь собственные голоса, а вот гид-ботаник говорил шепотом, чтобы уловить их гул, попытаться его понять.
КАК ЖУЖЖАТ МУХИ, МНЕ напоминать не надо. Стоит закрыть глаза, и я снова слышу – вот они кружат: под жгучим малайзийским солнцем мне из месяца в месяц приходилось садиться на корточки в десяти сантиметрах над огромным резервуаром, до краев наполненным экскрементами. Приходилось рассматривать непередаваемый коричневый оттенок и каждый раз страшно было моргнуть, а то чего доброго поскользнешься на двух досках за дверью одной из шестнадцати кабинок. Нужно было держать равновесие, не потерять сознание, когда от фекалий, моих или из соседней кабинки, летели брызги. В такие мгновения я словно куда-то переносилась – слушала, как летают мухи. Однажды в проем между досками свалился мой шлепанец: я слишком быстро переставила ногу. Он нырнул в эту кашу, но не утонул. И плавал там, как лодка без руля и без ветрил.
МНОГО ДНЕЙ Я ХОДИЛА БОСИКОМ – ждала, пока мама найдет мне осиротевший шлепанец другого ребенка, у которого случилась такая же потеря. Я ступала прямо по глине, где неделю назад ползали опарыши. После сильного дождя они всегда выбирались из ямы, сотнями тысяч, словно по зову мессии. Все они направлялись к глиняному склону нашего холма и карабкались вверх, неустанно и верно. Они подползали к нашим ногам, в едином ритме, превращая красную охру в колышущийся белый ковер. Их было столько, что мы сдавались без боя. Они были непобедимы, а мы беззащитны. Мы не мешали им расширять территорию, пока не кончится дождь, и тогда беззащитными, в свой черед, становились они.
КОГДА КОММУНИСТЫ ВОШЛИ в Сайгон, моя родня отдала им половину семейной усадьбы, ведь защищать нас теперь было некому. Кирпичная стена разделила два адреса: один – наш, другой – районного участка полиции.
Год спустя посланцы новой коммунистической администрации вернулись освободить наше жилье от вещей, а нас – от жилья. Инспекторы вошли во двор – без повестки, без ордера, без объяснений. Они велели, чтобы все, кто был дома, собрались в гостиной. Родителей дома не было, инспекторы стали их ждать, они сидели на подлокотниках кресел в стиле ар-деко, выпрямившись и словно боясь прикоснуться к украшавшим их двум белым льняным салфеткам, обшитым тонким кружевом. Мама первой показалась за стеклянной дверью, обрамленной кованым железом. На ней была белая плиссированная мини-юбка и кроссовки. Следом – папа с теннисными ракетками и каплями пота на лице. Внезапное появление инспекторов швырнуло нас в настоящее, когда мы еще наслаждались последними мгновениями прошлого. Всем взрослым было велено оставаться в гостиной, инспекторы начали инвентаризацию.
Нам, детям, не запрещалось ходить за ними с этажа на этаж, из комнаты в комнату. Они опечатали комоды, гардеробы, трюмо, несгораемые шкафы. Даже большой шифоньер с бюстгальтерами моей бабушки и шести ее дочерей – без описи содержимого. Я тогда подумала, что молодому инспектору неловко при мысли о полногрудых юницах, сидящих в гостиной и одетых в эти тонкие кружева из Парижа. Еще я подумала, что он оставил лист белым, не стал переписывать содержимое шифоньера, потому что от желания не справился бы с дрожью. Но я была неправа: он не знал, для чего служат бюстгальтеры. Они напомнили ему фильтры для кофе, как у его мамы: обшитое тканью кольцо из проволоки со скрученными между собой концами – вместо ручки.
У моста Лонг-Бьен, перекинутого через Красную реку в Ханое, его мать каждый вечер наполняла фильтр молотым кофе и опускала его в алюминиевую кофеварку, чтобы затем продать пару чашек прохожим. Зимой она ставила стеклянные чашки глотка на три, не больше, в миску с горячей водой, чтобы они не остывали, пока мужчины беседуют на лавках, едва возвышающихся над землей. Покупатели приходили на свет масляной лампы на крошечном рабочем столе, рядом на тарелке были выложены три сигареты. Каждое утро молодой инспектор, совсем еще мальчик, просыпался и прямо над головой видел бурый кофейный фильтр, штопаный-перештопаный, который висел на гвозде и иногда был еще влажным. Я услышала разговор этого парня с другими инспекторами на лестничной площадке. Он не мог взять в толк, зачем моей семье столько кофейных фильтров, разложенных по ящикам, обитым шелковой бумагой. И почему они двойные? Может, потому что кофе всегда пьют с другом?
ЭТОТ МОЛОДОЙ ИНСПЕКТОР с двенадцати лет бродил по джунглям – освобождал южный Вьетнам из «волосатых» лап американцев. Он спал в подземных галереях, сидел весь день в пруду под цветком лилии, видел тела товарищей, принесенных в жертву, чтобы не скользили пушки, и малярийными ночами слушал шум вертолетов и грохот взрывов. Он забыл родительские лица, помнил только черный гагатовый глянец на зубах матери. Откуда ему догадаться, зачем нужен бюстгальтер? У девушек и парней в джунглях вещи были одинаковыми: зеленая каска, шлепанцы из потертой автомобильной резины, форма и шейный платок в черно-белую клетку. Инвентаризация их добра занимала три секунды, в отличие от нашего – на него понадобился год. Нам пришлось потесниться и принять у себя десяток этих девушек и парней из военной инспекции. Мы отдали им этаж. И жили по разным углам, стараясь не пересекаться с ними, за исключением ежедневных обысков, когда нам приходилось стоять друг к другу лицом. Им нужно было твердо знать, что теперь в нашем распоряжении только самое насущное – как у них.
Однажды десять наших постояльцев приволокли нас в свою ванную и обвинили в краже рыбы, которую им выдали на ужин. Они показывали на унитаз и твердили, что еще утром рыба была там, живая и невредимая. Что с ней случилось?
БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ РЫБЕ НАМ удалось наладить общение. Позже мой отец подкупил их тем, что тайком давал слушать музыку. Я сидела под роялем, в темноте, и видела, как слезы текут по их щекам, на которых уже глубоко и четко отпечатались ужасы большой Истории. После того случая мы перестали понимать, враги они или жертвы, любим мы их или ненавидим, боимся или жалеем. А им было не понять, они ли избавили нас от американцев, или, наоборот, это мы избавили их от вьетнамских джунглей.
Но вскоре музыка, от которой разжались их кулаки, полетела в огонь, разведенный на террасе, на крыше дома. Они получили приказ сжигать книги, песни, фильмы – все, что не отвечало образам мужчин и женщин с сильными руками, размахивающих серпами, молотами и красными флагами с желтой звездой. Вмиг небо снова заволокло дымом.
ЧТО СТАЛО С ТЕМИ СОЛДАТАМИ? С тех времен, когда кирпичная стена выросла между нами и коммунистами, многое изменилось. Я вернулась во Вьетнам работать с теми, кто заложил основание этой стены, придумал этот секач, погубивший сотни тысяч жизней, а может, и миллионы. Конечно, много воды утекло с тех пор, как боевые танки впервые проехали по улице перед нашим домом в 1975 году. Теперь я даже усвоила коммунистическую лексику тех, кто нас тогда штурмовал, ведь Берлинская стена пала, железный занавес поднялся, а я еще слишком молода, чтобы тяготиться прошлым. Вот только в моем доме не будет кирпичной стены. Я по-прежнему не разделяю любовь окружающих к кирпичным стенам. Они говорят, что так теплее.
ПОЛУЧИВ НАЗНАЧЕНИЕ В ХАНОЕ, в первый рабочий день я прошла мимо каморки, полностью просматривавшейся с улицы. Внутри мужчина и женщина выкладывали из кирпичей стену, разделявшую помещение надвое. День за днем стена росла, пока не достигла потолка. Моя секретарша объяснила, что это два брата не захотели дальше жить под одной крышей. Мать не смогла помешать разделу – быть может, потому что тридцать лет назад сама воздвигала такие же стены между победителями и побежденными. Я провела в Ханое три года, за это время их мать скончалась. Старшему она оставила в наследство вентилятор без переключателя, а младшему – переключатель без вентилятора.