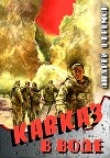Текст книги "Ру. Эм"
Автор книги: Ким Тхюи
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Я ВЕРНУЛАСЬ ВО ВЬЕТНАМ РАБОТАТЬ, на три года. Но так и не добралась до родного города моего отца, всего в двухстах километрах от Сайгона. В детстве, пока я преодолевала этот двенадцатичасовой маршрут, меня постоянно тошнило, несмотря на то, что мама устилала пол мотоциклетного багажника подушками, чтобы меня меньше трясло. Дороги были в глубоких рытвинах. По ночам их минировали повстанцы-коммунисты, а днем разминировали проамериканские военные. Случались взрывы. Тогда приходилось часами ждать, когда солдаты засыплют яму и соберут останки. Однажды разорвало женщину, она лежала в желтых цветах кабачков, разбросанных вокруг, рваных. Наверняка она ехала на рынок продавать товар. Может быть, на обочине нашли также труп ее ребенка. А может, и нет. Может, ее муж умер в джунглях. Может, это была та самая женщина, утратившая любовь возле дома моего деда, отца матери, префекта.
ОДНАЖДЫ, ПОКА МЫ, НЫРНУВ в черноту грузовика, ехали собирать клубнику или фасоль, мать рассказала мне об одной женщине, поденщице, которая каждое утро ждала нанимателя напротив дома моего деда, маминого отца. Каждое утро дедов садовник приносил ей порцию клейкого риса, завернутого в лист бананового дерева. И каждое утро, стоя в грузовике, который увозил ее на плантации гевеи, она провожала взглядом садовника, удалявшегося вглубь сада с бугенвиллеями. Как-то утром она не увидела его на грунтовой дороге, которую он переходил, принося ей завтрак. И на следующее утро… и еще через день. В один из вечеров она протянула моей матери лист, испещренный вопросительными знаками, одними только вопросительными знаками. И все. Больше мама не видела ее в грузовике, набитом рабочими. Эта девушка не возвращалась ни на плантации, ни к саду с бугенвиллеями. Она исчезла, так и не узнав, что садовник тщетно просил у своих родителей разрешения на ней жениться. Ей никто не сказал, что мой дед согласился по просьбе родственников садовника перевести его в другой город. Никто не сказал, что садовник, ее возлюбленный, вынужден был уехать и не смог оставить ей письмо, потому что она была неграмотной, она была девушкой, которая ездила с мужчинами, и кожа у нее была слишком смуглой от солнца.
У МАДАМ ЖИРАР БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ смуглая кожа, хотя она не собирала в полях клубнику и не трудилась на плантациях. Мадам Жирар наняла мою мать заниматься у нее уборкой, не зная, что та до первого рабочего дня ни разу не держала в руках швабру. Мадам Жирар была платиновой блондинкой, как Мерилин Монро, с голубыми-голубыми глазами, а высокий брюнет месье Жирар – гордым владельцем сверкающего старинного автомобиля. Они часто принимали нас в своем белом доме с идеально выстриженным газоном, цветами, обрамлявшими вход, и коврами в каждой комнате. Они олицетворяли для нас американскую мечту.
Их дочь приглашала меня с собой, когда участвовала в конкурсах езды на роликах. Она отдавала мне платья, которые были ей тесны, среди них был летний хлопковый сарафан, ярко-синий с миниатюрными белыми цветами, на бретельках, которые завязывались на плечах. Я носила его и летом, и зимой, поддевая водолазку. В первые зимы мы не знали, что одежда должна соответствовать сезону и не следует просто носить то, что у нас есть. Когда становилось холодно, мы, не видя разницы, не различая одежду по категориям, надевали одну вещь на другую, слой за слоем, как бездомные.
ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ МОЙ ОТЕЦ случайно нашел месье Жирара. Теперь он жил в другом доме, жена от него ушла, а дочь была в «творческом отпуске», в поисках перспективы, жизненной цели. Когда отец сообщил мне об этом, я едва не почувствовала себя виноватой. Я спрашивала себя, не украли ли мы невольно американскую мечту месье Жирара, так сильно ее лелея.
Я ТОЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАШЛА свою первую подругу – Джоанн. Она не узнала меня ни по телефону, ни при встрече, потому что никогда не слышала, как я говорю, ведь раньше мы не разговаривали, она считала меня глухонемой. Она не могла припомнить, чтобы ей хотелось стать хирургом, а я когда-то в средней школе твердила специалистам по профориентированию, что мне так же, как Джоанн, интересна хирургия.
Каждый год эти специалисты вызывали меня в кабинет, обнаружив вопиющий разрыв между моими оценками и результатами тестов на коэффициент интеллекта, говорившими чуть ли не о дефективности. Как можно не найти лишнее слово в ряду «шприц, скальпель, череп и хирургический нож», притом что я способна наизусть повторить текст о Жаке Картье[17]17
Жак Картье (1491–1557) – бретонский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки.
[Закрыть]? Я усваивала только то, что мне непосредственно преподавали, транслировали, предлагали. Поэтому я понимала слово «хирург», но не знала «хиреть», не знала «солярий» или «конкур». Могла спеть национальный гимн, но «Танец маленьких утят» или «Хеппи бездей» – это мимо. Я собирала знания наобум, как мой сын Анри, который может произнести слово «груша», но не может – «мама»: у нас обоих нетипичные пути обучения, где множество поворотов и скрытых камней, где не бывает последовательности и логики. Точно так же оформлялись мои мечты – благодаря встречам, друзьям, другим людям.
МНОГИМ ИММИГРАНТАМ УДАЛОСЬ осуществить американскую мечту. Тридцать лет назад в любом городе, будь то Вашингтон, Квебек, Бостон, Римуски или Торонто, мы проходили квартал за кварталом в калейдоскопе розовых садов, больших вековых деревьев, каменных домов, но на их дверях никогда не значился нужный адрес. Сегодня в одном из таких домов живут моя тетушка Шестая и ее муж (дядюшка Шестой). Они путешествуют первым классом и прикалывают записки к спинкам кресел, чтобы стюардессы не подносили им шоколадные конфеты и шампанское. Тридцать лет назад в нашем лагере беженцев в Малайзии тот же дядюшка Шестой ползал медленнее, чем его восьмимесячная дочь, – от недостатка питания. Та же тетушка Шестая единственной иглой шила одежду, чтобы покупать дочери молоко. Тридцать лет назад мы с ними жили во мраке – не было электричества, водопровода и личного пространства. Сегодня сетуем, что дом у них слишком большой, а наша обширная семья слишком мала, чтобы отмечать праздники с тем же размахом – до самого утра, – как у моих родителей в первые годы в Северной Америке, когда мы собирались все вместе.
Нас было двадцать пять, иногда тридцать человек: родня съезжалась в Монреаль из Фанфуда, Монпелье, Спрингфилда, Гуэлфа и проводила в небольшой квартире с тремя спальнями все рождественские каникулы. Кто искал уединения, устраивался на ночлег в ванной. Остальные находились вместе, бок о бок. Само собой, спорили, смеялись и ссорились до утра.
Что бы мы ни дарили друг другу, это всегда был настоящий подарок, не какая-то безделушка. Да-да, любой подарок был всем подаркам подарок, потому что, – и это главное, – ради него чем-то жертвовали, а еще он непременно был связан с какой-то потребностью, желанием или мечтой. Мы хорошо знали, о чем мечтают наши близкие, – недаром столько ночей провели, прижавшись друг к другу. Тогда все мы грезили об одном и том же. Долгое время нам приходилось лелеять общую мечту – американскую.
НА МОЕ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ тетушка Шестая, работавшая на птицефабрике, подарила мне квадратную алюминиевую коробку чая, на которой красовались китайские волшебницы, вишневые деревья и красно-золотисто-черные облака. На десяти бумажных карточках, сложенных пополам и вложенных в чай, тетушка Шестая написала названия ремесел, профессий, запечатлела связанную со мной мечту: журналистка, краснодеревщица, дипломат, адвокат, художник-модельер, стюардесса, писательница, гуманитарный работник, кинорежиссер, политик. Благодаря ее подарку я узнала, что, кроме медицинских, есть другие профессии и мне дано обрести собственную мечту.
МЕЖДУ ТЕМ, СТОИТ ОСУЩЕСТВИТЬ американскую мечту, и она остается при нас, как нарост, как опухоль. Когда я на каблуках, в обтягивающей юбке, с папкой для бумаг впервые пришла в учебный ресторан для детей из малоимущих семей в Ханое, юный официант, обслуживавший мой столик, не понял, почему я обращаюсь к нему на вьетнамском. Сначала я подумала, что он не уловил мой южный акцент. Но в конце он простодушно сказал, что для вьетнамки я слишком толстая.
Я перевела его слова моим боссам, они до сих пор смеются. Позже я поняла, что он имел в виду не мои сорок пять килограммов, а ту самую американскую мечту, уплотнившую, надувшую, утяжелившую меня. Американская мечта придала уверенность моему голосу, решимость – жестам, определенность – желаниям, стремительность – походке, силу – взгляду. Американская мечта заставила поверить, что для меня все достижимо, что я могу перемещаться на автомобиле с водителем и в то же время взвешивать тыквы, привезенные на ржавом велосипеде женщиной, чьи глаза заливает пот; могу танцевать под одну музыку с девицами в баре, которые крутят бедрами и кружат головы мужчинам с бумажниками, тугими от американских долларов; как зарубежный специалист могу жить на большой вилле и отводить босоногих детей в школу, устроенную прямо на тротуаре, на пересечении двух улиц.
Но этот юный официант напомнил мне, что нельзя получить все, что я больше не вправе называть себя вьетнамкой, потому что утратила характе́рную хрупкость, неуверенность, страхи. Упрек его был справедлив.
ТОГДА ЖЕ МОЙ БОСС ВЫРЕЗАЛ ИЗ ОДНОЙ монреальской газеты статью, напоминавшую, что «квебекская нация» – европеоидная и что мои раскосые глаза автоматически относят меня к другой категории, несмотря на то что Квебек подарил мне американскую мечту и тридцать лет был моей колыбелью. Спрашивается – кого любить? Никого или всех подряд? Я решила любить всех, не принадлежа никому. Решила полюбить того месье из Сен-Фелисьена, на английском пригласившего меня танцевать. «Follow the guy»[18]18
Здесь: Иди-ка потанцуй с мужиком (англ.).
[Закрыть], – сказал он. Я также люблю парня на мопеде из Дананга, спросившего, сколько мне платят за эскорт-услуги «белому», моему мужу. А еще часто вспоминаю торговку, продававшую нарезанный соевый сыр по пять центов за штуку: она сидела прямо на земле в неприметном углу ханойского рынка и рассказывала соседкам, что я японка и мой вьетнамский быстро прогрессирует.
Она была права, мне пришлось заново учить родной язык, с которым я слишком рано рассталась. Да и вообще, я пока не овладела им в совершенстве, потому что, когда я родилась, страна была поделена надвое. Я с юга и до возвращения ни разу не слышала речь северян. Так же и северяне до воссоединения не слышали южан. Вьетнам – все равно что Канада: там были свои два одиночества. На севере язык менялся вместе с ситуацией – политической, социальной и экономической, за счет слов, которые нужны, чтобы объяснить, как из ручного пулемета на крыше сбить самолет, а с помощью глутамата натрия быстрее остановить кровь, где можно укрыться, если воют сирены. На юге тем временем язык создавал слова, которые позволяют описать пузырьки кока-колы на языке, назвать шпионов, повстанцев, тех, кто на улицах юга сочувствует коммунистам, или детей, рожденных после ночных разгулов солдат-янки.
ИМЕННО ЯНКИ ПОМОГЛИ МОЕМУ дядюшке Шестому купить пропуска для себя, своей жены, моей тетушки Шестой, и их малютки-дочери на то же судно, что и мы. Родители дядюшки здорово разбогатели, торгуя льдом. Американские солдаты скупали его целыми блоками – метр в длину на двадцать сантиметров в высоту и ширину, – чтобы подкладывать под кровати. Им нужно было охлаждаться, ведь они неделями обливались потом во вьетнамских джунглях. Нужно было человеческое тепло, но не жар собственных тел или тел женщин, которым они платили. Нужен был глоток свежего воздуха, напоминание о Вермонте или Монтане. Нужна была эта прохлада, чтобы на миг забыть, что любой ребенок, подошедший потрогать волосы у них на руках, может сжимать в кулаке гранату. Им нужен был холод против чар этих пухлых губ, нашептывавших им в уши лживые слова любви, изгоняя из слуховых каналов крики их изувеченных товарищей. Нужно было сохранять хладнокровие, когда они уходили от женщин, носивших их детей, и больше не возвращались, даже не называли свою фамилию.
БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ ЯНКИ СТАЛИ сиротами, бездомными, изгоями из-за ремесла их матерей, как и их отцов. Они изнанка войны. Через тридцать лет после ухода последнего янки американское государство вернулось во Вьетнам вместо своих солдат, чтобы забрать этих травмированных детей. Им создали новую личность, чтобы не осталось следов запятнанной. У многих из этих детей впервые появился адрес, место жительства, полноценная жизнь. Но не всем удалось свыкнуться с таким богатством.
Как-то раз, когда я работала переводчиком в нью-йоркской полиции, мне встретилась одна такая повзрослевшая девочка. Она была неграмотной и слонялась по улицам Бронкса. На Манхэттен она приехала на автобусе, но откуда – сказать не смогла. Она надеялась, что автобус привезет ее к постели из картонных коробок, которую она соорудила перед сайгонским почтамтом. Она настойчиво повторяла, что она вьетнамка. Несмотря на кожу цвета кофе с молоком, густые букли, африканскую кровь, глубокие шрамы, вьетнамка и только вьетнамка, – твердила мне она. И умоляла перевести полицейскому, что хочет вернуться к себе в джунгли. Но полицейский мог только выпустить ее в джунгли Бронкса. Будь у меня возможность, я сказала бы ей – держись меня. Оттерла бы следы грязных рук с ее тела. А ведь мы с ней были ровесницами. Хотя нет, я не вправе называться ее ровесницей: ее возраст определялся количеством звезд, которые она видела во время налетов, а не годами, месяцами и днями.
МЕНЯ ДО СИХ ПОР ИНОГДА посещают воспоминания об этой девушке. Все думаю: был ли у нее шанс выжить в Нью-Йорке? Там ли она по-прежнему? А полицейский – думает ли он о ней так же часто, как я? Может, мой дядюшка Шестой, преподающий статистику в Принстоне, рассчитал бы долю рисков и препятствий, с которыми ей пришлось столкнуться.
Я часто прошу дядюшку что-нибудь вычислить – притом, что он никогда не считал километры, которые все лето проделывал по утрам, отвозя меня на урок английского, не считал, сколько купил мне книг, не считал мечты, которые они с женой для меня наметили. Я о многом позволяю себе его спрашивать. Но ни разу не решилась узнать, может ли он рассчитать шанс на выживание господина Ана.
ГОСПОДИН АН ПРИЕХАЛ В ГРАНБИ НА одном автобусе с нами. Зимой и летом он сидел, прислонившись спиной к стене, а ногами упирался в балконные перила и держал в пальцах сигарету. Господин Ан был нашим соседом по площадке. Я долго думала, что он немой. Встретив его сегодня, я сказала бы, что он аутист. Однажды он поскользнулся на утренней росе. И на тебе – хлопнулся на спину. Хлоп! «Хлоп!» – воскликнул он несколько раз подряд и расхохотался. Я опустилась на колени, чтобы помочь ему подняться. Он вцепился в мои руки, оперся, но не вставал. Он плакал. Плакал и плакал. Потом резко замолк и обратил мое лицо к небу. Спросил, какой я вижу цвет. Голубой. Тогда он поднял вверх большой палец, а указательный приставил к моему виску и спросил, по-прежнему ли небо голубое.
ДО ТОГО, КАК ГОСПОДИН АН НАЧАЛ мыть полы на заводе резиновой обуви в промышленном парке Гранби, он был судьей, профессором, выпускником американского университета, отцом и узником. Между запахом каучука и духотой в зале сайгонского суда его ждали два года наказания за то, что он был судьей и судил своих соотечественников-коммунистов. В лагере перевоспитания судили уже его самого и по утрам ставили в шеренгу с сотнями тех, кто во время войны выбрал не ту сторону.
Лагерь глубоко в джунглях был уединенным местом, где положение обязывало контрреволюционеров, предателей народа, американских приспешников предаваться обстоятельной самокритике и помышлять об искуплении за рубкой деревьев, посадкой кукурузы и разминированием полей.
Дни следовали один за другим, как звенья цепи: первое было у них на шее, а последнее – в центре земли. Как-то утром господин Ан почувствовал, что его цепь укоротилась, когда солдаты выволокли его из строя и поставили на колени в грязь под бегающими, испуганными, пустыми взглядами бывших коллег, чьи тела были едва покрыты лохмотьями да кожей. Он рассказал мне, что, когда горячий металл пистолета коснулся его виска, он решился на последний бунт: задрал голову и взглянул на небо.
Впервые ему открылось столько оттенков синего, один ярче другого. Все вместе они были ослепительны. И тут он услышал щелчок курка в тишине. Но ни грохота, ни выстрела, ни крови, только пот прошиб. В ту ночь оттенки синего плыли у него перед глазами, как будто кто-то закольцевал кинопленку.
Он выжил. Небо порвало его цепь, спасло его, освободило, пока другие умирали от удушья и жажды в грузовых контейнерах – им так и не выпало пересчитать цвета небесной сини. Так что он каждый день заново выверяет палитру – за них, вместе с ними.
ГОСПОДИН АН НАУЧИЛ МЕНЯ различать нюансы. Господин Мин привил желание сочинять. Я встретила господина Мина, когда он сидел на банкетке, обтянутой красным дерматином, в китайском ресторане на рю Кот-де-неж, где мой отец работал курьером. Я делала там домашние задания, пока не закончится смена. Господин Мин помечал улицы с односторонним движением, отдельные адреса, нежелательных клиентов. Он готовился стать доставщиком так же серьезно, так же рьяно, так же нервно, как изучал французскую словесность в Сорбонне. Его спасло не провидение, а письмо. За годы в лагере перевоспитания он написал несколько книг, и все – на единственном клочке бумаги, который у него был, одну страницу поверх другой, главу за главой, постоянно обрывая рассказ. Без этого он не услышал бы, как тает снег, вырастают листья, плывут облака. Не увидел бы тупик мысли, оболочку звезды, текстуру запятой. По вечерам он рисовал у себя на кухне древесных уток, дроф, гагар, селезней по палитре, которую выдал ему заказчик, и повторял для меня слова из личного словаря: вербейник, стонать, квадрофония, in extremis[19]19
В последний момент, в крайнем случае; м. б. при смерти (лат.).
[Закрыть], саккулина[20]20
Морской рак-паразит, чаше всего селящийся на крабах.
[Закрыть], логарифмический, кровотечение… как заклинание, как будто шел к пропасти.
КОГДА ВО ВЬЕТНАМЕ НАСТУПИЛ МИР, или время после войны, все мы спасались по-разному. Мою семью спас Ань Фи.
Ань Фи, подросток-сын подруги моих родителей, нашел пакет с золотыми таалями[21]21
Старинная китайская монета.
[Закрыть], который однажды ночью мой отец бросил с балкона на четвертом этаже. Днем, накануне той ночи, родители велели мне тянуть за шнурок, протянутый в коридоре, если на этаже вдруг появятся жившие в нашем доме солдаты. Мать с отцом на много часов засели в ванной, где извлекали из-под розовой и черной мозаичной плитки спрятанную там золотую сусаль и бриллианты. Все это они тщательно упаковали в несколько вложенных один в другой пакетов из крафтовой бумаги, после чего выбросили. Как и планировалось, сверток приземлился в развалинах дома бывшего соседа напротив.
В то время детей обязывали сажать деревья в знак благодарности нашему духовному лидеру Хо Ши Мину, а еще они собирали уцелевшие кирпичи на месте разрушенных домов. Так что никто ничего бы не заподозрил, увидев, как я перебираю обломки. Но осторожность была нелишней, потому что дома солдаты следили за дверью – проверяли, кто к нам ходит и куда ходим мы. Зная, что за мной наблюдают, я слишком быстро обошла территорию и не нашла сверток даже со второй попытки. Тогда мои родители попросили, чтобы там прошелся Ань Фи. Обшарив все заново, он ушел с мешком, полным кирпичей.
На следующий день пакет с золотыми таалями был передан моим родителям, а они затем отдали его организаторам нашего бегства по морю. Все таали были на месте. В то турбулентное мирное время голод обычно побеждал рассудок, а неуверенность в завтрашнем дне – мораль, наоборот бывало реже. Ань Фи и его мать оказались исключением. Они стали нашими героями.
ПО ПРАВДЕ СКАЗАТЬ, АНЬ ФИ СТАЛ моим героем задолго до того, как отдал моим родителям два с половиной килограмма золота: когда я приходила к нему в гости, он садился со мной на пороге дома и доставал из-за моего уха конфету, а не тащил играть с другими детьми.
Мое первое самостоятельное путешествие, без родителей, было в Техас: я поехала встретиться с Ань Фи и тоже подарить ему конфету. Мы сидели рядом на полу, прислонившись к его спартанской кровати в университетском кампусе, и я спросила, почему он отдал пакет с золотом моим родителям, хотя его матери-вдове приходилось смешивать рис с ячменем, сорго и кукурузой, чтобы прокормить его и еще трех братьев, к чему был этот героизм. Отвечал он, смеясь и ритмично ударяя по мне подушкой: он хотел, чтобы мои родители смогли купить пропуск на судно, потому что иначе не дразнил бы теперь маленькую девчонку. Он по-прежнему был героем, настоящим героем, потому что не мог им не быть, потому что даже не знал, что он герой, не стремился им стать.
МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ТАКИМ героем для девушки, продававшей жареную свинину у стен буддистского храма, напротив нашего офиса. Разговаривала она мало, была поглощена работой – сосредоточенно нарезала мясо ломтиками и рассовывала по десяткам багетов, предварительно на три четверти их разломав. Как только в металлическом ящике, почерневшем от многолетних напластований жира, поджигали угли, разглядеть ее лицо становилось трудно, потому что ее обволакивало и душило, вызывая слезы, облако дыма. Муж ее сестры обслуживал покупателей и мыл посуду в двух чанах с водой прямо у края тротуара, вдоль которого тянулся открытый водосток. Девушке было лет пятнадцать-шестнадцать, и она была потрясающе красива, несмотря на затуманенный взгляд и щеки в саже и пепле.
Однажды у нее вдруг загорелись волосы, а от них занялась огнем блузка из полиэстера, прежде чем зять успел опрокинуть чан с грязной от посуды водой ей на голову. Она была вся в ошметках салата, ломтиках зеленой папайи, перце и рыбном соусе. На следующий день я пришла к ней еще до ланча и предложила убирать наш офис, а еще хотела записать ее на кулинарные курсы и курсы английского. Я была уверена, что исполняю ее самую заветную мечту. А она отказалась, от всего, просто помотала головой. Так я и уехала из Ханоя, оставив ее на тротуаре, и не смогла направить ее взгляд к незадымленному горизонту, не стала героем, как Ань Фи и как многие другие люди, признанные, нареченные, провозглашенные героями Вьетнама.
МИР, ЯВИВШИЙСЯ НА СВЕТ ИЗ пушечных жерл, неизбежно порождает сотни, тысячи рассказов о храбрецах, о героях. В первые годы после победы коммунистов на страницах учебников истории для всех героев буквально не хватало места, и они перекочевывали в учебники математики: сколько самолетов сбил за неделю товарищ Конг, если сбивал их по два за день?
Нас больше не учили считать на бананах и ананасах. Школьный класс превратился в игру «Завоевание мира»[22]22
Тактико-стратегическая настольная игра, впервые выпущенная в 1957 г. во Франции. Во многих странах известна также под названием «Риск».
[Закрыть] с подсчетом погибших, раненых и попавших в плен солдат и победами – патриотическими, эпохальными и красочными. Но краски передавались только словами. Изображения были такими же монохромными, как и люди, – наверное, чтобы мы не забывали о мрачной стороне реальности. Нам всем полагалось ходить в черных штанах и темных рубахах. Солдаты в форме цвета хаки отводили нарушителей в участок на допрос и перевоспитание. Останавливали также девушек, пользовавшихся синими карандашами и тенями для век. Думали, что у них синяки, что они жертвы капиталистического насилия. Не потому ли с первого флага коммунистического Вьетнама убрали небесную синеву?
КОГДА МОЙ МУЖ В КРАСНОЙ футболке с желтой звездой на груди появился на улицах Монреаля, к нему начали цепляться вьетнамцы, а мои родители заставили снять одежу и дали другую, тесную, отцовскую. Лично я не надела бы такую футболку, но не помешала мужу ее купить, потому что сама успела гордо повязать на шее красный галстук. Включила в свой гардероб символ коммунистической юности. Я завидовала друзьям, если на треугольнике, лежавшем на их плечах, было вышито желтым «Cháu ngoan BàcHô»[23]23
«Достойные дети дядюшки Хо» (вьет.). Строка из гимна Вьетнамской пионерской организации.
[Закрыть]. Их называли «любимыми детьми партии», мне до них было как до луны – родня подкачала, пусть я и была первой в классе и посадила больше всех деревьев, думая об отце наших мирных дней. Над каждой классной доской, в каждом кабинете, в каждом доме на стене должна была висеть хотя бы одна фотография Хо Ши Мина. Его снимками заменяли даже фотографии предков, которые никто прежде не осмеливался трогать, считая священными. Все предки, – пусть они были игроками, ничтожествами или злодеями, – окружались почетом, становились неприкасаемыми, как только умирали, едва их выставляли на алтарь с фимиамом, плодами и чаем. Алтари устраивали на достаточно большой высоте, чтобы предки смотрели на нас сверху вниз. Предки селились не в сердцах потомков, а над их головами.
СОВСЕМ НЕДАВНО В МОНРЕАЛЕ МНЕ встретилась вьетнамская бабушка с годовалым внуком. «Thuong Bà d dâu?» – спрашивала она его. Мне не перевести эту фразу, в которой всего четыре слова, причем два из них – глаголы: «любить» и «нести». Буквально она означает: «Любить бабушку нести где?» Малыш показал рукой на голову. Я совершенно забыла этот жест, который сама делала тысячу раз, когда была маленькой. Забыла, что любовь – она от головы, а не от сердца. Во всем теле нет ничего важнее головы. Прикоснуться к голове вьетнамца – значит оскорбить, и не только его одного, но и всю его родословную. Робкий восьмилетний вьетнамец сделался разъяренным тигром, когда товарищ по команде, его квебекский друг, потрепал его по макушке, – хотел поздравить, когда тот поймал свой первый футбольный мяч.
Если дружеский жест может стать оскорблением, то, видимо, и любовь не универсальна: ее также нужно переводить с одного языка на другой, нужно ей учиться. Во вьетнамском языке любовь можно поделить на категории и пересчитать все ее термины: любить вкус (thich), любить не любя (thu’o’ng), влюбиться по уши (yêu), опьянеть от любви (mê), любить слепо (mù quáng), любить из благодарности (tình nghĩa). Невозможно просто любить, без головы тут никак.
Мне повезло, я научилась смаковать удовольствие, когда кладешь голову в подставленную ладонь-колыбель, и родителям моим повезло, им достается любовь моих детей, когда те целуют их волосы – ни с того ни с сего, без лишних церемоний, когда приходит время щекотаний перед сном. К голове отца я прикоснулась всего раз. Он велел мне опереться на нее, чтобы перебраться через борт судна.
МЫ НЕ ЗНАЛИ, ГДЕ ОКАЗАЛИСЬ. Высадились, как только увидели сушу. Когда приближались к берегу, к нам бросился какой-то человек, азиат, в голубых спортивных трусах. Он повторял на вьетнамском, чтобы мы все покинули судно и уничтожили его. Неужели вьетнамец? Не пришли ли мы после четырехдневного плавания в исходную точку? Кажется, таких вопросов никто себе не задавал, все попрыгали в воду, как будто высадилась армия. В этой сумятице незнакомец исчез и больше не появлялся. Не знаю, почему я так отчетливо запомнила этот образ: человек бежит по воде, вскидывает руки, бьет кулаком в пустоту, выкрикивает что-то важное, то, чего ветер до меня не донес. Я помню его так же ясно и зримо, как Бо Дерек, выбегающую из воды в купальнике телесного цвета[24]24
Бо Дерек (род. 1956) – американская актриса. Имеется в виду образ, созданный ею в фильме «Тарзан, человек-обезьяна» (1981).
[Закрыть]. А ведь я видела его всего один раз, долю секунды, в отличие от афиши с Во Дерек, месяцами попадавшейся мне на глаза.
Его видели все, кто был на палубе. Но никто не смог бы с уверенностью это подтвердить. Может, перед нами был мертвец – из тех, чьи суда развернули обратно в море местные власти. Призрак, которому было поручено нас спасти, чтобы самому получить пропуск в рай. Может, это был малайзиец-шизофреник. Или турист Club Med[25]25
От Club Méditerranée, «Средиземноморский клуб». Французская туристическая компания, владеющая сетью курортов по всему миру.
[Закрыть], заскучавший от монотонности отпуска.
БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ турист, ведь вышли мы на пляж – огороженный, потому что там водились черепахи, и граничивший с территорией Club Med. Это действительно был бывший пляж Club Med, где даже сохранился бар, спрятанный глубоко под навесом. В баре мы каждый день устраивались на ночлег на фоне стены, исписанной именами побывавших там вьетнамцев, таких же, как мы, выживших. Пристань мы к берегу хоть на четверть часа позже, наши ноги не утопали бы теперь в тонком золотистом песке этого райского места. Наше судно полностью разрушилось прибоем под обычным дождем, который пролился, как только мы высадились. Мы все, двести с лишним человек, молча наблюдали это зрелище, расплывавшееся перед глазами из-за дождя и от потрясения. Доски поочередно подпрыгивали на гребнях волн, как в синхронном плавании. Уверена, на короткий миг эта картина всех нас сделала верующими. Всех, кроме одного. Того, кто пошел за золотыми таалями, спрятанными в топливном баке судна. Он не вернулся. Может, таали потянули его на дно – слишком тяжелыми оказались. Или его увлекло течение – в наказание за то, что он оглянулся, или чтобы напомнить нам: нельзя жалеть об оставленном позади.
ЭТО ВОСПОМИНАНИЕ, БЕЗУСЛОВНО, объясняет, почему я отовсюду уезжаю с единственным чемоданом. Везу с собой только книги. Остальное так и не становится до конца моим. В гостиничном номере, у друзей, в чужом доме мне спится ничуть не хуже, чем в собственной постели. Да, мне нравится переезжать, ведь это возможность избавиться от ненужного груза, расстаться с некоторыми вещами, чтобы моя память стала по-настоящему избирательной, чтобы хранила только образы, сияние которых не меркнет под закрытыми веками. Лучше помнить то, что щекотало изнутри, потрясало, швыряло из стороны в сторону, рождало сомнения, то, что меняло меня, и то, чего не хватало… Лучше, потому что это можно подстраивать под цвет времени, а любая вещь всегда неизменна, неподвижна, громоздка.
ТОЧНО ТАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ МУЖЧИН – не пытаясь их присвоить. Для них я тоже не отличаюсь от остальных, не играю особой роли, не существую. Мне не нужно, чтобы они были со мной, потому что я не скучаю по тем, кого нет рядом. Они всегда заменяемы или заменимы. А если нет, то таковы мои чувства к ним. Поэтому я предпочитаю женатых мужчин, с кольцом на руке. Мне нравятся эти руки на моем теле, на груди. Люблю их, потому что, несмотря на смешение запахов, чужой пот на моей коже, а иногда упоение друг другом, это украшение на пальце позволяет мне оставаться далеко, в стороне, в тени.
Я ЗАБЫВАЮ ОТТЕНКИ ЧУВСТВ, сопровождавших эти свидания. Но помню неуловимые движения: Гийом, едва касаясь, обводит пальцем мое изящное левое ухо – рисует G, первую букву своего имени; капля пота падаете подбородка Михаила на мой первый поясничный позвонок; у Симона впадина под грудной костью – он сказал, что если я шепну что-нибудь в колодец его pectus excavatum[26]26
Впалая грудь (лат.) – описанный в медицине тип деформации грудной клетки.
[Закрыть], то эхо донесет мои слова до его сердца. За многие годы я собрала шелест ресниц одного, упрямую прядь другого, поучения некоторых, молчание многих, вот – встреча посреди дня, а здесь – мимолетная мысль, и все это слилось в один образ возлюбленного, потому что я не потрудилась запомнить лицо каждого. Вместе эти мужчины привили мне умение влюбляться, быть любовницей, желать любви. Однако глаголу «любить» научили меня мои дети, они дали ему определение. Если бы я знала, что значит любить, у меня не было бы детей, ведь полюбишь один раз – и это навсегда, как у моей тетушки Второй, жены дядюшки Второго: она не перестает любить своего сына-игрока, который с одержимостью пиромана прожигает состояние семьи.