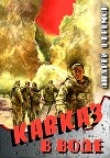Текст книги "Ру. Эм"
Автор книги: Ким Тхюи
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
КОНЕЧНО, КИРПИЧНУЮ СТЕНУ, разделившую братьев, не сравнить со стеной между моей семьей и солдатами-коммунистами, но обе они не похожи на стены старых квебекских домов, и каждой из них есть что рассказать. Теперь я была от них далека, поэтому могла обедать вместе с теми, кто считался правой рукой Хо Ши Мина и его левой рукой, не держа на них зла, не видя перед глазами картину, запечатлевшую женщин в поезде, сжимавших в руках банки из-под порошкового молока «Гигоз»[10]10
Guigoz, французская компания по производству сухих молочных продуктов.
[Закрыть], словно это сосуд с магическим зельем. Для мужчин в лагерях перевоспитания это и было магическое зелье, пусть даже вместо молока в банках находилось веревочное мясо (thit chà bông): килограмм запеченной свинины, разорванной на отдельные волокна, которые всю ночь сушили на углях, снова и снова просаливая рыбным соусом nuôc mâm, добытым ценой двух суток очередей, надежд и отчаяния. Женщины вкладывали в эти свиные волокна всю свою преданность, хотя не знали, найдут ли отца собственных детей в лагере, куда направлялись, жив он или мертв, не ранен, не болен ли. В память об этих женщинах я иногда готовлю веревочное мясо для своих сыновей, сохраняя и повторяя проявление той любви.
ЛЮБОВЬ, КАКОЙ ЕЕ ЗНАЕТ МОЙ СЫН Паскаль, измеряется количеством сердечек, нарисованных на открытке, или сказок про драконов, рассказанных под пуховым одеялом с карманным фонариком. Надо подождать еще несколько лет, и я расскажу ему, что в иные времена, в иных местах родительская любовь состояла в том, чтобы добровольно отказаться от своих детей – как родители Мальчика-с-пальчика. Или как та мать, которая, отталкиваясь длинным шестом, скользила вместе со мной по воде на фоне остроконечных вершин Хоалы[11]11
Город в северной части Вьетнама, его древняя столица.
[Закрыть]: она решила бросить свою дочь, отдать ее мне. Захотела, чтобы ее матерью стала я. Ей казалось – лучше плакать оттого, что дитя нет рядом, чем смотреть, как оно бежит за туристами, пытаясь продать вышитые ею скатерти. Я тогда была совсем молодой. В тех горных вершинах я видела лишь величественный пейзаж, а не безграничную любовь матери. По ночам я иногда бегу по длинной косе мимо буйволов и пытаюсь окликнуть ее, взять руку ее дочери в свою.
Я ПОДОЖДУ, КОГДА ПАСКАЛЬ СТАНЕТ еще немного старше, и тогда объясню ему, в чем связь истории этой матери из Хоалы с приключениями Мальчика-с-пальчика. А пока рассказываю о свинье, которую везли в гробу мимо сторожевых постов на подъезде к городам. Паскалю нравится, как я изображаю плакальщиц в похоронной процессии, которые, самозабвенно стеная, бросаются на деревянный ящик, а крестьяне в белых одеждах, с повязками вокруг головы, пытаются их удержать, утешить на глазах у привыкших к смерти инспекторов. В городе, за запертыми дверьми, в тайном месте, всегда новом, крестьяне отдавали свинью мяснику, который ее разделывал. Затем торговцы привязывали куски к бедрам и поясу и везли на черный рынок, где ждали семьи, в том числе наша.
Я рассказываю Паскалю об этих случаях, чтобы сохранить в памяти ту часть истории, которая никогда не появится в школьных учебниках.
ПОМНЮ, КАК ЖАЛОВАЛИСЬ НА обязательные уроки истории ученики средних классов. Мы тогда были еще маленькими и не знали, что право на эти уроки могут позволить себе только страны, живущие в мире. В других местах люди слишком заняты повседневным выживанием, у них нет времени на написание коллективной истории. Не доведись мне жить в чинном молчании больших ледяных озер, в мире, где тишь да гладь, в любви с воздушными шарами, конфетти и шоколадом, я бы, наверное, даже не заметила ту старую женщину, чей дом находился недалеко от могилы моего прадеда, в дельте Меконга. Она была очень старой, настолько, что пот струился вдоль ее морщин, словно ручеек, проложивший в земле ложбинку. Она горбила спину, да так сильно, что, спускаясь по лестнице, пятилась, чтобы не упасть и не покатиться головой вперед. Сколько зерен риса она посадила? Сколько простояла в грязи? Сколько раз оставляла мечты, чтобы через тридцать или сорок лет вот так сложиться пополам?
Мы часто забываем обо всех тех женщинах, на чьих спинах держался Вьетнам, пока их мужья и сыновья держали в руках оружие. Мы забываем о них, потому что из-под своих конических шляп они не могли смотреть в небо. Они лишь ждали, когда на них упадет солнце, чтобы можно было не то чтобы уснуть, скорее – лишиться чувств. Если бы у них было время впустить в себя сон, им грезились бы их сыновья, разорванные на части, или тела мужей, плывущие по реке, словно обломки судна. У американских рабов на хлопковых плантациях боль превращалась в песнь. А эти женщины взращивали свою печаль в камерах сердца. Им было не оправиться от непомерных тягот. Не распрямить дугообразный позвоночник, согнувшийся под гнетом кручины. Выйдя из джунглей, мужчины снова стали расхаживать по насыпям вокруг их рисовых полей, а женщины дальше понесли на спинах груз беззвучной истории Вьетнама. Зачастую они так и угасали под ее тяжестью, молча.
Одна из таких женщин, – я ее знала, – скончалась, оступившись в туалете, устроенном над прудом с сомами. Поскользнулась в пластиковых шлепанцах. Будь при этом свидетель, он увидел бы, как ее коническая шляпа исчезла за четырьмя щитами, едва скрывавшими скрюченный силуэт, окружавшими, но не защищавшими. Она умерла в семейной выгребной яме, ее голова проскользнула в дыру для экскрементов между двумя досками, за собственной хижиной, в окружении сомов – желтотелых, гладкокожих, у которых нет чешуи, равно как и памяти.
ПОСЛЕ СМЕРТИ ТОЙ ПОЖИЛОЙ ДАМЫ я стала приходить по воскресеньям на берег пруда с лотосами в пригороде Ханоя, где неизменно встречала двух или трех согбенных женщин с трясущимися руками – сидя в круглой лодке, они передвигались по воде с помощью шеста и в раскрывшиеся цветки лотосов вкладывали чайные листья. На следующий день они возвращались и собирали их один за другим – до того, как начнут вянуть лепестки, но после того, как плененные листья за ночь впитают источаемый пестиками аромат. Они говорили, что так каждый чайный лист сохраняет душу этих недолговечных цветов.
ФОТОГРАФИИ НЕ СМОГЛИ сохранить душу наших первых рождественских елей. Ветви, собранные на окраине Монреаля и вставленные в отверстие в диске запасного колеса, покрытого белой простыней, казались лысыми и совсем не волшебными, но на самом деле были куда красивее, чем наши сегодняшние двухметровые деревья.
Родители часто напоминают мне и братьям, что не смогут оставить нам деньги в наследство, но мне кажется, они и так уже поделились с нами своим богатством – памятью, позволяющей увидеть красоту в грозди глицинии, уловить эфемерность слова, силу восхищения. А еще они наделили нас способностью ходить, чтобы мы шли навстречу нашим мечтам, шли бесконечно. Вполне достаточный багаж для самостоятельного странствия. Иначе – лишний груз: перевози имущество, застраховывай, содержи.
Вьетнамская поговорка гласит: «Боятся только длинноволосые, ведь за волосы не оттаскаешь того, у кого их нет». Вот я и стараюсь, насколько это возможно, приобретать лишь те вещи, которые не превышают мой рост.
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ, ПОСЛЕ НАШЕГО бегства на судне мы научились путешествовать налегке. У господина, сидевшего в трюме рядом с моим дядей, вообще не было багажа, даже небольшой сумки с теплой одеждой, как у нас. Он вез все на себе. У него были плавки, шорты, брюки, футболка, рубашка и свитер, накинутый на плечи, а остальное – в телесных полостях: бриллианты были в молярах, золото – на остальных зубах, а свернутые в трубочку американские доллары – в анусе. В открытом море мы увидели, как женщины вскрывают гигиенические прокладки и вытаскивают из них доллары, трижды аккуратно сложенные вдоль.
У меня был браслет из акрила для зубных протезов – розовый, как десна искусственной челюсти. Он был нашпигован бриллиантами. Родители вшили их также в воротники рубашек моих братьев. Но золота у нас на зубах не было: зубы детей моей матери оставались неприкосновенными. Она часто говорила нам, что зубы и волосы – это «корни» или, может, «начало» любого человека. Мать хотела, чтобы у нас был идеальный зубной аппарат.
Именно поэтому даже в лагере беженцев она умудрилась добыть пару стоматологических щипцов и удаляла нам расшатавшиеся молочные зубы. Каждый раз она размахивала перед нами вырванным трофеем под жгучим малайзийским солнцем.
Фоном для торжественной демонстрации окровавленных зубов служил берег, покрытый мелким песком, и ограждение из колючей проволоки. Мама говорила, что когда-нибудь мне можно будет расширить глаза и не исключено, что удастся исправить оттопыренные уши. Но перед другими структурными несовершенствами моего лица она была бессильна. Поэтому надо было иметь хотя бы идеальные зубы и уж точно не променять их на бриллианты. Она также знала, что, если наше судно перехватят тайские пираты, золотые зубы и моляры с врезанными бриллиантами будут вырваны.
У ПОЛИЦИИ БЫЛ ПРИКАЗ «ТАЙНО» выпускать суда с вьетнамцами китайского происхождения. Китайцы были капиталистами, а значит, противниками коммунистов: другой этнос, чуждый акцент. Инспекторы имели право до последней минуты обыскивать их, обирать, подвергать унижениям. Мы всей семьей сделались китайцами. Сослались на гены моих предков, чтобы уехать с молчаливого согласия полиции.
МОЙ ПРАПРАДЕД СО СТОРОНЫ МАМЫ был китайцем. Во Вьетнаме он оказался случайно в восемнадцать лет, женился на вьетнамке, у них было восемь детей. Четверо назвались вьетнамцами, еще четверо – китайцами. Четверо вьетнамцев, в том числе мой дедушка, занимались политикой и наукой. Четверо китайцев обогатились на торговле рисом. Хоть дедушка и стал префектом, ему не удалось убедить четырех своих китайских братьев и сестер отдать детей во вьетнамскую школу. А вьетнамский клан не говорил на сычуаньском диалекте. Семья поделилась надвое, страна тоже: на юге – сторонники американцев, на севере – коммунисты.
МОЙ ДЯДЯ ЧУНГ, МАМИН СТАРШИЙ брат, выступил проводником, соединившим два культурных клана, два политических лагеря. Кстати, имя его означает «вместе», но я называю его дядюшка Второй, потому что у вьетнамцев с юга есть традиция – вместо имен братьев и сестер говорить, какими по счету они появились на свет, но только начиная с номера два.
Дядюшка Второй, старший в семье, был депутатом и главой оппозиции. Он входил в политическую партию молодых интеллектуалов, представлявшую третий лагерь, – тот, по которому ведут огонь с двух сторон. Проамериканское правительство разрешило появление такой партии, чтобы ослабить всеобщий гнев, чтобы молодые идеалисты не шумели. Дядя сделался видной фигурой в публичном поле. С одной стороны, соратников прельщала его политическая программа. С другой – он хорошо подходил на роль молодого премьера и в глазах избирателей олицетворял надежду на подобие демократии. Он смел границу между китайской и вьетнамской семьями: помогли безрассудный запал и харизма молодого самца. Он был из тех, кто может спорить о влиянии дефицита бумаги на свободу прессы с министром и одновременно обнимать за талию жену последнего, кружась с ней в вальсе, хотя вьетнамские женщины вальс не танцевали.
ВСЕ ДЕТСТВО Я ТАЙНО МЕЧТАЛА быть дочерью дядюшки Второго. Свою дочь Сяо Май он баловал как принцессу, хотя порой много дней подряд не вспоминал о ее существовании. Для родителей Сяо Май была примадонной. Дядюшка Второй часто устраивал домашние праздники. В разгар вечера он прерывал разговоры, усаживал дочь на табурет перед фортепьяно и объявлял вещь, которую она сейчас сыграет. Короткие две минуты исполнения «В лунном свете»[12]12
Французская народная песня XVIII в.
[Закрыть] для него существовала только эта кукла с пухлыми пальцами, бойко стучавшая по клавишам перед толпой взрослых. Каждый раз я садилась под лестницей, чтобы запомнить поцелуй в нос, которым дядя одаривал Сяо Май под аплодисменты гостей. Он уделял ей всего пару минут внимания, да и то не всегда, но этого оказалось достаточно, чтобы наделить мою кузину внутренней силой, которой не было у меня. Сытая или голодная, Сяо Май всегда решительно командовала старшими братьями и мной.
МЫ С КУЗИНОЙ СЯО МАЙ РОСЛИ вместе. Я проводила время либо у нее, либо у нас вместе с ней. Случалось, что во всем их доме не оставалось ни одного рисового зерна. Если ее родители уходили, прислуга тоже исчезала, нередко прихватив горшок с рисом. А отлучались ее родители часто. Один раз ее старший брат накормил нас старым рисом, слипшимся на дне кастрюли. Чтобы получилась еда, он добавил каплю растительного масла и лук-шалот. Вышла сухая лепешка, мы грызли ее впятером. Зато в другие дни нас заваливали горами манго, лонганов, личи, лионской колбасой и пирожными шу.
Родители моей кузины фрукты выбирали по цвету, пряности – по запаху или просто по настроению. Еду, которую они приносили, всегда окружал ореол праздника, декаданса, ажиотажа. Ни опустевший горшок из-под риса на кухне, ни стихи, которые нам задали выучить, их не волновали. Им хотелось одного – чтобы мы объедались манго, чтобы впивались зубами в эти брызжущие соком плоды, чтобы вертелись юлой или описывали круги вокруг них под звуки «Дорз», Сильви Вартан, Мишеля Сарду, «Битлз», Кэта Стивенса…
У МЕНЯ ЕДА ВСЕГДА БЫЛА приготовлена, прислуга – на месте, а за домашними заданиями следили. В отличие от родителей Сяо Май, моя мама давала нам с братьями только два манго на всех, хотя в корзине оставалась еще не одна дюжина. Если нам не удавалось мирно их поделить, она все отнимала и лишала нас угощения, пока мы не научимся находить компромисс в неравном дележе двух манго на троих. Так что порой меня больше привлекал засохший рис с кузенами.
Я СТАРАЛАСЬ ВО ВСЕМ ОТЛИЧАТЬСЯ от матери до того дня, когда решила поселить в одной комнате двух своих сыновей – притом, что в доме было еще два пустых помещения. Мне хотелось, чтобы они учились поддерживать друг друга, как делали мои братья. Я услышала от кого-то, что смех укрепляет связи, но еще вернее это делает совместное существование и фрустрация, с ним связанная. Стоит заплакать одному, как плачет второй, – видимо, поэтому однажды среди ночи мой сын-аутист осознал наконец, что на свете есть Паскаль, старший брат, которого три или четыре первых года он просто не замечал. Теперь ему доставляет тактильное удовольствие устраиваться, свернувшись калачиком, на коленях у Паскаля, прятаться у него за спиной при посторонних. Вероятно, благодаря столько раз прерванному, неспокойному сну Паскаль сам надевает сначала левый ботинок, а потом правый, приспосабливаясь к маниакальной упертости брата, чтобы тот начал день не раздражаясь, без лишних препятствий.
НАВЕРНОЕ, МАМА БЫЛА ПРАВА, методично приучая нас делиться не только с братьями, но и с кузенами. Так что я делила ее с кузиной Сяо Май: моя мать решила заняться образованием племянницы. Мы ходили в одну школу, как близнецы, сидели на одной скамье в одном классе. Иногда кузина замещала учительницу, если та не приходила: забиралась на преподавательский стол и размахивала большой указкой. Ей было лет пять или шесть, как и всем нам, но ее нисколько не смущала эта указка, потому что, в отличие от нас, ее постоянно возводили на пьедестал. Я же обмачивала трусы, потому что боялась поднять руку, боялась дойти до двери, когда все взгляды направлены на меня. Кузина готова была прибить любого, кто меня передразнивал. Метала молнии во всех, кто смеялся над моими слезами. Защищала меня, потому что я была ее тенью.
С тенью она не расставалась, но иногда заставляла бежать за ней следом, как собачка, просто так, ради смеха.
КОГДА Я БЫЛА С СЯО МАЙ, – А Я БЫЛА с ней все время, – работники бывшего Сайгонского спортивного центра не давали мне лимонной газировки после занятий теннисом, потому что уже принесли ее моей кузине. За высокой оградой этого роскошного клуба существовали лишь два принципиально разных сорта людей: элита и обслуга, маленькие короли в белоснежной форме и те, кто босиком подбирает мячи. Я не относилась ни к тем, ни к другим. Я просто была тенью Сяо Май. Передвигалась вслед за ней, подслушивая, о чем ее отец говорит за чаем с партнерами по теннису. Он рассказывал нам о Прусте, поедая мадленки[13]13
Традиционное французское печенье, ставшее широко известным благодаря описанию Марселя Пруста в романе «В сторону Сванна».
[Закрыть] в объятиях удобного ротангового кресла на террасе Сайгонского спортивного центра. Стулья в Люксембургском саду он описывал так же увлеченно, как нескончаемое мельтешение ног танцовщиц, исполняющих канкан. Он проводил нам экскурсию по воспоминаниям иностранного студента в Париже. Я стояла за спинкой его стула и слушала не дыша, как тень, лишь бы он не замолкал.
МАМУ ЧАСТО СЕРДИЛА МОЯ бесцветность. Она говорила, что нужно выйти из тени, поработать над формами, чтобы они четче очерчивались. Но каждый раз, когда она пыталась вытащить меня из этой тени, из моей тени, я рыдала до потери сознания, пока она не оставляла меня на заднем сиденье машины, убаюканную сайгонским зноем. В гостях я больше времени проводила на парковках, чем в салонах. Иногда меня будили дети, они беспечно носились вокруг машины, показывали языки и строили рожи. Оттого, что я брыкаюсь, у меня крепнут мышцы – так считала мама. Со временем ей удалось сделать из меня женщину, но принцессой я не стала.
СЕГОДНЯ МАМА ЖАЛЕЕТ, ЧТО НЕ вырастила из меня принцессу, ведь и сама она не королева, в отличие от дядюшки Второго, ставшего для своих детей королем. Он сохранил королевский статус до самой смерти, хотя ни разу не подписывал оценку за экзамен, не изучал дневник, не мыл грязные руки своим отпрыскам. Изредка нам с кузиной выпадал шанс прокатиться на дядюшкиной «Веспе»[14]14
Мотороллер знаменитой итальянской марки Vespa, выпускавшийся с 1946 г.
[Закрыть] – она стояла впереди, а я сидела сзади. Сколько раз мы с Сяо Май подолгу ждали его под тамариндом возле здания начальной школы, пока сторож не запирал за нами двери на висячий замок. Даже торговцы маринованными манго, гуавой в перечной соли, охлажденной хикамой[15]15
Травянистое растение со съедобным корнеплодом, напоминающим картофель.
[Закрыть] – и те покидали тротуар перед школой, когда им в глаза начинало бить закатное солнце, и тогда мы с Май замечали его вдалеке – его волосы развевались при езде, а лицо расплывалось в зажигательной, ни с чем не сравнимой улыбке.
Он обнимал нас, и мы тотчас не просто превращались в принцесс – в его глазах мы были самыми красивыми, самыми важными на свете. Эйфория длилась, только пока мы ехали: вскоре он уже обнимал какую-нибудь женщину, почти каждый раз новую, и в этот момент титул принцессы переходил к ней. Мы ждали его в гостиной, пока новоиспеченная принцесса не переставала быть таковой. Каждая из этих женщин смогла почувствовать, что он выбрал именно ее, прекрасно зная при этом, что она лишь одна из многих.
МОИ РОДИТЕЛИ ЧАСТО ОСУЖДАЛИ вольности дядюшки Второго. Поэтому ему не пришлось просить меня, чтобы я не рассказывала о долгих ожиданиях возле школы или вечерах в гостиных незнакомых женщин. Если бы я его выдала, он лишился бы права за нами приезжать. А я потеряла бы возможность быть принцессой и видеть, как мой поцелуй превращается в цветок на его щеке. По прошествии тридцати лет моей матери хотелось чувствовать на своих щеках такие же поцелуи-цветы. Видимо, она разглядела во мне принцессу. Но я просто ее дочь, только дочь, не более.
МОЯ МАТЬ ОТПРАВИЛА ИЗ КВЕБЕКА деньги сыновьям дядюшки Второго, чтобы они, как и мы, смогли уплыть. После первой волны boat people в конце 1970-х отправлять в море дочерей стало неразумным, потому что встреча с пиратами теперь была данностью, обязательным пунктом программы, неизбежным злом. Так что на автобусе с беглецами отправились только два старших брата. Но по пути их перехватили. Их отец, мой дядя, мой король, их выдал… Из страха ли навсегда потерять их в море или боясь, что ему, отцу, аукнется их побег? Думая об этом, я говорю себе: он ведь так и не смог им признаться, что никогда не был им отцом, что он только их король. Должно быть, он боялся, что в него будут тыкать пальцами на городской площади, называя врагом коммунистов. Конечно, страшно вновь оказаться на площади, которая еще недавно тебе принадлежала. Если бы я могла тогда что-то сказать, я бы сказала ему: не надо их выдавать. Сказала бы, что ни разу не выдала его, несмотря на все опоздания и похождения.
ЖАННА, НАША ФЕЯ В КУПАЛЬНИКЕ и розовых колготках, с цветком в волосах, выпустила мой голос на свободу без всяких слов. С нами – девятью вьетнамцами из начальной школы Святого Семейства – она говорила языком музыки, пальцев, плеч. Показывала, как осваивать пространство вокруг себя, свободно раскинув руки, приподняв подбородок, дыша полной грудью. Она порхала вокруг нас подобно фее и поочередно ласкала взглядом. Ее шея вытягивалась, образуя плавную линию с плечом и рукой – вплоть до кончиков пальцев. Ноги совершали широкие круговые движения, словно она протирала стены или создавала ветер. Благодаря Жанне я научилась высвобождать голос из тайников тела, чтобы он достигал краев моих губ.
ГОЛОС ПРИГОДИЛСЯ МНЕ В САМОМ сердце Сайгона, чтобы прочесть дядюшке Второму перед самой его кончиной несколько эротических сцен из «Элементарных частиц» Уэльбека. Мне больше не хотелось быть его принцессой, я стала его ангелом, напомнившим, как он окунал мои пальцы во взбитые сливки кофе по-венски и напевал: «Bésame, bésame mucho…»[16]16
«Целуй меня, целуй меня крепко» (исп.). Слова песни, известной как «Бесаме мучо», написанной Консуэло Веласкес в 1940 г.
[Закрыть].
Его тело, уже похолодевшее, застывшее, окружали не только дети и жены – старая и новая, – не только братья и сестры, но и незнакомые ему люди. Оплакать его смерть пришли тысячи. Одни потеряли возлюбленного, другие – полюбившегося спортивного журналиста, а кто-то – своего бывшего депутата, писателя, живописца, свою счастливую карту.
В этой толпе был один человек, с виду бедный. На нем была рубашка с пожелтевшим воротником и черные сморщенные брюки, перехваченные старым ремнем. Он держался поодаль, в тени дерева с огненно-красными цветами, рядом стоял заляпанный грязью китайский велосипед. Человек прождал много часов и проследовал за кортежем на кладбище, оно находилось за городом, в стенах буддистского храма. Там он тоже стоял в стороне, молчал, не двигался. Одна из моих тетушек подошла к нему и спросила, зачем он проехал такое расстояние. Знал ли он моего дядю? Он ответил, что не знал, но благодаря его словам жил и поднимался каждое утро. Он потерял своего кумира. А я – нет. Ни кумира, ни короля – только друга, рассказывавшего мне о своих любовных похождениях, о политике, живописи, книгах, в основном что-то легкомысленное, ведь он не успел состариться перед смертью. Он заставил время остановиться и до конца продолжал наслаждаться жизнью по полной – легко, как в расцвете лет.
ВЫХОДИТ, МАМЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО быть моей королевой, достаточно, что она просто моя мать, даже если мои редкие поцелуи на ее щеке не так уж величественны.
МОЯ МАМА ЗАВИДОВАЛА ДЯДИНОЙ безответственности, точнее, его умению быть безответственным. А еще невольно ревновала к королевскому статусу, который достался ее младшему брату и сестрам. Сестер дети боготворили так же, как старшего брата, – по разным причинам: одна была самой красивой, другая – самой талантливой, третья – самой умной… Моим кузенам и кузинам их матери казались лучшими на свете. А моя всем, включая моих теток и их чад, внушала только страх. В молодости она пользовалась высшим авторитетом. Настойчиво самоутверждалась в роли старшей сестры, потому что хотела, чтобы ее воспринимали отдельно от брата, поглощавшего внимание окружающих.
Она взяла на себя обязанности главы семейства, министра образования, матушки-настоятельницы, главы клана. Она принимала решения, определяла наказания, воспитывала нарушителей, заставляла замолчать недовольных. Мой дед, будучи председателем Совета, не опускался до повседневных дел. Бабушка совмещала заботы о младших детях с повторяющимися выкидышами. Моя мать говорила, что дядюшка Второй олицетворяет эгоизм и эгоцентризм одновременно. Поэтому она отвела себе высшую ступень власти. Помню, однажды бабушка не отважилась попросить ее отпереть дверь в ванную и освободить младшего брата и сестер, наказанных за то, что они ушли с дядюшкой Вторым, не спросив у моей матери разрешения. Будучи подростком, она распоряжалась властью наивной железной рукой. Ее месть старшему брату за беспечность, а младшим – за преклонение перед ним была плохо продумана: ребятня продолжила резвиться в ванной – без нее. Все ее юношеское легкомыслие утекло сквозь пальцы, пока она призывала сестер к скромности и запрещала им танцевать.
МЕЖДУ ТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ лет мама полюбила танцы. Она позволила друзьям убедить себя, что танго, ча-ча-ча и пасодобль заменяют физические упражнения и в них нет чувственности, обольщения, опьянения. Но с тех пор, как она раз в неделю ходит на занятия, ей время от времени становится жаль, что избирательную кампанию не совместили с вечеринками, на которых ее брат, мой отец и еще десятки молодых кандидатов веселились, собравшись за столом. Не случайно сегодня она ищет руку моего отца в кино и ждет поцелуя в щеку перед фотоаппаратом.
Моя мать начала жить, увлекаться, по-новому взглянула на себя в пятьдесят пять.
МОЕМУ ОТЦУ СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ по-новому не понадобилось. Он из тех, кто живет здесь и сейчас, кто не привязан к прошлому. Он смакует каждое мгновение настоящего, словно оно лучшее и единственное, не подлежит сравнению, неизмеримо. Вот почему он всегда испытывал самое полное, самое радужное счастье хоть на ступенях отеля со шваброй в руках, хоть в лимузине на стратегическом совещании с министром.
От отца я унаследовала это непреходящее чувство удовольствия. Но у него-то оно откуда? В том ли дело, что он был десятым ребенком в семье? Или долго дожидался возвращения отца, которого похитили? Перед тем, как французы ушли из Вьетнама, и до прихода американцев на вьетнамские деревни наводили страх разные банды отморозков, внедренные французскими властями, чтобы расколоть страну. Тогда обычным делом было продать зажиточной семье гвоздь: это был выкуп за похищенного человека. Если гвоздь не покупали, его вбивали похищенному в мочку уха или куда-нибудь еще. Гвоздь моего деда семья выкупила. Вернувшись, он отправил своих детей к двоюродным братьям и сестрам, жившим в городах, чтобы там они были в безопасности и могли спокойно получать образование. Мой отец очень рано научился жить вдали от родителей, переезжать с места на место, любить настоящее, не привязываться к прошлому.
ВОТ ПОЧЕМУ ЕГО НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО, когда он на самом деле родился. Официальная дата в свидетельстве, выданном в мэрии, соответствует дню, когда не было бомбежек, не взрывались мины, не брали заложников. Наверное, родители считали, что жизнь их детей берет отсчет с того дня, когда вернулась нормальная жизнь, а не с первым криком.
Точно так же в нем ни разу не проснулась потребность вновь увидеть Вьетнам после отъезда. Сегодня земляки навещают его по поручению застройщиков его родного города – предлагают заявить о праве собственности на отцовский дом. Говорят – там живет десять семей. Когда мы видели этот дом в последний раз, он служил казармой для солдат-коммунистов, которых перепрофилировали в пожарных. В этом просторном доме солдаты создали собственную семью. Знают ли они, что живут в здании, построенном французским инженером, выпускником Национальной школы мостов и дорог?
Знают ли, что этот дом – знак благодарности моего двоюродного деда моему деду, его старшему брату, который отправил его учиться во Францию? Знают ли, что там выросли десять детей, которых выбросили из родного гнезда, и потому их сегодня раскидало по десяти разным городам? Нет, ничего они не знают. Да и откуда им все это знать: они родились после ухода французов, но раньше, чем разрешили преподавать этот период вьетнамской истории. Скорее всего, они и американцев без камуфляжа в лицо не видели, пока в их городе несколько лет назад не появился первый турист. Знают они только одно: если дом вернется в собственность к моему отцу, а он продаст его застройщику, им от этого кое-что выгорит – компенсация за то, что они держали моих дедушку и бабушку со стороны отца в самой тесной комнате собственного дома в последние месяцы их жизни.
По вечерам пьяные и неприкаянные солдаты-пожарные иногда стреляли по оконным занавескам, чтобы дед молчал. Дед и правда перестал говорить после инсульта, случившегося еще до моего рождения. Я никогда не слышала его голоса.
ДЕДА СО СТОРОНЫ ОТЦА Я ПОМНЮ, только когда он лежал, вытянувшись на огромной кушетке из черного дерева, опиравшейся на резные лапы. На нем всегда была чистейшая белая пижама без единой лишней складки. Отцовская сестра – тетушка Пятая – отказалась выйти замуж, решила заботиться о родителях и с одержимостью следила за дедовой гигиеной. Она не допускала ни единого пятна, ни единого признака небрежения. Во время еды слуга садился позади него и помогал держать спину прямо, а моя тетя давала ему рис – сколько он мог проглотить за раз. Особенно он любил рис с жареной свининой. Кусочки свинины были так тонко порезаны, что походили на рубленый фарш. Но рубить их было нельзя, только резать миниатюрными кубиками с гранями по два миллиметра. Она смешивала их с рисом, дымившимся в синебелой чашке, край которой обрамляло серебряное кольцо – от сколов. Если смотреть на такие чашки против солнца, то на выпуклостях можно было заметить полупрозрачные участки. По этим проблескам в оттенках синего орнамента проверялось качество. Во время еды чашки аккуратно ложились в ладонь моей тети – каждый раз, каждый день, десятки лет. Поддерживая тонкое горячее изделие пальцами, она добавляла несколько капель соевого соуса и небольшой шарик сливочного масла «Бретель», привезенного из Франции в красной консервной банке с золотистыми буквами. Мне тоже время от времени доставался этот рис, когда мы приходили в гости.
Сегодня папа готовит это же блюдо моим сыновьям, когда получает банку масла «Бретель» в подарок от друзей, вернувшихся из Франции. Мои братья по-доброму посмеиваются над отцом, ведь, описывая этот консервированный продукт, он абсолютно неоправданно использует превосходную степень. А я с ним согласна. Мне нравится аромат этого масла, он возвращает мне деда, его отца, умершего среди солдат-пожарных.
Еще я люблю давать моим детям мороженое в этих синих чашках с серебряными кольцами. Это единственное, что я постаралась получить в наследство от тети, которую, кстати, прогнали из дома после смерти дедушки и бабушки. Тетя стала буддисткой, жила в хижине за кокосовыми плантациями и лишилась всех материальных благ, за исключением деревянной кровати без матраса, веера из сандала и четырех синих чашек ее отца. Она не сразу согласилась на мою просьбу: чашки символизировали ее последнюю связь с земными заботами. Вскоре после моего появления в этой хижине она умерла в окружении монахов из соседнего храма.