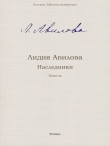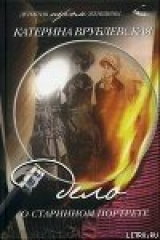
Текст книги "Дело о старинном портрете"
Автор книги: Катерина Врублевская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
В серьезных делах следует заботиться
не столько о том, чтобы создавать
благоприятные возможности,
сколько о том, чтобы их не упускать.
Я очнулась от воспоминаний. Лебеди плыли, низко наклоняя шеи к воде, а я сидела, подставив лицо жарким лучам, – мне хотелось избавиться от надоевшей природной бледности. И тут Протасов неслышно появился за моей спиной.
– Андрей, как ты меня напугал! – воскликнула я и протянула ему руки.
Он обошел скамью, поцеловал меня в губы и, опустившись на траву, уткнулся носом мне в колени. Я принялась гладить его пшеничные волосы. От них доносился знакомый запах масляных красок и свежих стружек.
– Что с тобой, милый? У тебя неприятности? Ты что-то не в себе.
Андрей молчал, только плечи подрагивали.
– Полина, я не могу так больше жить! Отпусти меня! – застонал он.
Это было для меня чем-то новым.
– Разве я тебя держу? – удивилась я. – Ты волен в своих поступках. Как я могу ограничить твою свободу? Ступай.
– Я люблю тебя, Полина! Не мыслю жизни без тебя и за счастье почитаю повести тебя к алтарю.
Но я не могу предложить тебе стать моей женой, ведь я никто.
– Перестань, Андрей! Почему ты говоришь глупости? Ты прекрасный художник по мебели и внутреннему убранству, декоратор, отличный столяр. После изготовления гарнитура на тебя посыпались заказы – зачем же ты Бога гневишь?
Он закрыл лицо ладонями и с болью произнес:
– Если бы ты знала, как это тяжело – видеть, чувствовать и не иметь возможности донести до холста! Если бы я рисовал сразу глазами, если бы картины не проделывали такой длинный путь через руку, краски и кисти… Образы, роящиеся у меня в голове, настолько прекрасны! Если я смогу воплотить хоть малую толику того, что вижу…
– Ты научишься, ты обязательно научишься! Ты же можешь рисовать мебель и эскизы.
– Полина, далась тебе эта мебель! Как же ты не понимаешь?! Это все поделки, ремесло для обойщика, а я хочу писать! Заниматься настоящим искусством!
Его слова рассердили меня:
– Нет, это ты не понимаешь! Ты возомнил о себе невесть что. Твои «поделки», как ты выражаешься, приносят людям пользу. Да-да, пользу, ничего плохого в этом слове нет, и не смотри на меня укоризненно. Я духом воспрянула, когда гарнитуром занялась, у меня всяческая хандра пропала. Дочь Тишениновой спит и видит заполучить себе такую же мебель, как у меня, хотя я надеюсь, что такой же точно у нее не будет. А ты о каком-то «настоящем искусстве» рассуждаешь, словно оно может накормить и обогреть людей. Нужно делать то, что у тебя лучше всего получается, и то, что приносит людям удовлетворение. Потому что настоящее искусство – это такое, которое в радость не только тебе. Ты не на необитаемом острове живешь, а среди людей.
После этих моих слов Андрей долго молчал, а потом вымолвил через силу глухим голосом:
– Виноват, мне пора. Не думал, Полина, что ты меня настолько не понимаешь…
Он поднялся с колен, повернулся и ушел, ничего не сказав на прощание.
***
Этот вечер, впервые за множество дней, я провела одна. До полуночи не тушила свет, не раздевалась и ждала. Недоумевая, я отправилась спать, надеясь, что наутро недоразумение рассеется. Но и утром Андрей не пришел. Меня охватило волнение. Я быстрыми шагами мерила гостиную вдоль и поперек, и мне уже не были милы ни стулья, любовно собранные его руками, ни резьба на столешнице. Все вокруг напоминало о нем. Нет, не напоминало – кричало: «Мы частицы его, где же он, что с ним?» Но ответа не было.
Тогда я собрала волю в кулак и решила не обращать внимания: если ему не хочется меня видеть, что ж, займусь другими делами, благо, их накопилось немерено. В любовном пылу и угаре я забыла о милых повседневных заботах и хлопотах, которые помогали забыться и не чувствовать себя одинокой.
Я навестила Настеньку в институте, принесла ей гостинцы. За последний год девушка вытянулась, похорошела и уже ничем не напоминала того несчастного ребенка, которого взял под свою опеку мой отец 1313
Подробнее об этом читайте в романе К. Врублевской «Первое дело Аполлинарии Авиловой». (Прим. Ред.)
[Закрыть]. Она по-детски обрадовалась моему визиту, и мы славно поболтали, обсуждая ее подруг-пансионерок и классных дам.
Потом я зашла в ателье модного платья Жаннет Гринье, полистала журналы, но так ничего и не выбрала – не было настроения кому-то нравиться.
Комплименты Жаннет моему цвету лица мне пришлись не по вкусу, я была в большом раздражении. Купила полфунта глазированных орешков в кондитерской Китаева, немного поговорила с Аделаидой Федоровной, вдовой титулярного советника, пившей там горячий шоколад, – она уже была осведомлена о моем новом гарнитуре – и спустя час, немного уставшая от прогулки по городу, вернулась домой.
Прогулка не принесла облегчения. Сердце продолжала томить тревога. Снимая шляпку, я спросила Дуняшу: «Андрей Серапионович не заходил?» – и получила отрицательный ответ.
Мне не спалось, не читалось, я впала в отчаяние, потеряла аппетит. Несколько дней я не выходила из дома: боялась, что Андрей придет, а меня не окажется.
В субботу заглянул отец и сразу понял, что со мной творится неладное. Я не выдержала и разрыдалась в его присутствии.
– Papa, объясни ты мне, что я ему сделала? Ведь я хвалила его умение рисовать мебель, а он обиделся.
– Протасов художник, – ответил мне отец, – он ищет себя. Андрей Серапионович хочет достичь вершин, а ты опускаешь его на грубую землю. Вы не поняли друг друга, вот он и обиделся.
– Что же мне делать?
– Сколько времени прошло с тех пор, как вы не виделись?
– Почти неделя. Я не могу так больше, я хочу его видеть. Я пошлю за ним!
Лазарь Петрович улыбнулся:
– Не придет. Художники, они гордые. Хочешь его видеть – иди к нему сама.
– Сама? – поразилась я. – Я не смогу. Что я ему скажу? И потом, я не хочу показывать, что он мне нужен больше, чем я ему.
– Это все детские игры институток. Оставь. Хочешь чего-то – скажи об этом, а не жди, что тебе дадут вожделенное прямо в руки.
– Но это же стыдно, papa! Что он обо мне подумает?
– О чем он может подумать больше, чем думает уже? Будь стойкой, дочь моя, и иди к цели, если она тебе по душе. А мне пора. И чтобы я больше не видел тебя в таком настроении.
Итак, не выдержав характера, я поехала в мебельную мастерскую Протасовых.
Обычно меня сюда приводил Андрей. Мы шли мимо базарной площади, потом начинались кирпичные сараи купца Охлопкова – он торговал зерном и мукой, затем мимо земской ямщицкой станции, из-за невысокого забора которой доносилось ржание лошадей, и наконец доходили до мастерской.
А теперь я приехала на извозчике, без Андрея.
Серапион Григорьевич, в длинном кожаном фартуке, сосредоточенно скоблил массивную столешницу. В углу мастерской двое рабочих пилили длинные доски. Сильно пахло столярным клеем. Андрея в мастерской не было.
Увидев меня, Протасов-старший отложил в сторону инструмент и степенно поклонился.
– Вот пришла, Серапион Григорьевич, поблагодарить вас за отличную работу. Не могла раньше заглянуть – дела держали. Прекрасный гарнитур вы сделали. Мои гости были в восторге.
– Благодарствуйте, госпожа Авилова. Со всем нашим старанием, – вновь поклонился он.
– К вам обращалась статская советница Тишенинова по моей рекомендации? Ей очень понравился гарнитур, и она хочет за дочерью дать в приданое такой же, но только кленовый, с узором «птичий глаз».
– Да, была недавно, разговаривали.
– Только не делайте, прошу вас, точно такую же мебель, Серапион Григорьевич. Мне совсем не хочется, чтобы у других было со мной одинаково, – попросила я.
– Даже не знаю, что вам и ответить, – вздохнул мебельщик. – И сам бы рад, да не получится. Одно и то же стругать – никакого интересу нет, а придется.
– Почему? Что произошло?
– Чтобы другой гарнитур сделать, на ваш не похожий, рисунки и чертежи нужны. А где их взять?
– Как где? – удивилась я. – А Андрей Серапионович на что? Неужели отказывается заработать? Или он на этюдах занят?
– Уехал он вчера, – нахмурился Протасов-старший. – И когда вернется, неизвестно.
– Как уехал, куда? Ведь занятия в училище еще не начались! Он мне ничего не говорил. – Я спохватилась, что выдала себя, но мастер и бровью не повел.
– В Париж. Сказал, что, как только устроится, обязательно напишет. Учиться желает у тамошних художников. Твердил, мол, они сейчас самые новые да самые лучшие. Мечту свою исполнять желает. Наши художники ему не по нраву пришлись, не так пишут. Каких-то импер… прессисистов поминал.
– Импрессионистов, – поправила я его.
– Верно. К ним самым поехал. Учиться будет по-французски картины писать. Будто по-русски нельзя. Зачем только надо было отца в расходы вводить, в Москву ездить?
– И вы его отпустили?
– Разве Андрюху удержишь? Если что себе в голову вбил, так и будет. Я не препятствую. У него своя голова на плечах.
– Как жаль… Он даже не пришел со мной попрощаться. Как-то не по-дружески.
– Он вам письмо оставил, – сообщил Протасов. – Наказал отдать в собственные руки. С утра недосуг мне было, а после обеда собирался к вам мальчонку послать, и тут вы сами явились, будто знали. Погодите, сейчас принесу.
Серапион Григорьевич тщательно вытер руки, вышел из мастерской и вскоре вернулся, неся простой запечатанный конверт. Поблагодарив его, я откланялась и поспешила домой, чтобы прочитать письмо наедине. Хорошо, не отпустила извозчика, у меня словно сердце чуяло, что я долго в мастерской не задержусь.
Придя к себе, я отложила сумочку в сторону – она жгла мне руки. Несколько минут простояла в тишине, не пытаясь вскрыть конверт. Я страшилась того, что запечатано в нем.
Села на новый диванчик и задумалась: что со мной происходит? Почему меня так глубоко взволновал поступок Андрея? Ведь я, отказавшись выйти замуж за бравого штабс-капитана Сомова, нисколько не была этим взволнована или опечалена. А тут – дрожь в руках, боюсь открыть конверт и прочитать адресованные мне слова. Я никогда особо не задумывалась о будущем с Андреем – жила сегодняшним днем, и мне было хорошо. Неужели мне так полюбились стати молодого Протасова, что я сейчас рассуждаю не разумом, а женским естеством? Или все же есть в нем нечто цельное, настоящее, и меня влечет к интересному и талантливому человеку? Прочь сомнения, я обязана взглянуть правде в глаза, а не прятать голову в песок, как страус.
Я пришла в себя, открыла конверт и достала сложенный вчетверо лист бумаги. На нем свинцовым карандашом были написаны рвущие душу строки:
«Милая, любимая моя Полина! Обожаемая мною женщина! Прости меня, прости за все: за то, что уезжаю вот так, не попрощавшись, за мое невнимание к тебе, за то, что возомнил о себе Бог весть что, за обиду, что нанес тебе. Горе мне!
Я недостоин тебя. Недостоин такой, какой есть сейчас – подмастерье в столярной мастерской, умеющий лишь рисовать эскизы заказной мебели. Мелкий, ничтожный человечишка. Рядом с тобой должен быть талант, знаменитость, ты привыкла к выдающимся мужчинам. Ты ведь рассказывала мне о своем покойном муже, а меня в эти моменты словно пытали каленым железом: я сравнивал себя с ним и понимал, что и ты сравниваешь тоже.
Единственный выход – уехать и стать тем, кем я должен стать. Мне нужно многому научиться, я хочу писать, хочу выразить все то, что накопил в своей душе за недолгую жизнь. И Париж – лучшее место для этого. Сниму мансарду, куплю краски, буду учиться у мастеров – большего мне пока и не надо. Погружусь с головой в работу и, может быть, успокоюсь.
Как приеду, обязательно тебе напишу.
Прости меня еще раз, что уехал тайком. Прости, что был с тобой резок и не пришел попрощаться. Иначе ты меня отговорила бы, а я не могу тут больше оставаться. Видя тебя ежедневно, я понимал, что теряю тебя. Вот такой парадокс.
Я не прощаюсь навсегда и уверен, что мы увидимся. Но я уже не буду подмастерьем. Я верю в это.
Остаюсь твой навеки
Андрей
Прочитав письмо, я сложила его и спрятала в сумочку. Потом глубоко вздохнула. Вот все и разъяснилось к моему глубокому удовлетворению. Андрея сжигали два противоречивых чувства: вера в свои творческие силы и унижение от низкого статуса мещанского сына. Да еще противозаконная, постыдная связь, не освященная церковью, с женщиной старше него.
Мне было непонятно одно: когда с ним произошла эта неожиданная метаморфоза? Как он мог подумать, что я хочу выйти за него замуж? Ведь для вступления в брак одной физической привлекательности недостаточно. Да, я часто говорила Андрею комплименты. Я восторгалась его телом, пылкостью, неутомимостью и не стыдилась выражать свои чувства вслух. А бедный художник принял все за чистую монету. В его мещанской среде обладание женщиной вне брака считается постыдным, и каждая падшая старается всеми правдами и неправдами затащить совратителя под венец. Но разве я похожа на падшую, а он – на совратителя? Скорее, наоборот.
Я прислушалась к себе. Мне было неприятно, что Протасов стоит на социальной лестнице ниже меня. А если бы он был дворянином, захотела бы я с ним обвенчаться? Глубоко заглянув себе в душу, я поняла: да, захотела бы. Тогда мне не надо было бы ничего объяснять в обществе. Тогда у него не было бы этого ужасного акцента во французском языке. Он был бы более образован, более утончен… Нет, все же я безнадежно отсталая, и надо мной еще довлеют кастовые предрассудки.
Боже мой, ведь мы живем в прогрессивном веке! Уже повсеместно освещают дома электричеством, из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать на поезде всего за ночь с небольшим, в Париже на Всемирных выставках показывают чудеса науки со всех концов света, а в нашем провинциальном N-ске молодая вдова с огромным капиталом, вложенным в процентные бумаги, считается падшей и неустроенной женщиной, которой необходим муж и покровитель, – иначе она не справится ни со своим достатком, ни со своей плотью. И ладно бы, что так думают ветхозаветные кумушки в траченных молью салопах. Но московский студент, художник, одержимый новыми веяниями в искусстве, придерживается того же мнения! И мучает его не то, что я не хочу за него замуж – подобная «абсурдная» мысль даже не приходит ему в голову, – а то, что он по имущественному и сословному положению стоит ниже меня. Вот был бы он дворянин с поместьем, я с радостью бросилась бы к нему в объятия. Жаль, он не имел счастья познакомиться с бравым штабс-капитаном Сомовым, дворянином и помещиком. Тот объяснил бы Протасову, как сильно я «желаю» замуж. Да нет, не объяснил бы – он сам толком ничего не понял. Ведь я и «авансы» раздавала, и в постель его затащила, обезумев от страсти. Я ведь не щука замороженная, а женщина, которой хочется любви и ласки. Но почему я должна отдавать свободу и капиталы в обмен на обручальное кольцо? Почему мужчинам можно удовлетворять свою похоть в веселых домах даже при наличии жены, а одинокая женщина не может лечь в постель с тем, кто ей нравится, не снискав презрительных взглядов общества?..
Ну и ладно, что случилось, то случилось. Для меня наступили тихие спокойные дни.
От Андрея стали приходить письма. Он снял мансарду на улице Турлак на Монмартре, записался в школу изящных искусств к мэтру Кормону и принялся осваивать стили и технику живописи. Настроение у него было восторженное, и это понятно: мне известно, как действует на новичка Париж – его воздух, дворцы, бульвары, толпы людей, гуляющих по набережным Сены, кафе под плетеными тентами. А женщины!.. Андрей много писал, проводил время в кабачках – знакомился там с художниками и натурщицами, побывал в кабаре «Мулен Руж», где насладился огненным канканом. Я получала истинное удовольствие, читая его письма, – у Протасова открылся писательский талант, и его замечания оказывались тонкими и остроумными.
Впрочем, о Париже, «Мулен Руж» и бульварах было только первое письмо. В остальных он писал только о работе и учебе, о том, что он недоволен мэтром и намерен поменять школу, о шапочном знакомстве с Тулуз-Лотреком и Пюви де Шаванном в пивной «Ла Сури» на улице Бреда. Он посещал музеи, копировал старых мастеров и возвращался в свою мансарду после полуночи.
Письма Андрея становились все короче, они приходили все реже и реже. Я начала беспокоиться. Я ведь знала, что многие приезжают в Париж, чтобы покорить его, но далеко не каждому это удается.
Последнее письмо от Андрея поразило меня своей безысходностью. Я вчитывалась в строки, пытаясь понять, что с ним, почему ему так плохо и чем я могу ему помочь? И не находила ответа.
«Милая моя Полина, – писал Андрей. – Несмотря на то, что несколько месяцев не такой уж большой срок, я начинаю разочаровываться в этой цитадели „высокого искусства“. Прошел восторг первых дней, и я оказался один на один с жестокой действительностью, от которой мне становится все хуже. Я надеялся найти в Париже свой стиль, а вместо этого меня заставляют по многу часов копировать классиков, то есть делать то же, что я делал в московском училище. Но сколько можно? В мои годы Микеланджело уже высекал статуи, а Рембрандт был знаменит за пределами Нидерландов. Время идет, и я чувствую, как оно течет у меня между пальцами.
Ведь я знаю, что могу писать, и пишу урывками, когда у меня остается время. Я выражаю душу в картинах, а надо мной смеются. Приехал какой-то неуклюжий русский, с жутким акцентом, в нелепой одежде, и хочет завоевать Париж словно какой-нибудь Растиньяк. Их Париж – жестокий и коварный, но в то же время пленительный и одурманивающий, сводящий с ума. Париж водит за нос не только чужака, но и уроженца самого что ни на есть Монпарнаса. Завоевать Париж… Как бы не так, милый, находились и посильнее тебя, только это им тоже оказалось не по зубам! Нет уж, знай, сверчок, свой шесток, сиди тихонько да рисуй лобастых афинян с гипсовых слепков. Я эти безрукие торсы уже с закрытыми глазами рисую. А коричневые картины позднего классицизма просто видеть не могу. Все привычно, знакомо и… словом, надоело. Иногда хочется залечь в мансарде и не выходить на улицу, но я знаю, что это – поражение, и не смирюсь с этим.
Отнес несколько своих работ в галерею на улице Форе. Мне ее посоветовали, сказали, что владелец не такой сквалыга, как остальные. Хозяин взял, но при этом скривился, словно я писал не красками, а уксусом. Обещал заплатить после продажи. Значительных денег не предвижу, хорошо бы на краски заработать да на оплату чердака, и за то спасибо.
Вчера в «Ла Сури» познакомился с одним необычным человеком. Он – алхимик, представляешь себе? Это в наше-то время! Высокий худой старик с растрепанными седыми волосами и непременной трубкой в зубах. Ищет философский камень и смысл жизни. Мы славно поговорили, и он обещал показать мне свою алхимическую лабораторию. Очень этот старик меня заинтересовал.
Я одинок, Полина. У меня здесь нет друзей. Пытаюсь заглушить тоску работой, но перед сном приходят мрачные мысли: зачем все это? Барахтаюсь, как муха, завязшая в смоле. На что только не пойдешь, чтобы убить это чувство одиночества.
Не перестаю думать о тебе и о своем долге, который я сам возложил на себя. Мне нужна власть над кистью, слава и много-много денег. Только тогда я вернусь и паду к твоим ногам. А пока я, стиснув зубы, вновь принимаюсь за копирование классиков.
На этом все, иду работать. Жду с нетерпением твоих писем. Если бы ты знала, как они мне дороги. Я их храню и перечитываю.
Крепко обнимаю.
Не поминай лихом.
Твой Андрей
Это, как я уже сказала, было последнее письмо.
В ответ я написала около десятка писем с перерывами в неделю. Каждый раз, когда приходила почта, я вспыхивала на мгновенье и тут же угасала – письма от Андрея не было. Дуняша по моей просьбе сходила к Протасовым спросить, нет ли известий от сына, но ей ответили, что писем не было уже несколько месяцев.
С того дня прошло около полугода. Я скучала, не зная, чем себя занять. Перечитала все последние новинки, присланные из Москвы и Санкт-Петербурга, начала вышивать гладью, чего не делала с институтских времен. Андрей молчал, и мне все чаще снились его серые глаза. Гарнитур уже не радовал своей новизной, хотя был очень удобен и эффектен, и я подумывала, не заказать ли Серапиону Григорьевичу спальню в том же стиле. Но без Андрея я не решалась – а вдруг мастеровые не справятся?
Елизавета Павловна присылала мне приглашения на свои четверги, и от одиночества и хандры я однажды поехала к ней. Весь вечер вокруг меня крутились двое: помещик Малеев в обсыпанном перхотью сюртуке и жандармский ротмистр Жулябии, абсолютно лысый и с громовым голосом. Они наперебой пытались завладеть моим вниманием, помещик рассказывал об урожае гречихи и пройдохе-землемере, из-за которого у него началась тяжба с соседями, а жандарм подчеркивал свою роль в поимке политических и требовал закрыть университеты, в которых, по его разумению, ничему хорошему научить невозможно.
Рассеянно слушая того и другого, я размышляла, что вот, передо мной два потомственных дворянина, которые не прочь поухлестывать за богатой вдовой, так чего же меня от них с души воротит? Значит, дело не в сословиях, а в чем-то другом?
Больше к Елизавете Павловне я не ездила, устала от помещиков-сутяг и прочих искателей легкой наживы.
Был хмурый весенний вечер. Я гостила у отца и пила чай из любимой чашки. Вера подкладывала мне ватрушки, а Настенька, подперев подбородок ладошкой, слушала наши разговоры. В печи-голландке потрескивали дрова, и все та же лампа под ярко-оранжевым абажуром освещала теплым светом гостиную.
– От Андрея не было писем? – вдруг спросил отец.
Я удивилась. Лазарь Петрович никогда не говорил на эту тему. А я не посвящала его в свои переживания.
– Herr, papa, давно не пишет, уже полгода. Раньше письма чуть ли не каждую неделю приходили.
– А ты ему писала?
– Я отвечала на все его письма. Ответила и на последнее, потом написала еще несколько и стала ждать. Не понимаю, что с ним могло случиться. Может, он решил вернуться и стыдится этого решения?
– Подожди, может, еще и напишет. Почта задерживается или адрес перепутали. Бывает…
У нас был случай в институте, – вступила в разговор Настя. – Пепиньерка Синичкина ждала полгода писем из дома, а они все не шли. Потом ей целую пачку принесли. Оказалось, ее maman адрес перепутала, и письма приходили совершенно другому человеку, какой-то старушке. А той скучно было, вот она открывала чужие письма и читала.
– И каким же образом к твоей Синичкиной вернулись письма? – спросил Лазарь Петрович.
– Старушка усовестилась и принесла их почтмейстеру. Так раскрытыми их Синичкиной и передали. Уж она плакала!
– От чего же?
– Как от чего? От радости. Всегда от радости плачут, – ответила Настя.
Мы рассмеялись. Реплика девушки позволила мне собраться с мыслями.
– Не скажу, что с нетерпением жду его писем… – с деланным равнодушием произнесла я, но отец тут же уловил изменения в моем настроении.
Ведь на самом деле все было немного не таю в последнем письме к Андрею я сообщила, что намереваюсь приехать в Париж по делам. Сроков не указала, да и не было у меня в Париже никаких дел, кроме как повидать его. Я беспокоилась о Протасове и чувствовала, что буду нужна ему. В Париже никому нет дела до того, что он мещанин, а я дворянка, и за нами не будут следить любопытные кумушки, подобные Елизавете Павловне.
– Ты что-то задумала, Полина. – Лазарь Петрович укоризненно посмотрел на меня и сделал паузу, словно находился в зале суда перед присяжными заседателями. – Может, поделишься с нами? Не чужие ведь люди.
От отца ничего невозможно скрыть. Он знает меня лучше, чем самого себя.
– Да, задумала, – призналась я. – Papa, я хочу поехать в Париж. Надеюсь, ты не осудишь меня.
– Ой, в Париж! – воскликнула Настя. – Как я хочу в Париж!
– Сначала закончи институт, а там видно будет, – ответила я.
– Следует ли понимать, что это каким-то образом связано с Протасовым? – мягко спросил Лазарь Петрович.
– Не буду лукавить, и с ним тоже, – кивнула я. – Но не только. Мне скучно здесь: дом обставлять надоело, да и без Андрея Серапионовича это невозможно сделать. Я перечитала все модные новинки, накупила кучу тряпья. В конце концов, зачем мне запирать себя в четырех стенах, если есть возможность посмотреть мир? Я хочу получать удовольствие от жизни.
– Ну, что ж… Ты человек взрослый, средства есть. Поезжай. Развеешься, на Эйфелеву башню посмотришь, говорят, чудо как хороша. Импрессионистами поинтересуйся, может, и прикупишь каких – дом украсить. К новому гарнитуру подойдут замечательно. Ни у кого таких картин не будет, а это вложение серьезное. Кажется мне, надолго они пришли. Паспорт в порядке?
– Да, выправлен недавно.
– Тогда в добрый путь, Полина. Я закажу тебе билеты в первом классе. Все, мне пора.
Отец попрощался и вышел из гостиной. Я знала, что он направляется к своей пассии и будет отсутствовать всю ночь. Вскоре Настя ушла спать, и я уехала к себе.
Вернувшись домой, я долго не могла заснуть – все думала: обрадуется ли мне Андрей, когда я приеду в Париж, что скажет при встрече? Наутро я пересмотрела свой гардероб. Оказалось, что для поездки мне не хватает множества необходимых вещей. Я немедленно отправилась в универсальный магазин и приобрела дорожный несессер с серебряными щипчиками для маникюра и мыльницей оливкового дерева с глицериновым мылом внутри, раскладывающуюся щетку для волос и патентованное средство от мозолей на случай, если придется много ходить.
Спустя две недели я стояла на перроне Брестского вокзала, ожидая посадки на поезд Москва-Варшава. В Москву я приехала накануне и не успела нанести визиты подругам. Да и особой охоты не было: они начали бы расспрашивать, зачем я еду в Париж, не вышла ли я замуж, принялись бы хвастать своими малышами, домом и супругом. От всего этого я была далека.
Из-за спешки отец не смог взять билеты в первый класс трансевропейского экспресса (а на второй я не соглашалась), поэтому в Варшаве мне предстояло самой покупать билет на поезд Варшава-Берлин-Париж, что прибавляло хлопот, но не настолько, чтобы лишиться удобств и мягких диванов в купе. Лишний день погоды не сделает, ведь я и так бесплодно прождала много месяцев.
Перед отъездом я написала Андрею коротенькое письмо. Постаралась так составить фразы, чтобы оно было предельно лаконичным и отстраненным. Мол, еду в Париж по делам, заодно хотелось бы и тебя повидать. Никаких «целую», «твоя навеки» и прочих излишеств.
Купе синего пульмановского вагона оказалось комфортным, не зря я настояла на первом классе. Немного потерта в углах бархатная обивка, но диваны широкие и удобные, столик полированного дерева, а бронзовые водопроводные краны начищены до блеска.
Когда позади остался Смоленск, я почувствовала, что голодна. Заказывать обед в купе не хотелось, и я отправилась в вагон-ресторан.
Там было тепло и уютно: на столиках красивые лампы, занавеси, смягчающие солнечный свет, картины пастельных тонов, на которых были изображены паровозы в клубах дыма. В такт стучавшим колесам позвякивали низкие хрустальные бокалы на белой крахмальной скатерти и бутылки в кольцевых захватах. Я села у окна и стала рассматривать проносившиеся мимо пейзажи.
Подошедший официант поклонился и подал меню.
– Рекомендую кордон-блю, сударыня, – почтительно произнес он. – Наш повар их отменно готовит в соусе пармезан.
– Нет, благодарю, – ответила я. Не люблю куриную грудку. Всегда предпочитала ножки, хоть они и считаются плебейским блюдом. – Лучше принесите мне вот что: рассольник и порцию фуа-гра с жареным картофелем.
Последний раз я ела рассольник несколько лет назад в доме моей тетки Марии Игнатьевны. Ее повар готовил этот суп совершенно замечательно – у других так не получалось.
– Десерт? – спросил официант. – Есть чудное малиновое сорбе.
– Потом.
– Слушаюсь. – Он ловко взмахнул полотенцем и исчез.
В ожидании гусиной печенки я переключила внимание на сидящих в вагоне-ресторане пассажиров. Семейная пара: муж в мундире почтово-телеграфного ведомства и жена в шляпе из бастовой 1414
Баст (май.) – лыко с разных деревьев, заменяющее соломку. (Прим. авт.)
[Закрыть] соломки с полевыми цветами. С ними путешествовали также сухопарая бонна-немка с постным лицом и капризничающая девочка лет шести. Бонна непрестанно одергивала девочку, приказывая ей каркающим фельдфебельским голосом: «Мари, сидите прямо! Не вертитесь!» Родители, увлеченные спором, не обращали на них никакого внимания.
За одним из столиков усердно поедал яйца «в гнезде» 1515
Яйца «в гнезде» – блюдо, изготовленное из картофельного пюре и яиц. В готовом пюре делается углубление, туда выливается яйцо, после чего блюдо запекают в печи или духовке. (Прим. авт.)
[Закрыть] пожилой чиновник в пенсне, похожий на аптекаря, за другим – тихо разговаривали трое поляков, сидевшие неестественно прямо.
Рассольник оказался необыкновенно вкусным, не хуже, чем получался у повара Марии Игнатьевны, упокой, Господи, ее душу.
Неожиданно за моей спиной послышались шум и громкие шаги. Но я, поглощенная обедом, даже не обернулась. Поляки перестали шептаться. Замолчал и капризничавший ребенок. Громко звякнула упавшая вилка чиновника в пенсне.
К соседнему столику подошел удивительный человек. Гренадерского роста, с пышными усами и раздвоенной бородой, он был одет в шаровары и подобие бурнуса, украшенного хвостами неизвестных мне пушных зверей. За ним следовал арапчонок в красной курточке с позументом и феске с кисточкой.
Гренадер уселся, победоносно обвел глазами вагон-ресторан и гаркнул:
– Половой! Водки! И немедля!
Его приказ был мгновенно исполнен. Тут гренадер заметил меня и движением руки отвел в сторону заказанную водку.
– Шампанского!
Невежа встал, подошел к моему столику и плюхнулся на стул напротив. По полу звонко клацнула длинная сабля в инкрустированных ножнах. Поляки втянули головы. Арапчонок привычно занял место за спиной хозяина.
Вы позволите?
– Вы уже сели, – спокойно ответила я. – Мое разрешение в данном случае – не более чем формальность.
Он и ухом не повел.
– Благодарю. Разрешите представиться, Николай Иванович Аршинов, вольный казак Камышинского уезда Саратовской губернии.
Кивнув, я внимательно посмотрела на него, стараясь взглядом выразить презрение к его манерам. Подлетевший официант принес бутылку «клико» и согнулся в три погибели.
– Прошу меня извинить, я не пью шампанского за обедом, – холодно сказала я, с трудом себя сдерживая. – И тем более не пью его с незнакомцами.
Бедная печенка! Я с такой яростью взялась за изысканное блюдо, что капельки соуса брызнули на белоснежную скатерть.
– Но я же представился, – чуть ли не обиженным тоном сказал гренадер. – Не разбойник какой. С кем мне еще здесь беседовать? Не с этим же стручком!
Он махнул рукой в сторону почтенного чиновника, отчего тот побагровел и приподнялся на стуле, но затем решил сделать вид, что его это не касается, протер пенсне и снова занялся обедом.
Подозвав официанта, неожиданный визави ткнул пальцем в мою тарелку и, ничуть не смущаясь, спросил:
– Что это ты, братец, даме подал?
– Фуа-гра-с, – произнес тот. – Высшего сорта, убоина свежайшая-с.
– Печенка, значит… – проговорил Аршинов. – Печенка – это неплохо. Давай две порции, да пожирнее и послаще. И чтоб немедля! Знаю я вас, по часу мурыжить готовы! Едал я в Париже печенку, до сих пор вкус помню. – Официант побежал исполнять заказ, а гренадер обратился ко мне. – Канальи французишки бедного гуся в клетку сажают да орехи через воронку ему в глотку пропихивают, чтоб мясо имело изысканный вкус. Клетка тесная, гусь в ней сиднем сидит, не шелохнется, дабы вес не потерять. А за три недели до того, как под нож пустить, уксусом его поят. Их самих бы в клетку, да уксус через воронку в глотку вливать. Правда, печенка отменная выходит! Главное, не знать, через что страдалец прошел, тогда можно наслаждаться.