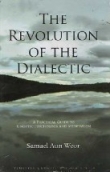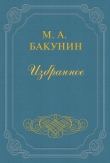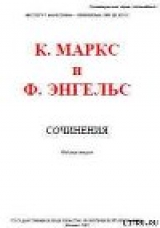
Текст книги "Собрание сочинений, том 18"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 60 страниц)
Это для Бакунина главное – «нивелировка», например, всей Европы до уровня словака – продавца мышеловок… „Но пока что мореплавание остается главным средством для“ «преуспеяния народов» (Wohlfart, grosse Fortschritt der Volker). Вот единственное место, где г-н Бакунин говорит об экономических условиях и усматривает, что они создают условия и различия между народами, независимые от «государства».
Когда не будет более «государств» (Staaten) и на развалинах всех государств возвысится „совершенно свободно и организуясь снизу вверх вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и «областных» федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей, тогда путь к морю будет равно открыт для всех: для береговых жителей непосредственно, а для живущих в отдалении от моря – посредством железных дорог, освобожденных вполне от всяких «государственных попечений» (Sorge, Fursorge, Pflege), «взиманий» (l'action de prendre), пошлин, ограничений, придирок, запрещений, позволений и вмешательств. Но даже и тогда морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ, не только материальных, но и умственно-нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно и без того не нивелированные отношения; при всем том внутренние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленнее прибрежных. Вот почему так важно будет воздухоплавание… Но до тех пор… прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве“.
Например, Бретань!
А разница между равниной и горной местностью, бассейны рек, климат, почва, уголь, железо, приобретенные производительные силы, материальные и духовные, язык, литература, технические способности и пр. и пр.? Фурье тут более героически справляется с нивелировкой (стр. 139—142).
Бакунин попутно делает открытие, что Германия (как страна не приморская) в торговом отношении стоит ниже Голландии, а в промышленном – ниже Бельгии (стр. 143).
Пруссия, нынешнее олицетворение, голова и руки Германии, крепко основалась на Балтийском и Северном морях (стр. 145). Гамбург, Бремен, Любек, Мекленбург, Ольденбург, Шлезвиг-Гольштейн – вся Пруссия строит на французские деньги два больших флота: один на Балтийском, другой на Северном море, и благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один. Он скоро будет гораздо сильнее русского балтийского флота. Тогда к черту Рига, Ревель, Финляндия, Петербург, Кронштадт! К черту всякое значение Петербурга!
Это должен был себе сказать Горчаков в тот день, когда союзная Пруссия безнаказанно и как бы с нашего согласия ограбила нашего союзника – Данию.
Польское восстание, «господин» Бакунин!
„Он должен был понять, что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последней сильнейшую континентальную державу; с тех пор, одним словом, как новая Германская империя, под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, – преобладанию петербургской России на этом море был положен конец, уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и могущество «всероссийского государства», если“
„в вознаграждение утраты на севере вольного морского пути“ (но до каких пределов вольного, s'il vous plait [скажите, пожалуйста. Ред.]? Для англичан – он „вольный“ до самых стен Кронштадта) „не откроется для него новый путь на юге “ (стр. 145—147).
Подступы еще в руках Дании, но она сначала будет добровольно федерирована, а затем будет полностью поглощена пангерманской империей. Таким образом Балтийское море скоро станет исключительно немецким морем, а отсюда – утрата Петербургом политического значения. Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление Дании и на присоединение Шлезвиг-Гольштейна к Пруссии. Он или изменил России, или получил формальное обязательство Бисмарка содействовать России в завоевании нового могущества на юго-востоке.
Для Бакунина несомненно, что между Пруссией и Россией заключен был наступательный и оборонительный союз после Парижского мира или, по крайней мере, во время польского восстания 1863 года.
Отсюда беспечность, с которой Бисмарк начал войну против Австрии и против большей части Германии, рискуя французским вмешательством, и еще более решительную войну с Францией. Малейшая демонстрация России на границе в это время, и в особенности во время последней войны, остановила бы дальнейшее победоносное шествие прусской армии. Вся Германия, в особенности северная часть Германии, во время последней войны была совершенно очищена от войск; Австрия сидела смирно только под угрозой России; Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заяви она себя таким решительным союзником Пруссии, немцы никогда бы не взяли Парижа. Но Бисмарк, видимо, был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Бисмарк знает, что русские и прусские интересы совершенно противоположны, за исключением польского вопроса. Война между обеими странами неизбежна. Но могут быть основания для отсрочки, причем каждый надеется до момента кризиса использовать невольный союз как можно лучше. Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри еще множество мелких княжеств, снаружи – Австрия и Франция. Повинуясь внутренней необходимости, она задумывает новые предприятия, новые войны. Восстановление средневековой империи в первоначальных границах, опираясь на патриотический пангерманизм, обуявший все немецкое общество; объединение всей Австрии, без Венгрии, но с Триестом и с Богемией, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества, – планы, возбуждающие против нее значительную часть Западной и Южной Европы, вследствие чего осуществление их без согласия России невозможно. Значит, для новогерманской империи еще необходим русский союз (стр. 148—151).
Всероссийская империя, со своей стороны, не может обойтись без прусско-германского союза. Она должна идти на юго-восток, вместо Балтийского моря – Черное; иначе – отрезана от Европы, а для этого необходим Константинополь; иначе ей всегда можно отрезать выход в Средиземное море, как это и случилось во время Крымской войны. Итак, конечная цель – Константинополь. Это вопреки интересам всей Южной Европы, включая и Францию, вопреки английским интересам и даже германским, так как безграничное владычество России на Черном море поставит все дунайское «прибрежье» в прямую зависимость от России. Тем не менее, Пруссия формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике; так же верно и то, что она воспользуется первой возможностью для того, чтобы изменить обещанию. Но такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Пруссия помогла России при уничтожении условий Парижского мира; будет ее поддерживать и по отношению к Хиве. К тому же для немцев выгодно, чтобы Россия удалилась как можно дальше на восток. Какова цель русских войн против Хивы?.. Индия? Об этом не думают, с Китаем, дело было бы много легче; русское правительство и затевает нечто в этом роде. „Оно силится явным образом отделить от него Монголию и Маньчжурию“; „в один прекрасный день мы услышим, что русские войска совершили вторжение на западной границе (!) Китая… Китайцам тесно жить внутри своей перенаселенной страны; поэтому – переселение в Австралию, в Калифорнию; другие массы могут двинуться на север и на северо-запад. И тогда в одно мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским. На этом огромнейшем пространстве в 12200000 кв. километров, больше чем в двадцать раз превосходящем размерами Францию (528600 кв. километров), теперь только 6000000 жителей, из которых только около 2600000 русских, все же остальные – местные уроженцы татарского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная... Китайцы перевалят и через Урал, дойдут до самой Волги; умножение народонаселения делает почти невозможным для китайцев дальнейшее существование в границах Китая. Внутри Китая энергичные, воинственные люди, выросшие в обстановке нескончаемой междоусобной войны, в которой разом гибнут десятки и сотни тысяч людей... За последнее время ознакомились с европейским оружием и европейской дисциплиной, короче говоря, с «государственной» цивилизацией Европы. При этом глубокое варварство; никаких свободолюбивых или человеческих инстинктов. Уже теперь они соединяются в банды под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, которые со времени последнего франко-английского похода (1860 г.) нашли дорогу в Китай; такова большая опасность со стороны востока... С этой опасностью играет наше русское правительство, простодушное, как дитя... Хочет расширять границы, а Россия до настоящего времени не в состоянии – и никогда не будет в состоянии – населить новоприобретенный Амурский край, где на 2100000 кв. километров – почти вчетверо больше, чем Франция, – приходится вместе с войском и флотом всего 65000 жителей, притом нищета русского народа, толкающая его к всеобщему «бунту»... Русское правительство надеется водворить свое могущество на всем азиатском Востоке. Оно должно было бы окончательно повернуться спиной к Европе, – чего Бисмарк и желает, – двинуть всю армию в Сибирь и Центральную Азию и, подобно Тамерлану, завоевывать Восток; но за Тамерланом народ его шел, а за русским правительством – нет”... Что касается Индии, то русские не могут овладеть ею при сопротивлении англичан... „Но если мы не можем завоевать Индию, то мы можем разрушить ее или, по крайней мере, сильно поколебать там владычество Англии, возбуждая туземные «бунты» против нее, помогая им, поддерживая их даже, когда это станет нужно, военным вмешательством”. „Это нам будет стоить страшно много денег и людей... К чему?.. Чтобы беспокоить англичан без всякой пользы? «Нет», потому, что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? – В Константинополе [Подчеркнуто и у Бакунина. Ред.]; покуда англичане сохранят свою силу, они никогда и ни за что в мире не согласятся, чтобы Константинополь в наших руках стал снова столицей не только всероссийской, но также Славянской и Восточной империи”. Вот почему русское правительство и ведет войну в Хиве, чтобы затем, согласно давнему его стремлению, приблизиться к Индии. „Оно ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии, и, не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом оно надеется помирить Англию с мыслью, что Константинополь должен сделаться русским городом” ... Преобладание на море Балтийском утрачено безвозвратно... Российская империя, основанная на штыке и кнуте, ненавистная для всех народных масс, включая сюда и славянские, начиная с великорусского народа, – деморализованная, дезорганизованная и пр. ... не в силах бороться против вновь возникшей Германской империи. Итак, „надо отказаться от Балтийского моря и ожидать того момента, когда вся прибалтийская «область» сделается немецкой провинцией. Помешать этому может только «народная революция». Но такая революция для «государства» – смерть, и не в ней будет наше правительство искать для себя спасения”.
Последняя фраза на стр. 160.
Для него не остается иного спасения, как только в союзе с Германией. Принужденное отказаться от Балтийского моря, оно должно искать возмещения на Черном море, хотя бы для самого своего политического существования, и может сделать это только с помощью немцев. „Немцы обещали эту помощь. Мы уверены, – между Бисмарком и Горчаковым заключен формальный договор“. Разумеется, немцы и не думают о его выполнении. ни не могут отдать на произвол России устье Дуная и свою дунайскую торговлю; воздвигнуть на юге Европы великую панславянскую империю было бы самоубийством со стороны пангерманской империи. Но „направить и толкнуть русские войска в Центральную Азию, в Хиву, под предлогом, что это самый прямой путь в Константинополь, – это другое дело“. Бисмарк надул Горчакова и Александра II, как в свое время Наполеона III. Но дело сделано, его переменить невозможно. И не русским «дряблым силам» (schwachen Kraften) опрокинуть новую Германскую империю; это может сделать только революция, а до тех пор, пока она не восторжествовала в России или в Европе, будет побеждать и всем повелевать «государственная» Германия, а русское правительство так же, как и все континентальные правительства Европы, будет существовать отныне только с ее позволения и «милости»… „Немцы, более чем когда-нибудь, стали нашими господами, и недаром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции; недаром так торжественно принимали нового пангерманского императора все петербургские немцы“. „В настоящее время на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное «государство» – это Германия… Главная причина – «инстинкт общественности», составляющий характерную черту немецкого народа. Инстинкт, с одной стороны, слепого повиновения сильным, беспощадного притеснения более слабых“ (стр. 151—163).
Следует обзор истории Германии за новейшее время (в особенности с 1815 г.) для доказательства ее рабского сознания и стремления к притеснению…
От последнего приходилось страдать особенно славянам, ибо „историческим назначением“ (немцев), по крайней мере на севере и на востоке, являлось, по их собственным понятиям, истребление, порабощение и „насильственное германизирование“ славянских племен. „Эта длинная и «печальная» история, память о которой глубоко хранится во всех славянских сердцах, без сомнения, отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде“ (стр. 164).
Следует затем история немецкого патриотизма, начиная с 1815 года. (Материал заимствован из книги проф. Мюллера по истории 1816—1865 годов.)
„Политическое существование прусского королевства (1807) пощажено только благодаря просьбам Александра I“ (стр. 168, 169).
Речи Фихте к немецкой нации. «Но современные немцы, сохранив всю громадность претензий своего философа-патриота, от гуманности его отказались… Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или г-на Маркса» (стр. 171).
После бегства Наполеона из России, по словам Бакунина, „Фридрих-Вильгельм III со слезами «умиления и благодарности» обнял в Берлине своего избавителя, императора всероссийского“ (там же).
„Оставалось поэтому Австрии только одно – не душить Германию“ своим вступлением со всеми своими владениями в Германский союз, как она первоначально предполагала, „но вместе с тем и не позволять Пруссии стать во главе Германского союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать на деятельную помощь Франции и России. Политика России до самого последнего времени, то есть до Крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией, так, чтобы ни одна из них не могла одержать верх над другой, и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних княжествах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии“ (стр. 183). Влияние Пруссии преимущественно нравственное, от нее многого ожидали (после 1815 г.). Поэтому для Меттерниха важно было, чтобы она не давала никакой конституции (обещанной), а чтобы стала с Австрией во главе реакции. „В этих стремлениях он нашел самую горячую «поддержку» во Франции, управляемой Бурбонами, и в императоре Александре, управляемом «Аракчеевым»“ (стр. 184).
„Немцы не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без правительства, то есть без верховной воли, верховной мысли и железной руки, «ими помыкающей». Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они и тем самая жизнь становится для них веселее“ (стр. 192).
1830—1840. Слепое подражание французам. „Немцы перестают пожирать галлов, но зато обращают всю свою ненависть на Россию“ (стр. 196). „Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, прусская монархия, оторванная от своей северо-восточной опоры и принужденная“ отказаться, если не от всех, то от значительной части своих польских владений, „принуждена была бы искать новой точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла… путем завоеваний… то – путем либеральных реформ“ (стр. 199). После поражения поляков Фридрих-Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему зятю, императору Николаю, „сбросил маску и пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов“ (стр. 200).
„В убеждении, что народные массы носят в своих более или менее развитых историей инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала“ (общественной организации) в самом народе; а так как всякая «государственная» власть, всякое правительство, по существу своему и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям, ему чуждым, то мы объявляем себя врагами всякой правительственной, «государственной» власти, врагами «государственного» устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь «снизу вверх» путем самостоятельных и совершенно свободных «соединений» (Vereinigungen) и «помимо» всякой официальной опеки, «но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь» (стр. 213).
Таковы „убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами“ (стр. 213). „Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры, все вместе, с одинаковым «жаром» (Eifer), хотя разными аргументами, «отстаивают» (schьtzen) идею «государства» и «государственной» власти, видя в них совершенно логично по-своему единое спасение общества. Совершенно логично [Подчеркнуто и у Бакунина. Ред.], потому что, приняв раз за основание «положение», что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория – общественной практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходной точкой для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных организаций, общин, «волостей, областей снизу вверх», сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственно диктаторской властью этого ученого меньшинства, хотя бы и избранного «общенародной волей»“ (стр. 214).
Поэтому „доктринерные революционеры“ никогда не бывают врагами «государства», а лишь врагами существующих правительств, чье место они желают занять в качестве диктаторов (стр. 215).
„И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все правительства и пр. готовятся под предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции; теперь, когда, казалось бы, все искренние революционеры должны соединиться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, – мы видим, напротив, что доктринерные революционеры под предводительством г-на Маркса везде держат сторону «государственности» и «государственников» против « народной революции» (стр. 216). Во Франции они стояли на стороне «государственного» республиканца-реакционера Гамбетты, против революционной Ligue du Midi [Южной лиги. Ред.], которая только одна могла спасти Францию и от немецкого порабощения, и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, бонапартистов, орлеанистов; в Испании они открыто приняли сторону Кастелара, Пи-и-Маргаля и мадридской конституанты; наконец, в Германии и вокруг Германии, в Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного «деятеля», помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран“ (стр. 216, 217).
(Фейербах был еще метафизиком: „должен был уступить место своим «законным» преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, например, гг. Бюхнер, Маркс и другие“, еще не освободились „от преобладания метафизической абстрактной мысли“ (стр. 207).)
„Но главным пропагандистом социализма в Германии, сначала тайно, а вскоре потом публично, был Карл Маркс. Г-н Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах. По происхождению г-н Маркс – еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. «Нервный» (Nervos), как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, господь бог его предков, и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать против всякого, кто имел несчастье возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И он не останавливается перед самой «гнусной» интригой, если только, по его мнению, – впрочем, большей частью ошибочному, – эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический «человек». Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очень «умен» и чрезвычайно многосторонне «учен». Доктор философии, он еще в Кёльне, около 1840 г., был, можно сказать, душой и центром весьма значительного кружка передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, вскоре закрытый по министерскому приказанию. К этому кружку принадлежали братья Бруно Бауэр и Эдгар Бауэр, Маркс, Штирнер и потом в Берлине – первый кружок немецких нигилистов, которые цинической последовательностью своей далеко превзошли самых ярых нигилистов России. В 1843 или 1844 г. г-н Маркс переселился в Париж. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и с соотечественником своим, немецким евреем г-ном Морисом Гессом, который прежде его был ученым экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие г-на Маркса. Редко можно найти человека, который бы так много «знал» и читал, и читал «так умно», как г-н Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других положительностью «познаний» и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгой критикой и добросовестной смелостью выводов. Но ко всему этому г-н Маркс прибавил еще два новых элемента: диалектику самую отвлеченную, «самую причудливо-тонкую», которую он приобрел в школе Гегеля и которую нередко «доводит до шалости, до разврата», и точку зрения коммунистического направления. Г-н Маркс перечитал, разумеется, всех французских социалистов от Сен-Симона до Прудона включительно, и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остается идеалистом и метафизиком. Его точка отправления – абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г-н Маркс, в противоположность ему, высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всюду предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В «изложении» и в доказательство этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г-на Маркса. Но что замечательнее всего и в чем Маркс никогда не признавался, – это то, что в отношении политическом г-н Маркс прямой ученик г-на Луи Блана. Г-н Маркс несравненно «умнее» и несравненно ученее этого «маленького неудавшегося» революционера и государственного человека; но, как немец, несмотря на «свой почтенный рост», он попал в учение к крошечному французу. Впрочем, эта странность объясняется просто: риторик француз, как буржуазный политик и как отъявленный поклонник Робеспьера, и ученый немец, в своем тройном качестве гегельянца, еврея и немца, оба – отчаянные «государственники» и оба проповедуют «государственный» коммунизм с той только разницей, что один вместо аргументов довольствуется риторической декламацией, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обставляет этот, равно ему любезный, принцип всеми ухищрениями гегелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний. Около 1845 г. г-н Маркс стал во главе немецких коммунистов, и вслед за тем, вместе с г-ном Энгельсом, своим неизменным (unverandlicher) другом, столь же «умным», хотя менее ученым, но зато много более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов или «государственных» социалистов. Центральный комитет их, которого он, вместе с г-ном Энгельсом, был, разумеется, главой, по изгнании их обоих из Парижа в 1846 г. был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848 года. Впрочем, до самого этого года пропаганда их, хотя и распространялась немало во всей Германии, но оставалась тайной и «потому не выходила наружу»“ (стр. 221—225).
К тому времени (революция 1848 г.) городской пролетариат Германии, по крайней мере его огромное большинство, находился еще вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в промышленных городах прирейнской Пруссии, особенно в Кёльне; ветви ее – в Берлине, в Бреславле и «под конец» в Вене, но весьма слабые. Разумеется, в германском пролетариате – инстинктивные социалистические стремления, но никак не сознательные требования социального переворота в 1848—1849 гг., хотя Коммунистический манифест вышел уже в марте 1848 года. Он пронесся над немецким народом почти без следа. Городской революционный пролетариат – еще под прямым влиянием партии политических радикалов или в крайнем случае – демократии (стр. 230). Тогда в Германии был еще элемент, которого ныне там уже нет, – крестьянство революционное или, по крайней мере, способное сделаться революционным... оно тогда было готово на все, даже на «поголовный бунт». „В 1848, как и в 1830 г., немецкие либералы и радикалы ничего так не боялись, как подобного «бунта»; не любят его также и социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который, по собственному сознанию, был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, – что не помешало, однако, учителю, по смерти Лассаля, высказать ревнивое и «завистливое» (neidische, missgunstige) неудовольствие против блестящего ученика, оставившего далеко за собой в практическом отношении учителя, —всем известно... что Лассаль несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI веке и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического «государства» в Германии были истинным торжеством для революции. Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция, а «государство», всякое «государство», даже бисмарковское, – революция. Пусть не подумают, что мы клевещем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и, наконец – все это в свое время будет «представлено» (zugestellt) русской публике. Впрочем, марксисты и думать иначе не могут; «государственники» во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе крестьянскую [У Бакунина: «анархическую». Ред.] и идущую прямо к уничтожению «государства». Как всепоглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская” (стр. 230—232).
„Не только в 1848 г., но и в настоящее время немецкие работники слепо повинуются своим предводителям, тогда как предводители, организаторы социал-демократической немецкой партии ведут их не к свободе и не к интернациональному братству, а прямо под ярмо пангерманского «государства»“ (стр. 254).
Бакунин рассказывает, как Фридрих-Вильгельм IV боялся Николая (ответ польской депутации в марте 1848 г. и Ольмюц, ноябрь 1850 г.) (стр. 254—257).
В 1849—1858 гг. Германский союз даже „не принимался в соображение другими державами“. „Пруссия, более чем когда-нибудь, стала рабой России… Преданность интересам петербургского двора простиралась до того, что прусский военный министр и прусский посланник при английском дворе, друг короля, были сменены оба за выражение симпатии к западным державам“. Николай взбешен был неблагодарностью Шварценберга и Австрии. „Австрия, по своим интересам на Востоке – естественный враг России, открыто приняла сторону Англии и Франции против нее. Пруссия, к великому негодованию целой Германии, оставалась «верна до конца»“ (стр. 259). „Мантёйфель стал первым министром в ноябре 1850 г. для того, чтобы подписать все условия Ольмюцской конференции, крайне унизительные для Пруссии, и окончательно подчинить ее и всю Германию австрийской гегемонии. Такова была воля Николая… Таковы также и стремления большей части прусского юнкерства или дворянства, не хотевшего и слышать о слиянии Пруссии с Германией и преданного австрийскому“ (?) „и всероссийскому императорам даже больше, чем собственному королю“ (стр. 261).
„В это время (около 1866 г.) образовалась так называемая Народная партия. Центр – в Штутгарте. Группа, желавшая союза с республиканской Швейцарией, была главной основательницей Ligue de la Paix et de la Liberte“ (стр. 271).
Лассаль „образовал преимущественно политическую партию немецких рабочих, организовал ее иерархически, подчинил строгой дисциплине и своей диктатуре, словом – сделал то, что г-н Маркс в последующие три года хотел сделать в Интернационале. Попытка Маркса вышла неудачно, а попытка Лассаля имела полный успех“ (стр. 275).