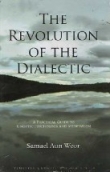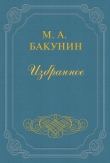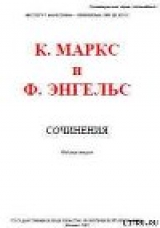
Текст книги "Собрание сочинений, том 18"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 60 страниц)
Затем следует бесподобное обвинение: представив г-на Ткачева в свете, вполне достойном его и его произведений, я тем самым «оказал хорошую услугу нашему общему врагу, российскому государству». В другом месте говорится в том же духе, что, изображая его так, как я его изобразил, я нарушаю «основные принципы программы Международного Товарищества Рабочих»! Здесь перед нами подлинный бакунист. Эти господа, как истые революционеры, позволяют себе по отношению к нам все, что угодно, в особенности когда это можно сделать исподтишка, но попробуйте говорить о них без высочайшей почтительности, попробуйте вывести на свет их проделки, критиковать их и их пустозвонство, – и вы служите русскому царю и нарушаете основные принципы Интернационала. Дело обстоит как раз наоборот. Услугу русскому правительству оказывает не кто иной, как сам г-н Ткачев. Будь у русской полиции побольше ума, она взялась бы за массовое распространение брошюры этого господина в России. С одной стороны, вряд. ли могла бы она найти лучшее средство дискредитировать русских революционеров, представителем которых выставляет себя автор, в глазах всех разумных людей. А с другой стороны, всегда возможно, что некоторые славные, но неопытные молодые люди позволили бы г-ну Ткачеву увлечь их на путь опрометчивых действий и сами таким образом попались бы в сети.
Г-н Ткачев говорит, что я «обрушился на него со всевозможными ругательствами». Но известный вид ругани, так называемая инвектива, является одним из наиболее выразительных риторических приемов, который применяется в случае надобности всеми великими ораторами и которым сильнейший английский политический писатель, Уильям Коббет, владел с мастерством, вызывающим до сих пор восхищение и служащим недосягаемым образцом. И г-н Ткачев тоже «ругается» в своей брошюре довольно изрядно. Поэтому, если бы я и ругался, то это обстоятельство само по себе отнюдь нельзя было бы поставить мне в вину. Но поскольку я вовсе не впадал в риторику по отношению к г-ну Ткачеву, так как отнюдь не принимал его всерьез, то я никак не мог и ругать его. Посмотрим же, что я сказал о нем.
Я назвал его «зеленым, на редкость незрелым гимназистом». Незрелость может относиться к характеру, уму и знаниям. Что касается незрелости характера, то я пересказал следующим образом рассказ самого г-на Ткачева:
«Русский ученый, пользующийся большой известностью в своей стране, эмигрирует и добывает себе средства, чтобы основать за границей политический журнал. Едва лишь это ему удалось, как без всякого приглашения является первый попавшийся более или менее экзальтированный юнец и предлагает свое сотрудничество, более чем ребячески выставляя условие, чтобы во всех литературных и денежных вопросах ему был предоставлен такой же решающий голос, как и основателю журнала. В Германии его бы просто высмеяли».
Дальнейших доказательств незрелости характера мне после этого приводить незачем. Незрелость ума будет вполне доказана приведенными ниже цитатами из брошюры г-на Ткачева. Что же касается знаний, то спор между журналом «Вперед» и г-ном Ткачевым вращается большей частью вокруг следующего вопроса: редактор журнала «Вперед» требует, чтобы русская революционная молодежь чему-нибудь училась, обогащала себя серьезными и основательными знаниями, выработала способность критически мыслить правильными методами, работала в поте лица своего над саморазвитием и самообразованием. Г-н Ткачев с отвращением отвергает подобные советы:
«Я не могу удержаться, чтобы не выразить снова и снова того чувства глубокого негодования, которое они всегда возбуждали во мне… Учитесь! Приобретайте знания! О боже, неужели это говорит живой человек живым людям. Ждать! Учиться, перевоспитываться! Да имеем ли мы право ждать?»
(подразумевается, с революцией). «Имеем ли мы право тратить время на образование?» (стр. 14). «Знания – необходимое условие мирного прогресса, но они совсем не необходимы для революции» (стр. 17)[446]446
Энгельс цитирует здесь брошюру Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России».
[Закрыть].
Если г-н Ткачев уже при простом призыве к учебе проявляет глубокое негодование, если он объявляет всякие знания излишними для революционера, если к тому же во всем своем сочинении он не обнаруживает ни малейших следов каких-либо знаний, то этим он сам выдает себе свидетельство в незрелости, а я ведь только это и констатировал. Но тот, кто сам выдает себе такое свидетельство, может, по нашим понятиям, стоять самое большее на ступени развития гимназиста. Указав ему эту наивысшую из возможных ступеней, я, стало быть, отнюдь не обругал его, а оказал ему, может быть, даже слишком много чести.
Я сказал далее, что рассуждения г-на Ткачева являются ребяческими (доказательства этому – цитаты в настоящей статье), скучными (этого, вероятно, не будет отрицать сам автор), противоречивыми (как показал ему редактор журнала «Вперед») и вращающимися в порочном кругу (что тоже верно). Затем я говорю о его великих притязаниях (о которых я рассказал с его собственных слов) и абсолютно ничтожных достижениях (как это более чем достаточно показывает данная статья). Где же ругательства? Если я сравнил его с Карлушей Мисником, любимейшим гимназистом Германии и одним из популярнейших немецких писателей, то это ведь никак не ругательство. Впрочем, стоп! Не выразился ли я о нем, что он удалился, как Ахилл, в свою палатку и выпалил оттуда своей брошюрой против журнала «Вперед»? Вот где видимо зарыта собака. От человека, которого приводит в ярость одно уж слово учеба и который смело может избрать себе девизом стихи Гейне:
«И все свое невежество
Он сам приобретал», —
[Гейне. «Кобес I». Ред]
о т такого человека вполне можно ожидать, что имя Ахилл встречается ему здесь впервые. А так как я упоминаю Ахилла в связи с «палаткой» и «выпаливанием», то г-н Ткачев мог вообразить, что этот Ахилл – русский унтер-офицер или турецкий башибузук и что я, следовательно, нарушаю правила приличия, обзывая его Ахиллом. Но я могу заверить г-на Ткачева, что тот Ахилл, о котором я говорю, был величайшим героем греческих сказаний и что его уход в свою палатку послужил сюжетом грандиознейшей героической поэмы всех времен, Илиады; это подтвердит ему даже г-н Бакунин. Если это мое предположение окажется правильным, то я, разумеется, буду вынужден заявить, что г-н Ткачев не является гимназистом. Далее г-н Ткачев говорит:
«Несмотря на все это, я позволил себе, однако, высказать убеждение, что социальную революцию легко можно вызвать… Если так легко ее вызвать, замечаете вы, то почему же вы этого не делаете, а только болтаете об этом? – Вам это представляется смешным, ребяческим поведением… Я и мои единомышленники убеждены, что осуществление социальной революции в России не представляет никаких затруднений, что в любой момент можно поднять русский народ на всеобщий революционный протест» (!). «Это убеждение обязывает нас, правда, к определенной практической деятельности, но оно ни в малейшей степени не противоречит полезности и необходимости литературной пропаганды. Недостаточно того, что мы в этом убеждены; мы хотим, чтобы и другие разделяли с нами это убеждение. Чем больше у нас будет единомышленников, тем сильнее мы себя будем чувствовать, тем легче нам будет разрешить задачу практически»[447]447
P. Tkatschoff. «Offener Brief an Herrn Friedrich Engels». S. 9—10
[Закрыть].
Да ведь это прямо великолепно! Это звучит так мило, так рассудительно, так благонравно, так убедительно. Это звучит совсем так, словно бы г-н Ткачев написал свою брошюру лишь для того, чтобы доказать полезность литературной пропаганды, а я, нетерпеливый желторотый птенец, ответил ему: к черту литературную пропаганду, пора уж поднимать восстание! – Ну, а как же обстоит дело в действительности?
Г-н Ткачев начинает свою брошюру прямо с того, что выносит журнальной пропаганде (а ведь это – наиболее действенный вид литературной пропаганды) вотум недоверия, заявляя, что на нее не следует «тратить слишком много революционных сил», ибо «при нецелесообразном употреблении она приносит несравненно больше вреда, чем та польза, которую она могла бы принести при употреблении целесообразном». Так высоко ценит наш г-н Ткачев литературную пропаганду вообще. Но в частности, когда хочешь заниматься такой пропагандой, когда хочешь вербовать себе единомышленников, – тогда одних декламации мало: приходится заняться обоснованием и, стало быть, подходить к вопросу теоретически, то есть в конечном счете научно. По этому поводу г-н Ткачев заявляет редактору журнала «Вперед»:
«Ваша философская война, та чисто теоретическая, научная пропаганда, которой предается ваш журнал… с точки зрения интересов революционной партии не только не полезна, но даже вредна»[448]448
Здесь и дальше Энгельс цитирует брошюру Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России».
[Закрыть].
Как видите, чем глубже мы исследуем воззрения г-на Ткачева на литературную пропаганду, тем больше заходим в тупик, тем меньше понимаем, чего он хочет. В самом деле, чего он собственно хочет? Послушаем дальше.
«Неужели вы не понимаете, что революционер всегда считает и должен считать себя вправе призывать народ к восстанию; что тем-то он и отличается от философа-филистера, что, не ожидая, пока течение исторических событий само укажет минуту, он выбирает ее сам; что он признает народ всегда готовым к революции (стр. 10)… Кто не верит в возможность революции в настоящем, тот не верит в народ, не верит в его приготовленность к революции (стр. 11)… Вот почему мы не можем ждать, вот почему мы утверждаем, что революция в России настоятельно необходима и необходима именно в настоящее время; мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. Теперь или очень нескоро, быть может, никогда (стр. 16)… Всякий народ, задавленный произволом, измученный эксплуататорами… всякий такой народ (а в таком положении находятся все народы) в силу самих условий своей социальной среды – есть революционеру он всегда может, он всегда хочет сделать революцию; он всегда готов к ней (стр. 17)… Но мы не можем и не хотим ждать (стр. 34)… Теперь не до длинных сборов, не до вечных приготовлений, – пусть каждый наскоро соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь. Вопрос: что делать? нас не должен больше занимать. Он уже давно решен. Делать революцию. – Как? Как кто может и умеет» (стр. 39).
Это показалось мне достаточно ясным. И поэтому я обратился к Карлуше Миснику: уж если иначе никак невозможно, если народ готов к революции и ты – тоже готов, если ты ни за что не хочешь и не можешь дольше ждать, да и не имеешь права ждать, если ты присваиваешь себе право выбрать момент для восстания и если, наконец, вопрос стоит так, что теперь или никогда! – что же, дражайший Карлуша, делай то, от чего ты не можешь отказаться, сделай революцию сегодня же и сокруши российское государство вдребезги, а то как бы ты не натворил, в конце концов, еще больших бед!
И что же делает Карлуша Мисник? Бросается ли он в бой? Уничтожает ли русское государство? Освобождает ли русский народ, «этот несчастный народ, истекающий кровью, с терновым венком, пригвожденный к кресту рабства», – народ, страдания которого не позволяют ему больше ждать?
Он и не думает об этом. Карлуша Мисник, со слезами оскорбленной невинности на лице, обращается к немецким рабочим, заявляя: смотрите, что наговаривает на меня негодяй Энгельс; он пишет, что я говорил о немедленном восстании; но ведь речь идет вовсе не об этом, а о том, чтобы вести литературную пропаганду, а этот Энгельс, который сам только то и делает, что занимается литературной пропагандой, бесстыдно притворяется, будто он не понимает «пользы литературной пропаганды».
Ждать! Заниматься литературной пропагандой! Да имеем ли мы право ждать, имеем ли мы право терять время на литературную пропаганду? Ведь каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв! (стр. 14). Теперь не время для литературной пропаганды, теперь нужно делать революцию – теперь или, может быть, никогда… мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. И мы должны еще заниматься литературной пропагандой! О боже, неужели это говорит живой человек живым людям, и этот человек зовется Петром Ткачевым!
Разве я был неправ, когда назвал эти разглагольствования о немедленном восстании, от которых теперь так постыдно отрекаются, «ребяческими»? Они ребячливы до такой степени, что автор в этом отношении, надо полагать, достиг здесь пределов возможного. И все же он превзошел даже самого себя. Редактор журнала «Вперед» приводит одно место из составленной г-ном Ткачевым прокламации к русским крестьянам. Г-н Ткачев описывает в ней порядки после завершения социальной революции следующим образом:
«И зажил бы мужичок припеваючи, зажил бы жизнью развеселою… не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его была полна. Скотины всякой да птицы домашней у него и счету не было бы. За столом у него мяса всякие, да пироги имянинные, да вина сладкие от зари до зари не снимались бы. И ел бы и пил бы он – сколько в брюхо влезет, а работал бы столько, сколько сам захочет. И никто бы и ни в чем неволить его не смел: хошь – ешь, хошь – на печи лежи…»[449]449
Цитируется по брошюре: П. Л. Лавров. «Русской социально-революционной молодежи». Лондон, 1874, стр.47.
[Закрыть]
И человек, который способен был сочинить подобную прокламацию, еще жалуется, когда я ограничиваюсь тем, что называю его зеленым, на редкость незрелым гимназистом!
Далее г-н Ткачев говорит:
«Почему же вы нам ставите в упрек нашу конспирацию? Отказавшись от конспиративной, тайной, подпольной деятельности, мы должны были бы отказаться тем самым от всякой революционной деятельности вообще. Но вы караете нас также за то, что мы и здесь, в Западной Европе… не хотим отказаться от наших конспиративных привычек и тем самым мешаем… великому международному рабочему движению»[450]450
P. Tkatschoff. «Offener Brief an Herrn Friedrich Engels». S. 7.
[Закрыть].
Во-первых, неверно, что у русских революционеров не остается другого средства, кроме одних заговоров. Ведь сам г-н Ткачев только что подчеркивал важность литературной пропаганды, проникающей с Запада в Россию! Да и внутри страны не может же быть совершенно отрезан путь для устной пропаганды среди народа, особенно в городах, что бы ни говорил об этом в своих интересах г-н Ткачев. Это лучше всего доказывается тем, что во время недавних массовых арестов в России большинство арестованных составляли не образованные люди или студенты, а рабочие.
Во-вторых, я берусь полететь на луну еще до того, как Ткачев освободит Россию, если только он мне докажет, что я где-нибудь и когда-нибудь в моей политической деятельности утверждал, что заговоры недопустимы вообще и при любых условиях. Я берусь привезти ему с луны что-нибудь на память, если только он мне докажет, что в моей статье идет речь о других заговорах, кроме заговора против Интернационала, кроме Альянса. Да, если б только господа русские бакунисты действительно и серьезно конспирировали против русского правительства! Если бы вместо горе-заговоров, основанных на лжи и обмане своих же товарищей, вроде заговора Нечаева, этого, по Ткачеву, «типического представителя нашей современной молодежи», если бы вместо заговоров против европейского рабочего движения, подобно заговору благополучно разоблаченного и тем самым уничтоженного Альянса, они, эти «деятели» (dejateli), как они себя хвастливо называют, совершили бы, наконец, какое-нибудь настоящее дело, которое доказало бы, что у них действительно есть организация и что они занимаются еще чем-нибудь другим, кроме попытки образовать кружок в дюжину человек! Но вместо этого они только кричат на весь мир: мы конспирируем, мы конспирируем! – совсем как оперные заговорщики, которые ревут хором на разные голоса: тише, тише! не шумите! И все это очковтирательство о широко разветвленных заговорах служит только прикрытием, за которым не скрывается ровно ничего, кроме революционного бездействия по отношению к правительствам и тщеславных происков внутри революционной партии.
Этих господ приводит в такую ярость именно то, что в «Заговоре против Интернационала» мы беспощадно разоблачили все это мошенничество [См. настоящий том, стр. 323—452. Ред.]. Это было, мол, «бестактно». Разоблачая г-на Бакунина, мы стремились, мол, «запятнать одного из величайших и самоотверженнейших представителей революционной эпохи, в которую мы живем», и притом запятнать... «грязью». Грязь, которая обнаружилась при этом, была до последнего золотника изделием самого г-на Бакунина, и далеко еще не худшим. В упомянутом сочинении он изображен еще слишком опрятным. Мы только процитировали § 18 Революционного катехизиса, параграф, предписывающий, как нужно вести себя по отношению к русской аристократии и буржуазии, как нужно «овладеть их грязными тайнами и таким способом превратить их в наших рабов, так, чтобы их богатства и. т. д. стали неистощимой сокровищницей и драгоценной поддержкой во всевозможных начинаниях». Мы до сих пор еще не рассказали, как претворялся этот параграф на практике. А об этом есть много что порассказать, и в свое время мы это сделаем.
Таким образом, выясняется, что все упреки, сделанные мне г-ном Ткачевым с тем добродетельным видом оскорбленной невинности, который так к лицу всем бакунистам, – что все эти упреки основаны на утверждениях, относительно которых он не только знал, что они лживы, но которые являются его же собственным гнусным и наглым измышлением. На этом мы и простимся с личной частью его «открытого письма».
V
О СОЦИАЛЬНОМ ВОПРОСЕ В РОССИИ[451]451
Пятая статья Энгельса из серии «Эмигрантская литература», напечатанная в «Volksstaat» №№ 43, 44 и 45, 16, 18 и 21 апреля 1875 г., была выпущена отдельной брошюрой в Лейпциге в 1875 г. под заглавием «Soziales aus Rusland» («О социальном вопросе в России»), К этой брошюре Энгельс написал в мае 1875 г. небольшое введение (см. настоящий том, стр. 566—568).
Первый перевод брошюры Энгельса «Soziales aus Rusland» был сделан В. Засулич: «Фридрих Энгельс о России». Женева, 1894; после этого работа неоднократно переиздавалась в России под различными названиями.
[Закрыть]
Г-н Ткачев мимоходом сообщает немецким рабочим, что у меня относительно России нет ни «малейших сведений», что, наоборот, я проявляю одно лишь «невежество»; он чувствует себя поэтому вынужденным разъяснить им истинное положение дел, а в особенности – те причины, вследствие которых именно теперь социальная революция в России может быть осуществлена легко и шутя, гораздо легче, чем в Западной Европе.
«У нас нет городского пролетариата, это правда; но зато у нас нет и буржуазии… Нашим рабочим предстоит борьба лишь с политической властью: власть капитала у нас еще в зародыше. А вам, милостивый государь, небезызвестно, что борьба с первой гораздо легче, чем борьба с последней»[452]452
Здесь и дальше Энгельс цитирует брошюру Ткачева «Offener Brief an Herrn Friedrich Engels».
[Закрыть].
Переворот, к которому стремится современный социализм, состоит, коротко говоря, в победе пролетариата над буржуазией и в создании новой организации общества путем уничтожения всяких классовых различий. Для этого необходимо наличие не только пролетариата, который совершит этот переворот, но также и буржуазии, в руках которой общественные производительные силы достигают такого развития, когда становится возможным окончательное уничтожение классовых различий. У дикарей и у полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти уже по одному тому, что из этого состояния, с развитием общественных производительных сил, необходимо возникают классовые различия. Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных производительных сил, становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительные силы достигли лишь в руках буржуазии. Следовательно, буржуазия и с этой стороны является таким же необходимым предварительным условием социалистической революции, как и сам пролетариат. Поэтому человек, способный утверждать, что эту революцию легче провести в такой стране, где хотя нет пролетариата, но зато нет и буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке социализма.
Итак, русским рабочим – а эти рабочие, как говорит сам г-н Ткачев, «земледельцы и в качестве таковых не пролетарии, а собственники», – сделать это легче, потому что им предстоит бороться не с властью капитала, а «только с политической властью», с русским государством. А это государство
«только издали кажется силой… Оно не имеет никаких корней в экономической жизни народа, оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия… У вас государство вовсе не мнимая сила. Оно обеими ногами опирается на капитал; оно воплощает в себе» (!) «определенные экономические интересы… У нас в этом отношении дело обстоит как раз наоборот; наша общественная форма обязана своим существованием государству, которое, так сказать, висит в воздухе, не имеет ничего общего с существующим социальным строем и корни которого находятся в прошлом, а не в настоящем».
Не будем останавливаться на путаном представлении, будто экономические интересы нуждаются для своего воплощения в государстве, которое именно они и создают, или на смелом утверждении, будто русская «общественная форма» (к которой принадлежит ведь и общинная собственность крестьян) «обязана своим существованием государству», а также на противоречивом утверждении, что это государство «не имеет ничего общего» с существующим социальным строем, который якобы является его созданием. Присмотримся лучше сразу к этому «висящему в воздухе государству», которое не представляет интересов какого-либо сословия.
В Европейской России крестьяне владеют 105 миллионами десятин земли, дворяне (как я называю здесь для краткости крупных землевладельцев) 100 миллионами десятин, из которых почти половина принадлежит 15000 дворян, имеющих, таким образом, в среднем по 3300 десятин каждый. Крестьянской земли, следовательно, только чуть-чуть больше, чем земли дворянской. Как видите, у дворян нет ни малейшей заинтересованности в том, чтобы существовало русское государство, обеспечивающее им владение половиной страны! Далее. Крестьяне со своей половины платят в год 195 миллионов рублей земельного налога, дворяне—13 миллионов! Дворянские земли в среднем вдвое плодороднее крестьянских, так как при разделе, последовавшем в связи с выкупом барщины, государство отняло у крестьян и передало дворянам не только больше земли, но и лучшую землю, причем крестьяне вынуждены были за свою худшую землю платить дворянству по цене самой лучшей [Исключением явилась только Польша, где правительство хотело разорить враждебное ему дворянство и привлечь на свою сторону крестьян. (Примечание к тексту, опубликованному в газете «Volksstaat»;в изданиях 1875 и 1894 гг. отсутствует.)]. И русское дворянство совсем не заинтересовано в существовании русского государства!
Крестьяне – в массе своей – в результате выкупа оказались в чрезвычайно бедственном, совершенно невыносимом положении. У них не только отняли большую и лучшую часть их земель, так что даже в самых плодородных областях империи крестьянские наделы – по русским земледельческим условиям – оказались слишком малы, чтобы на них можно было прокормиться. С крестьян не только взяли за эту землю непомерно высокую цену, которую авансом за них выплатило государство и которую они вынуждены теперь постепенно выплачивать государству вместе с процентами. На них не только взвалена почти вся тяжесть земельного налога, в то время как дворянство от него почти вовсе освобождено; этот налог один поглощает и даже превосходит всю стоимость ренты с крестьянской земли, так что все остальные платежи, предстоящие крестьянину – о них мы скажем ниже, – составляют уже прямой вычет из той части его дохода, которая представляет собой его заработную плату. Мало того. К земельному налогу, к выкупным платежам и процентам за аванс, выплаченный государством, прибавились еще после введения местного управления губернские и уездные сборы. Существеннейшим следствием этой «реформы» были новые податные тяготы для крестьян. Государство целиком сохранило свои доходы, но значительную часть расходов оно свалило на губернии и уезды, которые ввели для их покрытия новые налоги, а в России является правилом, что высшие сословия почти освобождены от налогов, а крестьянин платит почти все.
Такое положение будто нарочно создано для ростовщика, а в ростовщике там нигде нет недостатка при почти беспримерной способности русских к торговле в ее низших формах, к использованию благоприятных обстоятельств и к неразрывно связанному с этим надувательству: недаром ведь еще Петр I говорил, что один русский справится с тремя евреями. Как только приближается время взыскания податей, является ростовщик, кулак – часто богатый крестьянин той же общины – и предлагает свои наличные деньги. Крестьянину деньги нужны во что бы то ни стало, и он вынужден принимать условия ростовщика беспрекословно. Тем самым он лишь еще глубже попадает в тиски, нуждается в наличных деньгах все больше и больше. К моменту жатвы появляется хлеботорговец; нужда в деньгах заставляет крестьянина сбыть часть зерна, необходимого для пропитания собственной семьи. Торговец хлебом распространяет ложные слухи, снижающие цены, платит низкую цену, да и ту подчас уплачивает частично всяческими товарами по высокой расценке, ибо система оплаты товарами в России очень развита. Большой вывоз русского хлеба основан, таким образом, прямо на голодании крестьянского населения. – Другой способ эксплуатации крестьян заключается в том, что спекулянт арендует у правительства на продолжительный срок участок казенной земли, обрабатывает его сам, пока земля приносит хороший урожай без удобрения; затем он делит этот участок на мелкие клочки и сдает истощенную землю за высокую аренду соседним малоземельным крестьянам. Если выше мы видели английскую систему оплаты товарами, то здесь мы имеем точную копию ирландских middlemen [посредников. Ред.] Словом, нет другой такой страны, в которой при всей первобытной дикости буржуазного общества был бы так развит капиталистический паразитизм, как именно в России, где вся страна, вся народная масса придавлена и опутана его сетями. И все эти кровопийцы, сосущие крестьян, все они нисколько не заинтересованы в существовании русского государства, законы и суды которого охраняют их ловкие и прибыльные делишки!
Крупная буржуазия Петербурга, Москвы, Одессы, развившаяся с неслыханной быстротой за последние десять лет, в особенности благодаря строительству железных дорог, и задетая последним кризисом самым живейшим образом, все эти экспортеры зерна, пеньки, льна и сала, все дела которых целиком строятся на нищете крестьян, вся русская крупная промышленность, существующая только благодаря пожалованным ей государством покровительственным пошлинам, – разве все эти влиятельные и быстро растущие элементы населения не заинтересованы в существовании русского государства? Нечего уж и говорить о бесчисленной армии чиновников, наводняющей и обворовывающей Россию и образующей там настоящее сословие. И когда после этого г-н Ткачев уверяет нас, что русское государство «не имеет никаких корней в экономической жизни народа, не воплощает в себе интересов какого-либо сословия», что оно «висит в воздухе», то нам начинает казаться, что не русское государство, а скорее сам г-н Ткачев висит в воздухе.
Что положение русских крестьян со времени освобождения от крепостной зависимости стало невыносимым, что долго это удержаться не может, что уже по этой причине революция в России приближается, – это ясно. Вопрос лишь в том, каков может быть, каков будет результат этой революции? Г-н Ткачев говорит, что она будет социальной революцией. Это чистая тавтология. Всякая действительная революция есть социальная революция, поскольку она приводит к господству новый класс и дает ему возможность преобразовать общество по своему образу и подобию. Но г-н Ткачев хочет сказать, что революция будет социалистической, что она введет в России, прежде еще чем мы достигнем этого на Западе, ту общественную форму, к которой стремится западноевропейский социализм, – и это при таком состоянии общества, когда и пролетариат и буржуазия встречаются пока еще не повсеместно и находятся на низшей ступени развития! И это возможно, мол, потому, что русские являются, так сказать, избранным народом социализма, обладая артелью и общинной собственностью на землю!
Об артели г-н Ткачев упоминает лишь вскользь, но мы здесь на ней остановимся, так как уже со времени Герцена многие русские приписывают ей таинственную роль. Артель – это широко распространенная в России форма товарищества, простейшая форма свободной ассоциации, подобно той, которая встречается у охотничьих племен во время охоты. И по названию и по существу она не славянского, а татарского происхождения. И то и другое встречается у киргизов, якутов и т. д., с одной стороны, и у саамов, ненцев и других финских народов – с другой [Об артели см., между прочим, «sbornik materialow ob arteljach v rossiji» («Сборник материалов об артелях в России», выпуск 1. С.-Петербург, 1873 г.).]. Поэтому артель в России развивается первоначально не на юго-западе, а на севере и востоке, в местах соприкосновения с финнами и татарами. Суровый климат требует разнородной промышленной деятельности, а недостаточное развитие городов и нехватка капитала возмещается по мере возможности этой формой кооперации. – Один из важнейших отличительных признаков артели, круговая порука ее членов друг за друга перед третьими лицами, покоится первоначально на узах кровного родства, как взаимная порука у древних германцев, кровная месть и тому подобное. – Впрочем, слово артель применяется в России не только ко всякого рода совместной деятельности, но и к общим учреждениям. [Далее следовала фраза: «Биржа – та же артель», опущенная Энгельсом в издании 1894 года. Ред.]
В рабочих артелях всегда избирается староста (starosta, старшина), который выполняет обязанности казначея, счетовода и т. п., по мере надобности – управляющего и получает особое жалованье. Такого рода артели возникают:
1) для временных предприятий, по окончании которых они распадаются;
2) среди лиц, занимающихся каким-нибудь одним промыслом, например, среди носильщиков и т. п.;
3) для постоянных предприятий, промышленных в собственном смысле слова.
Они учреждаются на основе контракта, подписываемого всеми членами. Если же эти члены не могут сами собрать необходимый капитал, как это часто бывает, например в сыроварении и в рыболовстве (для покупки сетей, судов и пр.), то артель попадает в лапы ростовщика, который ссужает за высокие проценты недостающую сумму и с этого момента кладет себе в карман большую часть трудового дохода. Но еще более гнусно эксплуатируются те артели, которые целиком нанимаются к предпринимателю в качестве наемных рабочих. Они сами управляют своей собственной промышленной деятельностью и тем сберегают издержки надзора капиталисту. Последний сдает им лачуги для жилья и предоставляет в кредит пропитание, причем опять развивается самым гнусным образом система оплаты товарами. Так обстоит у лесорубов и смолокуров Архангельской губернии, во многих промыслах в Сибири и других (ср. Flerovsky. «Polozenie rabocago klassa v Rossiji». Флеровский. «Положение рабочего класса в России», С.-Петербург, 1869)[453]453
Книга Флеровского вскоре после ее выхода в свет в 1869 г. была прочитана Марксом. В письме к членам комитета Русской секции Интернационала 24 марта 1870 г. Маркс дал ей высокую оценку (см. настоящее издание, т. 16, стр. 427—428). Несколько позже книга была прочитана Энгельсом.
[Закрыть]. Таким образом, артель является здесь средством, существенно облегчающим капиталисту эксплуатацию наемных рабочих. С другой стороны, однако, есть и такие артели, которые сами имеют наемных рабочих, не состоящих членами данного общества.