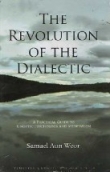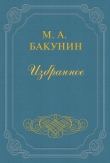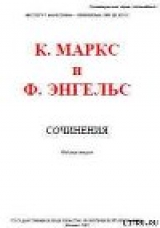
Текст книги "Собрание сочинений, том 18"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 60 страниц)
Итак, артель есть стихийно возникшая и потому еще очень неразвитая форма кооперативного товарищества и как таковая не представляет собой ничего исключительно русского или даже славянского. Подобные товарищества образуются повсюду, где в них есть потребность: в Швейцарии в молочном деле, в Англии в рыболовстве, где они даже очень разнообразны. Силезские землекопы (немцы, отнюдь не поляки), построившие в 40-х годах столько немецких железных дорог, были организованы в настоящие артели. Преобладание этой формы в России доказывает, конечно, наличие в русском народе сильного стремления к ассоциации, но вовсе еще не доказывает, что этот народ способен с помощью этого стремления прямо перескочить из артели в социалистический общественный строй. Для такого перехода нужно было бы прежде всего, чтобы сама артель стала способной к развитию, чтобы она отбросила свою стихийную форму, в которой она, как мы видели, служит больше капиталу, чем рабочим, и поднялась по меньшей мере до уровня западноевропейских кооперативных обществ. Но, если на сей раз поверить г-ну Ткачеву (что после всего предыдущего, правда, более чем рискованно), – до этого еще очень далеко. Напротив, с чрезвычайно характерным для его точки зрения высокомерием, он уверяет нас:
«Что касается кооперативных и кредитных обществ по немецкому» (!) «образцу, которые с недавних пор искусственно насаждаются в России, то они приняты большинством наших рабочих с полнейшим равнодушием и почти везде потерпели фиаско».
Современное кооперативное общество доказало, по крайней мере, свою способность самостоятельно вести с выгодой крупные промышленные предприятия (прядильные и ткацкие в Ланкашире). Артель же до сих пор не только неспособна к этому, но она неизбежно должна погибнуть при столкновении с крупной промышленностью, если не вступит на путь дальнейшего развития.
Общинная собственность русских крестьян была открыта в 1845 г. прусским правительственным советником Гакстгаузеном, и он раструбил о ней на весь мир как о чем-то совершенно изумительном, хотя в своем вестфальском отечестве Гакстгаузен мог бы еще найти не мало ее остатков, а в качестве правительственного чиновника даже обязан был знать о них в точности[454]454
Энгельс имеет в виду книгу Гакстгаузена «Studien uber die innern Zustande, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtugen Ruslands» («Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России»), вышедшую в 3 частях в 1847—1852 гг. в Ганновере и Берлине.
[Закрыть]. Герцен, сам русский помещик, впервые от Гакстгаузена узнал, что его крестьяне владели землей сообща, и воспользовался этим для того, чтобы изобразить русских крестьян как истинных носителей социализма, прирожденных коммунистов в противоположность рабочим стареющего, загнивающего европейского Запада, которым приходится лишь искусственно вымучивать из себя социализм. От Герцена эти сведения перешли к Бакунину, а от Бакунина к г-ну Ткачеву. Послушаем же последнего.
«Наш народ… в своем огромном большинстве… проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции. Идея коллективной собственности так крепко срослась со всем миросозерцанием русского народа» (мы дальше увидим, сколь обширен мир русского крестьянина), «что теперь, когда правительство начинает понимать, что идея эта несовместима с принципами «благоустроенного» общества и во имя этих принципов хочет ввести в народное сознание и народную жизнь идею частной собственности, то оно может достигнуть этого лишь при помощи штыков и кнута. Из этого ясно, что наш народ, несмотря на свое невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя последние и образованнее его».
В действительности общинная собственность на землю представляет собой такой институт, который мы находим на низкой ступени развития у всех индоевропейских народов от Индии до Ирландии и даже у развивающихся под индийским влиянием малайцев, например на Яве. Еще в 1608 г. существование общепризнанной общинной собственности на землю на только что завоеванном севере Ирландии послужило для англичан предлогом объявить землю бесхозяйной и как таковую конфисковать в пользу короны. В Индии до сих пор существует целый ряд форм общинной собственности. В Германии она была общим явлением; встречающиеся кое-где еще и теперь общинные земли являются ее остатками; часто, особенно в горах, встречаются еще ее отчетливые следы: периодические переделы общинной земли и тому подобное. Более точные указания и подробности относительно древнегерманского общинного землевладения можно найти в ряде сочинений Маурера, которые по этому вопросу являются классическими[455]455
Имеются в виду следующие труды Маурера: «Geschichte der Markenverfassung in Deutschland». Eriangen, 1856 («История маркового устройства в Германии». Эрланген, 1856), «Geschichte der Fronhofe, der Bauernhofe und der Hofverfassung in Deutschland». Bd. 1—4, Erlangen, 1862—1863 («История господских дворов, крестьянских дворов и подворного устройства в Германии». Тт. 1—4, Эрланген, 1862—1863), «Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland». Bd. I—II, Erlangen, 1865—1866 («История сельского устройства в Германии». Тт. I– II, Эрланген, 1865—1866).
[Закрыть]. В Западной Европе, включая сюда Польшу и Малороссию, эта общинная собственность превратилась, на известной ступени общественного развития, в оковы, в тормоз сельскохозяйственного производства и была мало-помалу устранена. Напротив, в Великороссии (то есть собственно России) она сохранилась до сих пор, доказывая тем самым, что сельскохозяйственное производство и соответствующие ему сельские общественные отношения находятся здесь еще в очень неразвитом состоянии, как это и есть на самом деле. Русский крестьянин живет и действует только в своей общине; весь остальной мир существует для него лишь постольку, поскольку он вмешивается в дела его общины. Это до такой степени верно, что на русском языке одно и то же слово мир означает, с одной стороны, «вселенную», а с другой – «крестьянскую общину». Ves' mir, весь мир означает на языке крестьянина собрание членов общины. Следовательно, если г-н Ткачев говорит о «миросозерцании» русского крестьянина, то он явно неправильно перевел русское слово мир. Подобная полная изоляция отдельных общин друг от друга, создающая по всей стране, правда, одинаковые, но никоим образом не общие интересы, составляет естественную основу для восточного деспотизма; от Индии до России, везде, где преобладала эта общественная форма, она всегда порождала его, всегда находила в нем свое дополнение. Не только русское государство вообще, но и даже его специфическая форма, царский деспотизм, вовсе не висит в воздухе, а является необходимым и логическим продуктом русских общественных условий, с которыми он, по словам г-на Ткачева, «не имеет ничего общего»! – Дальнейшее развитие России в буржуазном направлении мало-помалу уничтожило бы и здесь общинную собственность без всякого вмешательства «штыков и кнута» русского правительства. И это тем более, что общинную землю крестьяне в России не обрабатывают сообща, с тем чтобы делить только продукты, как это происходит еще в некоторых областях Индии. Напротив, в России земля периодически переделяется между отдельными главами семей, и каждый обрабатывает свой участок для себя. Это создает возможность очень большого неравенства в благосостоянии отдельных членов общины, и это неравенство действительно существует. Почти повсюду среди членов общины бывает несколько богатых крестьян, иногда миллионеров, которые занимаются ростовщичеством и высасывают соки из крестьянской массы. Никто не знает этого лучше г-на Ткачева. Уверяя немецких рабочих в том, что только кнут и штык могут заставить русского крестьянина, этого коммуниста по инстинкту, по традиции, отказаться от «идеи коллективной собственности», он рассказывает в то же время в своей русской брошюре, на стр. 15:
«В среде крестьянства вырабатывается класс ростовщиков (kulakov), покупщиков и съемщиков крестьянских и помещичьих земель – мужицкая аристократия».
Это именно того типа кровопийцы, о которых мы писали выше.
Сильнейший удар общинной собственности нанес опять-таки выкуп барщины. Помещик получил большую и лучшую часть земли; крестьянам осталось едва достаточно, а сплошь да рядом совсем недостаточно для того, чтобы прокормиться. При этом леса отошли к помещикам; дрова, поделочный и строевой лес, которые прежде крестьянин мог брать даром, он вынужден теперь покупать. Таким образом, у крестьянина нет теперь ничего, кроме избы и голого клочка земли, без средств для его обработки; не хватает обычно и земли, чтобы просуществовать с семьей от урожая до урожая. При таких условиях и под гнетом податей и ростовщиков общинная собственность на землю перестает быть благодеянием, она превращается в оковы. Крестьяне часто бегут из общины, с семьями или без семей, бросают свою землю и ищут источник существования в отхожих промыслах [О положении крестьян см., между прочим, официальный отчет правительственной сельскохозяйственной комиссии (1873 г.), далее – Скалдин. «W Zacholusti i w Stolice» («В захолустье и в столице». С.-Петербург, 1870 г.). Эта последняя работа принадлежит перу умеренного консерватора.].
Из всего этого ясно, что общинная собственность в России давно уже пережила время своего расцвета и по всей видимости идет к своему разложению. Тем не менее бесспорно существует возможность перевести эту общественную форму в высшую, если только она сохранится до тех пор, пока созреют условия для этого, и если она окажется способной к развитию в том смысле, что крестьяне станут обрабатывать землю уже не раздельно, а совместно [В Польше, в особенности в Гродненской губернии, где помещики в результате восстания 1863 г. по большей части разорены, крестьяне теперь часто покупают или арендуют помещичьи усадьбы и обрабатывают их совместно и в общую пользу. А эти крестьяне уже венами не имеют никакой общинной собственности и притом это не великороссы, а поляки, литовцы и белорусы.], причем этот переход к высшей форме должен будет осуществиться без того, чтобы русские крестьяне прошли через промежуточную ступень буржуазной парцелльной собственности. Но это может произойти лишь в том случае, если в Западной Европе, еще до окончательного распада этой общинной собственности, совершится победоносная пролетарская революция, которая предоставит русскому крестьянину необходимые условия для такого перехода, – в частности материальные средства, которые потребуются ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей его системе земледелия. Таким образом, г-н Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что русские крестьяне, хотя они и «собственники», стоят «ближе к социализму», чем лишенные собственности рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это именно пролетарская революция в Западной Европе.
Так же легко, как с экономической революцией, разделывается г-н Ткачев и с политической. Русский народ, рассказывает он, «неустанно протестует» против рабства в форме «религиозных сект… отказа от уплаты податей… разбойничьих шаек (немецкие рабочие могут себя поздравить с тем, что Ганс-живодер оказывается отцом германской социал-демократии) поджогов… бунтов… и поэтому русский народ можно назвать революционером по инстинкту». Все это убеждает г-на Ткачева, что «нужно только разбудить одновременно в нескольких местностях накопленное чувство озлобления и недовольства… всегда кипящее в груди нашего народа». Тогда «объединение революционных сил произойдет уже само собой, а борьба… должна будет окончиться благоприятно для дела народа. Практическая необходимость, инстинкт самосохранения» создадут уже сами собой «тесную и неразрывную связь между протестующими общинами».
Более легкой и приятной революции нельзя себе и представить. Стоит только в трех-четырех местах одновременно начать восстание, а там «революционер по инстинкту», «практическая необходимость», «инстинкт самосохранения» сделают все остальное «уже сами собой». Просто понять нельзя, как же это при такой неимоверной легкости революция давно уже не произведена, народ не освобожден и Россия не превращена в образцовую социалистическую страну.
В действительности дело обстоит совсем не так. Русский народ, этот «революционер по инстинкту», устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянства и против отдельных чиновников, но против царя – никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванец и требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом: Bog vysok, Car daljok, до бога высоко, до царя далеко, восклицает он в отчаянии. Что масса крестьянского населения, в особенности со времени выкупа барщины, поставлена в положение, которое все более и более принуждает ее к борьбе с правительством и с царем, – это не подлежит никакому сомнению; но сказки о «революционере по инстинкту» пусть уж г-н Ткачев рассказывает кому-нибудь другому.
А кроме того, если бы даже масса русских крестьян была как нельзя более революционна по инстинкту; если бы даже мы представили себе, что революции можно делать по заказу, как кусок узорчатого ситца или самовар, – даже тогда позвольте спросить: подобает ли человеку, вышедшему уже из двенадцатилетнего возраста, иметь такое сверхребяческое представление о ходе революции, какое мы здесь видим? И подумать только, что это написано уже после блистательного провала в Испании в 1873 г. первой изготовленной по этому бакунистскому образцу революции. Там тоже восстание начали сразу в нескольких местах. Там тоже рассчитывали на то, что практическая необходимость, инстинкт самосохранения уж сами собой установят крепкую и неразрывную связь между протестующими общинами. И что же получилось? Каждая община, каждый город защищали только самих себя, о взаимной поддержке не было и речи, и Павиа, имея в своем распоряжении только 3000 солдат, в две недели покорил один город за другим и положил конец всему этому анархистскому величию (см. мою статью «Бакунисты за работой» [См. настоящий том, стр. 457—474. Ред.], где это описано подробно).
Россия, несомненно, находится накануне революции. Финансы расстроены до последней степени. Налоговый пресс отказывается служить, проценты по старым государственным долгам уплачиваются путем новых займов, а каждый новый заем встречает все больше затруднений; только под предлогом постройки железных дорог удается еще доставать деньги! Администрация давно развращена до мозга костей; чиновники живут больше воровством, взятками и вымогательством, чем своим жалованьем. Все сельскохозяйственное производство – наиболее важное в России – приведено в полный беспорядок выкупом 1861 года; крупному землевладению не хватает рабочей силы, крестьянам не хватает земли, они придавлены налогами, обобраны ростовщиками; сельскохозяйственная продукция из года в год сокращается. Все это в целом сдерживается с большим трудом и лишь внешним образом посредством такого азиатского деспотизма, о произволе которого мы на Западе даже не можем составить себе никакого представления, деспотизма, который не только с каждым днем вступает во все более вопиющее противоречие со взглядами просвещенных классов, в особенности со взглядами быстро растущей столичной буржуазии, но который в лице нынешнего своего носителя сам запутался, сегодня делая уступки либерализму, чтобы завтра с перепугу взять их обратно, и таким образом сам все более и более подрывает всякое к себе доверие. При этом среди концентрирующихся в столице более просвещенных слоев нации укрепляется сознание, что такое положение невыносимо, что близок переворот, но в то же время возникает и иллюзия, будто этот переворот можно направить в спокойное конституционное русло. Здесь сочетаются все условия революции; эту революцию начнут высшие классы столицы, может быть даже само правительство, но крестьяне развернут ее дальше и быстро выведут за пределы первого конституционного фазиса; эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции. Революция эта несомненно приближается. Только два события могли бы надолго отсрочить ее: удачная война против Турции или Австрии, для чего нужны деньги и надежные союзники, либо же… преждевременная попытка восстания, которая снова загонит имущие классы в объятия правительства.
К. МАРКС
ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «РАЗОБЛАЧЕНИЙ О КЁЛЬНСКОМ ПРОЦЕССЕ КОММУНИСТОВ»[456]456
«Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов»– боевой памфлет, в котором К. Маркс заклеймил подлые методы, применявшиеся прусским полицейским государством в борьбе против коммунистического и рабочего движения, был написан в конце октября – начале ноября 1852 года (см. настоящее издание, т. 8, стр. 423—491). Первое издание вышло в свет в январе 1853 г. в Базеле (Швейцария), но почти весь тираж (2000 экземпляров) был конфискован полицией при попытке переправить его в Германию. В Америке работа первоначально печаталась по частям в демократической бостонской газете «Neue-England Zeitung» («Газета Новой Англии»), а в конце апреля 1853 г. вышла отдельной брошюрой в издательстве этой газеты. Это американское издание также не смогло получить распространения в Германии. В 1874 г. «Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов» были полностью перепечатаны в тринадцати номерах газеты «Volksstaat» с 28 октября по 18 декабря. В отличие от изданий 1853 г., вышедших анонимно, теперь было указано авторство Маркса. Подготавливая одновременно и отдельное издание, Либкнехт обратился к Марксу 29 октября 1874 г. с просьбой написать к нему предисловие. 8 января 1875 г. Маркс написал данное «Послесловие», которое было сначала опубликовано в «Volksstaat» № 10, 27 января 1875 г., а затем вошло во второе издание работы: К. Marx. «Enthullungen uber den Kommunisten-Prozess zu Koln». Leipzig, 1875.
[Закрыть]
«Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов», которые «Volksstaat» счел своевременным переиздать, первоначально вышли в Бостоне-Массачусетсе и в Базеле. Большая часть последнего издания была конфискована на немецкой границе. Брошюра появилась через несколько недель после окончания процесса. Тогда важнее всего было не терять времени, и поэтому некоторые ошибки в отдельных деталях были неизбежны. Так, например, были неточности в именах кёльнских присяжных. Так, по-видимому, автором красного катехизиса является не М. Гесс, а некий Леви[457]457
Как выяснилось впоследствии, Маркс был в данном случае введен в заблуждение. Документы, не известные в свое время Марксу, в частности письмо самого Гесса И. Вейдемейеру от 21 июля 1850 г., подтверждают, что автором «Красного катехизиса» был М. Гесс.
[Закрыть]. Так, В. Гирш утверждает в своей «Оправдательной записке»[458]458
О статье Гирша см. работы Маркса «Добровольные признания Гирша» и «Господин Фогт» (см. настоящее издание, т. 9, стр. 40—43 и т. 14, стр. 669 и др.).
[Закрыть], что бегство Шерваля из парижской тюрьмы было результатом тайного соглашения между Грейфом, французской полицией и самим Шервалем, чтобы использовать последнего во время судебного процесса как шпиона в Лондоне. Это вполне вероятно, ибо произведенная в Пруссии подделка векселя и вытекающая отсюда опасность быть выданным прусским властям должны были усмирить этого Кремера [Игра слов: «kramer» означает также «торгаш». Ред.] (такова действительная фамилия Шерваля). Мое изложение дела основано на «признаниях» самого Шерваля одному из моих друзей. Показание Гирша бросает еще более яркий свет на лжесвидетельство Штибера, на тайные интриги прусского посольства в Лондоне и в Париже, на бесстыдные посягательства Хинкельдея.
Когда «Volksstaat» начал на своих столбцах перепечатку этого памфлета, я на мгновение поколебался: не лучше ли опустить раздел VI (фракция Виллиха – Шаппера). Однако, при ближайшем рассмотрении, всякое искажение текста показалось мне фальсификацией исторического документа.
Насильственное подавление революции оставляет в головах ее участников, в особенности выброшенных с отечественной арены в изгнание, такое потрясение, которое даже сильных людей делает на более или менее продолжительное время, так сказать, невменяемыми. Они не могут разобраться в ходе истории, не хотят понять, что форма движения изменилась. Отсюда игра в тайные заговоры и революции, одинаково компрометирующая как их самих, так и то дело, которому они служат; отсюда и промахи Шаппера и Виллиха. Виллих доказал в североамериканской гражданской войне, что он нечто большее, чем просто фантазер, а Шаппер, всю жизнь являвшийся передовым борцом рабочего движения, понял и признал вскоре после окончания кёльнского процесса свое минутное заблуждение. Спустя много лет, лежа на смертном одре, за день до смерти он говорил мне с едкой иронией об этом времени «эмигрантского сумасбродства». – С другой стороны, обстоятельства, при которых были написаны «Разоблачения», объясняют резкость нападок на невольных пособников общего врага. В моменты кризиса опрометчивость становится преступлением против партии, требующим публичного искупления.
«От исхода этого процесса зависит вся судьба политической полиции!» Этими словами, которые Хинкельдей во время кёльнского судебного процесса писал посольству в Лондоне (см. мою книгу «Господин Фогт», стр. 27[459]459
См. настоящее издание, т. 14, стр. 439.
[Закрыть]), он выдал тайну процесса коммунистов. «Вся судьба политической полиции» – это означает не только существование и деятельность того персонала, которому непосредственно доверено это занятие. Это означает подчинение этому учреждению всей правительственной машины, включая суд (см. прусский дисциплинарный закон для судебных чиновников от 7 мая 1851 г.) и прессу (см. рептильный фонд), подобно тому как в Венеции вся государственная организация была подчинена государственной инквизиции. Политическая полиция, парализованная во время революционной бури в Пруссии, нуждалась в преобразовании, образцом для которого была и остается Вторая империя во Франции.
После крушения революции 1848 г. немецкое рабочее движение продолжало существовать лишь в форме теоретической пропаганды, к тому же ограниченной очень небольшим кругом, относительно практической безвредности которой прусское правительство ни минуты не заблуждалось. Травля коммунистов имела для него значение только как пролог к реакционному крестовому походу против либеральной буржуазии, а буржуазия, осудив представителей рабочих и оправдав Хинкельдея – Штибера, сама отточила главное оружие этой реакции, политическую полицию. Так Штибер заслужил свои рыцарские шпоры перед кёльнским судом присяжных. Тогда Штибер – было имя мелкого полицейского чиновника, бешено гнавшегося за повышением оклада и чина; теперь Штибер означает неограниченное господство политической полиции в новой священной прусско-германской империи. Он превратился некоторым образом в морально-юридическую фигуру, морально-юридическую в том переносном смысле, в каком, например, рейхстаг является морально-юридической категорией. На этот раз политическая полиция бьет в рабочего не для того, чтобы попасть в буржуа. Наоборот, именно как диктатор немецко-либеральной буржуазии Бисмарк мнит себя достаточно сильным, чтобы сжить со свету [Игра слов; stieber – фамилия, stiebern – выслеживать, разгонять, выживать, сживать со свету. Ред.] рабочую партию. Поэтому рост величия Штибера является для германского пролетариата мерилом успехов, достигнутых им в рабочем движении со времени кёльнского процесса коммунистов.
Непогрешимость папы – детская игрушка по сравнению с непогрешимостью политической полиции. После того как в Пруссии в течение целых десятилетий она заключала в темницы юные пылкие головы за мечты о германском единстве, германском государстве, германской империи, – ныне она бросает в тюрьмы даже старые плешивые головы, которые отказываются мечтать об этих божьих дарах. Ныне она так же тщетно старается искоренить врагов империи, как тогда друзей империи. Какое убедительное доказательство того, что она не призвана делать историю, хотя бы это была лишь история спора о бороде императора!
Кёльнский процесс коммунистов сам по себе изобличает бессилие государственной власти в ее борьбе против общественного развития. Королевский прусский государственный прокурор обосновывал виновность обвиняемых в конце концов тем, что они тайно распространяли опасные для государства принципы «Коммунистического манифеста». А разве, несмотря на это, те же принципы через двадцать лет не возвещаются в Германии открыто на улицах? Разве не раздаются они даже с трибуны рейхстага? Разве не обошли они весь свет в виде программы Международного Товарищества Рабочих, наперекор всем правительственным запретам? Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращаться вокруг солнца труда.
В «Разоблачениях» говорится в заключение: «Йена… вот последнее слово для правительства, которое нуждается в таких средствах для существования, и для общества, которое нуждается в таком правительстве для защиты. Таково последнее слово процесса коммунистов —Йена!»[460]460
См. настоящее издание, т. 8, стр. 491.
[Закрыть]
Вот так удачное предсказание, хихикнет какой-нибудь Трейчке, гордо указав на недавние успехи прусского оружия и на маузеровское ружье. Достаточно будет напомнить, что бывает не только внутренний Дюппель[461]461
Дюппель (датское название: Дюббёль) – датское укрепление в Шлезвиге, взятое штурмом 18 апреля 1864 г. прусскими войсками во время войны Пруссии и Австрии против Дании.
Выражение «внутренний Дюппель» («Dьppel im Innern»), употребленное для обозначения «внутреннего врага» в политическом обзоре бисмарковского органа «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» («Северогерманской всеобщей газеты») от 30 сентября 1864 г., получило затем широкое распространение.
[Закрыть], но и внутренняя Йена.
Карл Маркс
Лондон, 8 января 1875 г.
Напечатано в газете «Der Volksstaat» № 10, 27января 1875 г., а такжв и книге: Karl Marx, «Enthьllungen uber den Kommunistenprozess zu Koln». Leipzig, 1875
Печатается по тексту газеты, сверенному со вторым изданием книги
Перевод с немецкого