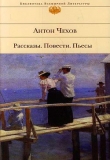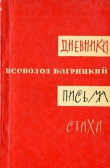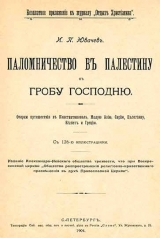
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
– Иоанн Предтеча, – говорил он, – заметил про себя, что он недостоин развязать ремень обуви Его; следовательно Христос носил обувь. А если так, то отчего не допустить у Него и обычного на Востоке головного убора в защиту от жгучего солнца?
Другие возражали ему, но слабо, указывая на запрещение (Лк. 10) брать с собою обувь. Мне казалось, что спорить об одежде не зачем. Кумбаз арабов это тот же хитон греков. Положим, у Христа он имел ту особенность, что был не сшитый, а весь тканый но всё-таки стягивался поясом, о котором упоминается в евангелии (Лк. XII). Также и греческая хламида вполне соответствует современному плащу, бурнусу, иди «аба», как называют арабы. У Христа абу разодрали на четыре части. И в самом деле арабский плащ легко длится на четыре равные части, стоить лишь отделить пришитые две полки, а остальное разодрать пополам сверху до низу. Что же касается запрещения брать обувь, то, вероятно, это сказано о второй запасной паре, потому что одновременно говорится не брать двух одежд (Мт. X, 10).
– Пойдёмте-ка дальше! – перебила наш спор матушка. – А об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут. Если же траву полевую Бог так одевает, то тем боле нас оденет… Пойдёмте!
В самом деле, день склонялся к вечеру, и надо было поспешить к подъёму Назаретской горы. Я по-прежнему сидел в тарантасе с отцом диаконом и слушал его медленный, нескончаемый рассказ о его родном городе. Он нагружен был множеством мешочков, футляров, узелков, кошельков, и всё это поочерёдно выпадало на дорогу. То и дело приходилось подбирать ему-то очки, то платок. Наконец, я не выдержал и, собрав всю мелочь, передал её жене диакона.
Поздно вечером мы прибыли в священный город Назарет и остановились в русском доме.
Не успели немного отдохнуть с дороги и закусить, как наступила ночь, тёмная, тихая, настоящая палестинская ночь. Я вышел на крышу дома, но чёрный бархатный покров уже окутал город. Оставалось любоваться только светлыми звёздами на небе.
Одна из учительниц здешней школы, увидев меня на крыше без шляпы, предупредительно заметила мне, что в Палестине, хотя и тепло в марте месяце, но без шляпы нельзя стоять ночью под открытым небом.
Действительно, разность дневной и ночной температуры здесь очень большая. И это надо постоянно внушать нашим паломникам простолюдинам, путешествующим в Палестине налегке, в одном пиджаке. Потом, когда мне случилось пройти с ними в одном караване через Самарию, я имел возможность убедиться, как много больных среди них от простуды. Разгорячённые, вспотевшие, истомлённые от жары, на привале обыкновенно они ложились на землю под открытым небом. И чаще всего простуживали животы.
Я послушался совета учительницы и, простившись с любезною хозяйкою, присоединился к своей компании паломников, которые уже располагались на ночлег в общей комнате в нижнем этаже дома.
На другой день утром мы поспешили к обедне в православную церковь Благовещения.
Наружный вид её очень скромный и мало отличается от обыкновенных домов Палестины. И только небольшая башенка над входом служила до некоторой степени отличительным признаком церкви, когда мне случалось потом искать её без проводника. Креста над храмом не красовалось. Внутренность, по обычаю восточных церквей, была украшена висячими лампадами. У обоих клиросов стояли стасидии для духовенства, певчих и почётных граждан города. Иконостас резной, довольно хорошей работы, но в запущенном виде и с значительными поломками. Например, лампады перед образами подвешены к резным изображениям голубей, но все эти голуби без крыла или без хвоста.
Как видно, и здесь, как в иерусалимском храме ремонта не полагается. Даже резной крест на иконостасе не поправлен, хотя его было бы легко починить. Иконы отстают от рам. На всём лежат густые слои пыли. Вообще всюду заметная грязь. Порядки и обычаи в арабском храме, тоже странные для русского глаза. Одних видишь в красных фесках, других – в бедуинских головных уборах (платок, обтянутый шерстяным жгутом). Во время службы идут громкие переговоры, особенно между арабками. Греческие монахи свободно проходят в алтарь через царские двери. Если они закрыты завесой, то монахи, чтобы пройти через них, не стесняются приподнять её. Иногда из-за завесы показывалась голова монаха; скажет он что-нибудь вслух певчим на клиросе и опять скроется. Царские двери закрывает и отворяет церковный слуга, который ставит свечи. И всё это делается даже в присутствии самого назаретского владыки.
С северной стороны храма маленький спуск ведёт в пещеру с колодцем, где и было радостное и спасительное благовествование архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии. Над колодцем устроен престол Благовещения.
Несмотря на непристойную для русского храма грязь и распущенность, общее впечатление наше всё-таки было благоприятное. Что тут этому помогало? Вероятно, и сознание святости места, и постоянно встречающиеся картины детского увлечения горячо верующих арабов. Пение у них для русского уха непривлекательное, тем не мене, оно производит сильное впечатление своею страстностью и воодушевлением.
Обедню служили на двух языках: греческом и арабском, потому что господа церкви в иерусалимском патриархате исключительно греки. В Антиохийском патриархате арабы сильно борются против господства греков и в этом направлении уже сделали довольно много: например, недавно добились того, что патриархом назначили природного араба. Но в Палестине, как я говорил уже, греческое иго над православною церковью ещё лежит тяжёлым ярмом, снять которое, вероятно, удастся не скоро.
Надо видеть, с какою радостью, с каким энтузиазмом поют на своём клиросе арабы, когда придёт их очередь отвечать на ектению или пропеть какую-либо песнь из литургийной службы. Но нет худа без добра! Может быть, это соревнование, эта рознь двух племён поддерживает внутреннюю силу их веры и религиозного воодушевления. В этом смысле апостол Павел говорит в своём послании к римлянам (X, 19; XI, 11), как язычники возбуждали ревность в Израиле, а Израиль – в язычниках.
Из греческого храма в небольшой компании я прошёл в католический храм Благовещения. Нас встретил высокий францисканский монах и очень любезно объяснил нам на французском языке значение нескольких приделов в храме. Все престолы украшены живыми цветами. В главном красуется изваяние св. Девы Марии. То место, где стояла Матерь Божия во время архангельского благовестя обозначено надписью: Hic verbum caro factum est (т. е. здесь Слово плоть бысть. Иоан. I, 14). На левой стороне от входа висит толстая каменная колонна. Низ колонны, отломан. Она возбуждает в народе большое удивление и считается им одним из главных чудес Назарета. Полагают, что на месте этой колонны стоял святой благовестник – архангел Гавриил. Кроме престолов во имя св. Иоакима и Анны, родителей Божией Матери, и архангела Гавриила, в соседней пещере имеется придел, где праведный Иосиф учил отрока Иисуса. На стене сделана надпись золотыми буквами: Hic erat subditus illis (т. е. здесь был в повиновении у них. Лук. 2, 51). Есть ещё пещера, которую называют кухней Матери Божией.
Здесь, у католиков, всё было безукоризненно чисто и в порядке. Мирная тишина, скромный любезный францисканец и… в то же время – пустота, безлюдье.
– Скажите, – обращаюсь я к католическому монаху, – где собственно было Благовещение? Вы говорите, что оно происходило здесь, в этом храме, а греки нам только что показывали колодец, у которого явился архангел Гавриил Пресвятой Деве.
– Не надо верить ни нам, ни грекам, – наставительно произнёс францисканец, – а верьте святому Евангелию, где сказано: et ingressus Angelus ad Eam dixit (и вшед к Ней Ангел рече. Лк. I, 28). Заметьте, евангелист сказал к Ней, т. е. в её дом, а не к городскому колодцу. Не желаете ли взглянуть, – сразу перевёл он разговор на другой предмет, – на большой камень, на котором Иисус Христос обедал со своими учениками?
Мы с благодарностью согласились, и он нас повёл в капеллу, недалеко от латинского монастыря. Здесь посреди неё возвышался большой светло-серый камень, известный у паломников под названием «Трапезы Христовой».
Обозревая Назарет, заодно мы осмотрели и гору Низвержения с небольшою православною церковью на вершине, построенною на средства пензенской помещицы М. М. Киселёвой. Католики и тут расходятся с греками: они указывают на другую вершину, как на гору Свержения. Та и другая, впрочем, высятся рядом над Ездрилонскою долиною, куда хотели евреи свергнуть Иисуса Христа после Его обличительной проповеди в синагоге.
Спустившись с Тарпейской скалы назаретских жителей, мы отправились обедать. По дороге показали нам место той еврейской синагоги, где Христос сказал своим соотечественникам, что никакой пророк не принимается в своём отечестве. Теперь здесь выстроена двухэтажная церковь маронитов.
ГЛАВА 19: Фавор.
Поездка на Фавор. – Выбор осла. – Проделки арабских проводников. – Встреча с русскими паломниками. – Рассказ о Преображении Господнем. – Поворотный пункт в ходе евангельских событий. – Ермон, как гора Преображения. – Схема шествия Христа. – В греческом монастыре. – Военное значение Фавора. – Обзор вершины горы.
Вечером мы стали собираться на гору Фавор и на Тивериадское озеро. Компания наша разделилась. Одни, отягощённые тучным телом, боялись тронуться в тяжёлый путь, где нельзя пользоваться тарантасом, другие, в видах экономии, отправились заранее пешком, третьи, к которым принадлежали я, мой товарищ в бедуинском костюм и купец-старообрядец, решили ехать на ослах. Для того, чтобы не связывать друг друга в дороге, я предложил своим спутникам каждому взять себе отдельного проводника и для скорости тоже на осле.
Узнав о нашем желании, арабы привели множество ослов к русскому дому. Все они были очень мелки, сильно потёрты по бокам, с кровавыми подтёками от уколов на шее. Я выбирал себе осла пободрее с виду, да хоть немного с сносной сбруей из верёвок. Арабы кругом меня кричат, что-то толкуют непонятное. Наконец, в первый раз в жизни я взобрался с камня на белого осла и не успел ещё оправиться в седле, как он сразу рванулся в сторону и бросился бежать со всех ног. Я едва удержался на нём. Арабы сзади бегут и кричат: «хорош! хорош!..» Оказывается, они нарочно кольнули осла, шилом сзади, чтобы он проявил такую прыть.
Наша кавалькада выехала часа в три пополудни, с расчётом к вечеру быть на Фаворе и там переночевать до утра. Лишь только миновали город, как один из погонщиков тихонько отстал и исчез. Я остановился и стал говорить другому провожатому; что мы не поедем без двух проводников-мукари, а потому пусть он вернёт скорей своего товарища. Нас предупреждали, что за арабами проводниками надо следить внимательно и не спускать им на первых порах ни малейшего проступка, иначе они будут обманывать потом на каждом шагу.
Мы настояли на своём, и проводник вернулся в город за своим товарищем.
Дорога спускалась между зеленеющими холмами всё ниже и ниже в Ездрилонскую долину. Сравнить нельзя с каменистою Иудеей! Здесь очертания гор боле округлы, и долины более широки, а главное кругом всё покрыто цветущею травою и разнообразными деревьями и кустарниками.
Вскоре мы нагнали своих знакомцев – пеших паломников, вышедших из Назарета часом раньше. Мы уступили женщинам своих ослов, а сами пошли за ними пешком. Я был рад поразмять свои ноги после неудобного сидения в седле с высоко поднятыми стременами; да и вообще я предпочитаю идти пешком, – в этом куда больше удовольствия и свободы в пути! Можешь остановиться над камнем, цветком, жучком, взять в руку, рассмотреть, спрятать на память.
Наши мукари были молодые ребята, не старше двадцати лет, и родственники между собою. Они немного знали русских слов, научившись от приезжающих паломников в Назарет. Всех мужчин они звали «Иваном», а всех женщин «Марией».
– Иван, Иван! – часто останавливали меня, подметив моё любопытствующее внимание к здешней природе и подносили бабочек и жучков. А то укажут какую-нибудь гору или деревню и назовут её по-арабски.
Сами мы знали не более десятка арабских фраз, необходимых при встрече с туземцами в Палестине, так что каких-нибудь обстоятельных разговоров со своими мукари не могли вести.
С Ездрилонской долины Фавор весь перед нами. Он представляет из себя совершенно изолированную гору правильного округлого очертания. Я заранее предвкушал удовольствие увидеть с её вершины всю Галилею.
Наш «бедуин» предложил в долине, в виду красивой горы Преображения Господня, сесть на траву и отдохнуть немного. Но умысел другой тут был. Ему, очевидно, хотелось высказать своё мнение об этой горе, потому что сейчас же разразился, заранее приготовленною речью, которую я нахожу нужным привести целиком. В самом деле, где и вспомнить Христа и Его Евангелие, как не здесь, между Назаретом и Фавором? Он говорил:
– Обратите, господа, внимание, что самый факт Преображения был тайною для апостолов, кроме трёх, – Петра, Иакова, и Иоанна, – которым Господь запретил рассказывать до поры до времени. Да и рассказывая об этом впоследствии, они как бы скрывают, на какой горе происходило Преображение. Были ли они в это время «в теле или вне тела»? Неизвестно. Мы знаем только, что эта гора была высокая и святая. Палестинское предание указывает на Фавор, имея в виду стих известного псалма: «Фавор и Ермон об имени твоём радуются». Но мне кажется, что этот стих даёт такое же основание утверждать, что Преображение было на горе Ермон.
– Как! – все встрепенулись: – вы хотите отвергнуть установившееся с древнейших времён предание?
– Ничего я, господа, не отвергаю, – продолжал «бедуин»: – но мне хочется сделать вывод, непосредственно вытекающий из Евангелия. Мы видим, что Христос проповедует и делает чудеса в Галилее; но, ни слова не говорит, по крайней мере, явно, о своей искупительной миссии, о своей крестной смерти. Наконец, Он достигает со своими учениками крайних пределов Палестины, так сказать, вершины её, где когда-то расположилось самое северное колено Израилево – Даново. И вот здесь-то, в Кесарии Филипповой, у подножия горы Ермон, он спрашивает своих учеников, за кого почитают его люди. Они сказали: за одного из пророков, за Иеремию, Илию или за Иоанна Крестителя. «А вы, – говорит им Христос, – за кого Меня почитаете?» Тогда Пётр признал его Христом, Сыном Бога Живого. Это очень важный момент, потому что в этом признании половина миссии Христа окончилась. Апостолы, так сказать, выдержали свой экзамен, их учение в первой половине, кончается. Здесь поворотный пункт Христа, отсюда Он идёт на юг, к Иерусалиму, где и заканчивает свою миссию крестною смертью и воскресением. В этом поворотном пункте, в Кесарии Филипповой, он впервые прямо, без обиняков и прикровения, говорит ученикам о своём страдании и смерти. Как говорит евангелист Матфей: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим и т. д.» И вот тут-то, в северных пределах Палестины, по прошествии шести-восьми дней, Христос преобразился на святой высокой горе пред своими избранниками, то есть подтвердил им своё Божественное происхождение, и они услышали свидетельство Самого Бога Отца. Как естественно допустить, что это происходило именно на Ермоне, на высочайшей горе в Палестине, сверкающей своею чистою снежною вершиною. Ведь город Кесария Филиппова лежит при подошве этой прекрасной горы, не один раз воспетой царём-пророком Давидом.
«Бедуин» прервал свою речь и оглянул своих слушателей, но теперь ему никто не возражал.
– Итак, господа, – снова заговорил он: – вот схема Христова шествия: оно начинается в Вифлееме, направляется с юга на север до Ермона, здесь опять поворачивает на юг и заканчивается в Иерусалиме. Рождение, Преображение и Воскресение – это главные моменты в жизни Христа.
Мне понравилась его речь, но как жалко, что сказал он её в виду Фавора. Для меня эта гора до некоторой степени уже потеряла своё высокое значение.
Когда мы снова двинулись в путь, одна женщина, взлезая на осла, сказала вслух, как бы про себя:
– Вот ещё что выдумал: Ермон! Уж сказал бы, что Господь преобразился на небесной горе, – это куда понятнее!
Дорога с подошвы горы на вершину шла зигзагами. Как видно, монахи поработали над нею, потому что, несмотря на крутой подъём, она была легко доступна для ослов. Пешие же, для сокращения пути, пробирались прямо на верх, пересекая зигзаги шоссейной дороги. Деревья и кусты, за которые цеплялись мы руками, постоянно останавливали наше внимание своею новизною для нас, но мне более всего нравились полевые цветы, густо разбросанные по всему склону.
Наконец, мы и на вершине в греческом монастыре. Монах указал нам небольшие комнаты, обставленные всем необходимым для ночлега паломников. К нашему ужину грек принёс бутылку мутного вина из здешних виноградников. Его нельзя было назвать ни красным, ни белым, что-то среднее по цвету. Нам казалось, вино плохо перебродило. Вообще в Палестине редко можно достать хорошего вина у туземцев. Только в европейских колониях ещё можно купить хорошего и недорогого.
После ужина монах повёл нас на плоскую крышу здания при церкви. Отсюда открывался восхитительный вид на Галилею. Под нами глубоко западает Ездрилонская долина. Она уходит на запад, где и тает в неясной дали у подножья Кармила. С другой стороны между гор лежит длинным синим овалом Тивериадское озеро. Над ним сверкает высокий снежный Ермон.
В старину Фавор имел большое военное значение. Во времена владычества римлян здесь была крепость. А сколько битв усматривалось с вершины этой Горы в продолжение сорока веков! Тот, который провозгласил своим солдатам в Египте: «сорок веков смотрят с вершин этих пирамид!» тот самый воевал и здесь в Ездрилонской долине под Фавором, расставив против сирийцев свои щетинистыя карре. Но раньше Наполеона, около трёх тысяч лет до него, тут происходила знаменитая битва Израиля, когда, по выражению пророчицы Деворы, «с неба сражались, звёзды с путей своих сражались с Сисарою», с военачальником ханаанского войска, в котором участвовали девятьсот железных колесниц.
Вообще древние смотрели на изолированные горы, как на естественные крепости, среди которых Фавор считалась первоклассною.
Наступившая ночь и ощутительная прохлада согнали нас с крыши, и мы вскоре залегли спать.
Чуть только занялась заря, как мои спутники один за другим стали подыматься: нам предстоял немалый путь к Тивериадскому озеру. Пока погонщики приготавливали ослов, мы успели обойти вершину горы, но не заходили в католический монастырь. Вся вершина усеяна остатками древних сооружений, видны следы и христианской церкви.
Получив в благословение от греческого монаха литографированные образки Преображения Господня, мы отправились в путь по направленно к Тивериаде.
ГЛАВА 20: Галилейское море.
От Фавора до Тивериады. – Кочевые бедуины. – Мрачный вид становища. – Библейское значение суши и воды. – Тивериадское озеро – колыбель христианства. – Греческий монастырь. – Рыбацкая лодка. – Разъезды Христа по озеру. – Храм нерукотворённый. – Чтение Евангелия. – Галилейские рыбаки. – Соединение церквей.
От Фавора до Тивериады около двадцати вёрст. Дорога пробирается на северо-восток между галилейскими горами. Вчера здесь прошёл большой караван паломников, и мы решили нагнать его на берегу Тивериадского озера, чтобы дальнейший путь в Кану и в Назарет сделать в толпе русских богомольцев.
Часто попадались, нам хлебные поля, почти готовые к жатве. И это в двадцатых числах марта! Встречных было очень мало. Когда сталкивались с туземным крестьянином феллахом, мы спешили приветствовать его заученным «мархаба!» – здравствуйте! Селений по пути немного. Местами натыкались на бедуинския становища.
Если я мечтал прийти от чего в восторг, так это от палаток кочевых арабов. С раннего детства, по ярким раскрашенным картинкам библейской истории, у меня составилось светлое представление о кочевой жизни Авраама, Исаака и Иакова. Зелёные пастбища, лазурное небо, яркое солнце, разнообразный мелкий и крупный скот, гостеприимные шатры, весёлые ребятишки, наконец, сами кочевники, ласковые, сердечно зазывающие в гости всякого путника. На них яркие пёстрые одежды, величественная поступь, величавые речи… На самом деле далеко не так! На голом грунте стоят чёрные длинные палатки, с покрышкою в два-три перелома. Чем-то суровым веет от тёмных дырявых войлоков. Скота поблизости не видно. Дети держатся издали и смотрят исподлобья. Взрослые закутаны в одежды тёмного цвета. Что-то мрачное, угрюмое казалось мне в картине становища бедуинов. И это, может быть, только потому, что нас разделяет религиозная рознь.
Вероятно, бедуины со своими чёрными палатками вызывали бы у меня боле радостное настроение, если бы они были христианами и с радушием Авраама предлагали бы своё гостеприимство; но даже мой спутник в бедуинском костюме, и тот с некоторым опасением обходил подальше от шатров потомков Авраама.
– Бог их знает, – замечал он, – может быть, это разбойники. Ведь вы знаете, какая молва идёт о здешних бедуинах.
В одном только месте мы осмелились подойти поближе к колодцу, где собрались женщины и дети. Они сначала очень дичились нас, но звонкие парички заставили их подойти к нам несколько поближе.
Большую часть пути я прошёл пешком вместе с нашим «бедуином». Мы оба страстно желали поскорее увидеть Тивериадское озеро, на котором впервые раздалось евангельское ученье Иисуса Христа. История ветхозаветного Израиля прошла по суше: Ханаан, Халдея, Египет, Синайская пустыня – вот страны библейских событий. Если евреям и случилось переходить Чермное море и реку Иордан, то и тут они дивным образом прошли, «яко по суху». Господь водил их «по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды» (Втор. VIII, 5). В этой-то сухой, безводной пустыне Господь явился Израилю и заключил с ним свой Завет. Но вот наступило время Нового Завета, и Господь являет себя на Иордане и на Галилейском море. Чрез воду крещения стали входить в Новый Завет. С лодки на Тивериадском озере раздалось Евангелие.
Итак христианство родилось на воде. И я теперь жаждал увидеть берега Галилейского моря, как колыбель христианства. Мы много опередили наших спутников, несмотря на то, что они ехали на ослах. Дорога шла к перевалу, от которого начинался спуск к озеру. Оно сразу нам открылось во всю ширину, но концы его терялись вдали за горами.
Я остановился в благоговейном восторге и замер от сознания важной минуты. Вероятно, подумал я, и Христос, проходя к Тивериаде, не один раз стоял на этом перевале перед озером.
«Бедуин» выразил свой восторг более шумно и сильно. Он воздел руки к небу и громко произнёс по-гречески «Отче наш», я затем всё время читал молитвы по-славянски, пока не нагнали нас остальные спутники. Теперь уже оставалось немного до Тивериады: надо было спуститься с горы к береговой равнине и зайти с южной стороны от города. Красивое озеро среди зеленеющих берегов вызывало искренние восторги у всей моей компании. Здесь царило удивительное спокойствие. Издали незаметно было на поверхности воды ни малейшей ряби. Ни одного паруса, ни одной двигающейся точки. На небе также не плывёт ни одного облачка. Полнейшая тишина! Даже непрерывно льющиеся горячие лучи высокого солнца тоже как бы застыли в этой яркой картине.
– Какая тишина! Какое спокойствие! – непрестанно восклицал более страстный по темпераменту «бедуин».
Когда мы приблизились к Тивериаде, или к Табарии, как теперь называют этот единственный город на берегах озера, нам стали встречаться наши соотечественники. Мы были очень довольны, что нагнали караван паломников, и согласились выступить в путь вместе с ними завтра утром. При въезде в город происходила торговля; между прочим здешние рыбаки продавали только что пойманную рыбу. Ничто, напоминающее Евангелие, меня так не обрадовало в Палестине, ни груды плодов, ни смоквы, ни масличные деревья, ни пальмовые ваии, как эта серебристая рыба в руках рыбаков на берегу Тивериадского озера.
– Сейчас же отправимся! Слышите, – говорю я своим спутникам: – сейчас нанимаем лодку и едем к Геннисаретеским берегам.

Тесные и грязные улицы Тивериады с частыми поворотами направо и налево скоро привели нас к греческому монастырю. Двор и лестница двухэтажного здания невероятно грязны. Всюду толпится народ. Все комнаты заняты паломниками. У меня было рекомендательное письмо к здешнему архимандриту Аврааму, но и он в такой тесноте бессилен был предоставить нам какие-либо удобства для ночлега. Я попросил его нанять для нас лодку, а сам с «бедуином» пошёл обозревать, как приютилась здесь такая масса паломников. Говорят, в караване было до тысячи человек обоего пола. Женщины отдельно заняли две-три комнаты в верхнем этаже. Некоторые расположились внизу в каких-то сараях прямо на земле. В одном из этих сараев была церковь, и она тоже сплошь была занята народом. Это была, кажется, самая убогая церковь, какую я встречал до сих пор в Палестине. На дворе толклись и кричали ослы и мулы. В общем, царил здесь страшный беспорядок. В коридоре мы встретили крестьянина-богомольца с котелком горячей ухи из здешней свежей рыбы.
– Продай, голубчик, хоть тарелочку ухи! – просим у него.
– Пожалуйста, кушайте, сколько хотите: я ещё себе сварю, – любезно предлагает крестьянин.
В эту минуту мы не так дорожили едой вообще, как тем сознанием, что мы едим рыбу, которую некогда ловили сам Христос с апостолами.
Вскоре пришёл хозяин лодки и договорился с нами в цене. Из моих товарищей согласились сейчас ехать только «бедуин» и старообрядец купец. Остальные ссылались на усталость и позднее время. Был, однако, четвёртый час дня. Через грека-монаха мы просили лодочника везти нас в Телл-Хум на северный берег озера, где мы намеревались сделать высадку на полчаса, а затем назад в Тивериаду.
По дороге к озеру мы купили хлеба и маслин. Пристаней не было. Берег отлогий, а суда стояли в отдалении от него на якорях. На лодку нас перенесли рыбаки на своих спинах.
Невыразимый восторг охватил нас, когда мы уселись на палубной корме. Легко поверить, что и во времена Христа Спасителя лодки были на здешнем озере совершенно такого же типа, как и наша. Длиною она была около четырёх сажен. Кроме крытых кормы и носа, в лодке были две скамейки для гребцов. Невысокая мачта была наклонена вперёд, а на конце её держался своею серединою длинный реек с одним треугольным парусом. Нижний конец рейка крепился у носа лодки. С нами отправилось четыре рыбака из местных жителей.
Было тихо, и рыбаки, подняв якорь, сели в вёсла. По-русски они не говорили, и нам нельзя было их расспросить. А хотелось бы многое узнать непосредственно от галилейских рыбаков!
От Тивериады до Телл-Хума по прямому направленно считается десять вёрст. Собственно всё озеро в длину около двадцати вёрст, и половина этого в ширину, против Магдалы, ныне деревушки Ел-Медждель. Евангелие говорит о разъездах Христа в северной половине озера. Известное укрощение бури случилось в северо-восточной части, по дороге от Капернаума в Гергесинскую страну, откуда Христос, после исцеления бесноватого, тотчас же выехал обратно в свой город Капернаум.
Чудесное хождение по водам совершилось по пути в Геннисаретскую землю, в Вифсаиду, или в Капернаум. После насыщения народа семью хлебами Христос прибыл на лодке в пределы Магдалинския (Далмануфския) и отсюда, отказавшись дать фарисеям «знамение», отплыл, вероятно, к Вифсаиде Юлиаде. Эта последняя поездка Божественного учителя сопровождалась его беседою о воздержании от фарисейской закваски. Вот и все главные переезды, о которых упоминается в Евангелии. Понятно, что христианина тянет именно в северные воды Тивериадского озера, куда и мы тихо плыли, наслаждаясь красивым видом уходящих вдаль гористых берегов.
Здесь я отдыхал душою. Ничто нас не тревожило в эти радостные минуты. Никакого сомнения для нас не было, что мы плывём по тем водам, которые носили и Христа с апостолами. Здесь нам никто не насиловал нашей совести, никто не продавал за деньги благодати Божией, никто не навязывал благочестивых преданий. Здесь всё было свободно, открыто, естественно. Здесь на озере, в зелёных берегах, под сводом голубого неба, был всенародный нерукотворённый храм, в котором с чистою верою легко возносилась молитва к Богу.
Мы всё более и более удалялись от западного берега, так что когда вышли на параллель деревушки Ел-Медждель (древняя Магдала), то были от неё в расстоянии трёх вёрст. Тут мы вспомнили свои маслины и дружелюбно разделили их со своими рыбаками. Питьём нам служила чистая, мягкая вода озера. Кружка непрестанно переходила из рук в руки. Всем нам хотелось побольше отведать священных вод колыбели христианства.
Чем ближе мы были к северным берегам, тем с большим благоговением относились к незабвенным местам.
– Вот и здесь Христос явил Себя народу, – заметил нам «бедуин», когда мы были напротив ярко-зелёной Геннисаретской равнины. Он вытащил из-за пазухи небольшую книжечку, тщательно завёрнутую в тёмный платок. Это был изящный экземпляр Нового Завета на греческом языке. «Бедуин» раскрыл нам все места Евангелия, где говорится о пребывании Иисуса Христа на озере и перевёл их по-русски. Старообрядец с большим вниманием слушал чтение и очень был доволен, что известный ему, принятый в России, славянский текст благовествования не отличается от греческого. Может быть, он впервые увидел, что слово Иисус и по-гречески начинается с десятеричного и с восьмеричного «ии».
Рыбаки-лодочники во всё время гребли не переставали разговаривать между собою на непонятном для нас языке и, конечно, были совершенно безучастны к нашим ликованиям. Мы всё время любовались ими, как потомками знаменитых рыбарей, которые своею проповедью уловили целый мир людей. Старшего по возрасту мы окрестили Симоном Петром, а молодого – Иоанном. Для полноты картины, остальных двоих назвали Иаковом и Андреем. Но… ирония судьбы! Тут-то, где родилось христианство, дети основателей его не знают ни Христа, как Спасителя, ни Евангелия… Они мусульмане.
– Вот мы сейчас прочитали, как Христос плавал в ладье со своими учениками, – обратился «бедуин» к старообрядцу. – А приходило ли вам на мысль, что ладья-то в тот момент представляла единую соборную апостольскую церковь? Теперь уже не то: церковь раскололась надвое, вот как мы с вами в этой лодке. И мы, никониане, и вы, старообрядцы, называемся христианами, а любви-то христовой между нами и нет.
Старообрядцу не понравился этот разговор, и он хотел его замять, но «бедуин» поспешил успокоить купца: