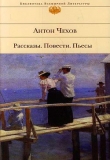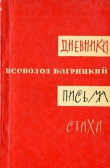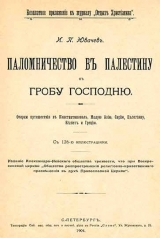
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Сколько любовь будет ваша… Сколько любовь будет ваша…
– Ах, Боже мой! – с горечью воскликнул я. – Дайте, пожалуйста, хоть одну минуту провести здесь в молитвенном созерцании, куда стремилась душа моя за несколько тысяч вёрст! Уберите тарелку! Ведь я вам дам потом, но теперь-то не мешайте на святом месте…

Придел яслей в пещере Рождества
Здесь готов, вероятно, каждый без вымогательств со стороны монаха принести свои посильные дары, если не злато, ливан и смирну, то деньги и свечи; но у меня уже этот свободный порыв души был оборван греком. Он отравил у меня самые лучшие минуты, на которые я так много рассчитывал.
На противоположной стороне, тоже на каменном полу, под лампадами, было место яслей Христовых. Оно принадлежит исключительно католикам. Здесь никто не мешал ни молиться, ни целовать священный камень.
В дальнейшем обозрении католических святынь мы умилились сердцем в месте упокоения блаженного Иеронима, истолкователя и переводчика Святого Писания, и его спутниц-друзей, Павлы и Евстохии. Какой симпатией веет от этого содружества во имя Христа! Для католической церкви Вифлеем имеет особенное значение: здесь родился общий всем Господь, Спаситель мира, здесь же возродилось для неё и слово Божие на латинском языке (Vulgata).
Но теперь, к стыду верующих во Иисуса Христа, его пещера стала ареной вражды и даже кровавой борьбы между христианами разных исповеданий, так что приходится прибегать к посредничеству турок-мусульман (особенно кровавое столкновение в вертепе Рождества Христова между греческими монахами и францисканцами было 11 мая 1891 года). «Как смеет, кто у вас, – писал апостол Павел, – судиться у нечестивых, а не у святых? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными?» Теперь забыты заветы апостолов…

Вифлеем – пещера Рождества
Пожалуй, это хорошо, что, пока враждуют между собой христиане, Святой землёй владеют турки. Ещё в XVII-м столетии, наш русский паломник, Арсений Суханов, с горечью замечал о вражде людей, исповедывающих одного и того же Христа Господа. Может быть, говорил Суханов, лучше, что ключи от христианского храма в Иерусалиме находятся у турок, и было бы, пожалуй, хуже, если бы они находились у греков.
Осмотрев Вифлеемский храм, мы вышли с проводником-монахом за ограду по направлению к Бет-Сахур, к деревне «пастушков», как зовут наши паломники. Она расположилась под горой на расстоянии немногим более одной версты от Вифлеема.
По преданию, здесь явились пастухам ангелы в достопамятную ночь рождения Иисуса Христа.
Расспрашивая по дороге греческого монаха, я несколько поотстал от своих спутников. Монах воспользовался этим моментом и показал мне из-под рясы резной образ на большой перламутровой раковине.
– Это я вам дам, – таинственным шёпотом проговорил грек и опять скрыл образ под рясу.
Я с негодованием отвернулся от него и поспешил присоединиться к своим товарищам. Но грек не отставал от меня и по временам продолжал украдкой высовывать образ из-под рясы, как бы обещаясь дать его только мне тихонько от товарищей.
По моему недовольному движению он понял, наконец, что мне не нравится его назойливость, и спрятал образ.
В Вифлееме, как всюду в Палестине, вам точно покажут любое место библейских событий: где кто стоял, где росло такое-то дерево, где являлись ангелы. Конечно, относительно точности этих указаний является сомнение. Уж если учёные археологи не могут достоверно определить место целых городов, игравших немалую роль в истории избранного народа, то до определённых ли пунктов событий из жизни отдельных лиц! Но у верующего народа имеются сильные доводы, с которыми, конечно, не приходится спорить: или молчи, или верь. Вот тут-то и чувствуется превосходство веры над наукой. Вера проникает в тайны мира скорее и дальше науки. Или, как это мы читаем у апостола Павла: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо дух все проницает и глубины Божии».

Улицы Вифлеема
Но я в своей душе нашёл такое положение, которое помогло мне, если не с полной верой, то с искренним благоговением относиться ко всем так называемым «святым местам». Для меня они были освящены временем многих веков и той нелицемерной беззаветной любовью, которую проявляли над ними в слезах и поцелуях полсотни поколений.
На этом основании я набожно склонялся на колени и чистосердечно целовал указанный камень или дерево.
Если на вопрос: – где поле Вооза? Где моавитянка Руфь собирала оставшиеся колосья? – покажут огороженное место, покрытое неприветливым камнем и серой пылью, с небольшой постройкой для сбора денег; то, мне кажется, гораздо более воскресит в нашем представлении библейскую историю Руфи и Вооза первая встречная живая картина жнецов на любом колосистом поле в окрестностях города Давидова.
Нигде так не хочется ощутить евангельской поэзии, как в Вифлееме. Хочется видеть в горах пещеру с яслями, зелёные луга, отдыхающие стада с пастухами, тихую, тёплую ночь с яркой звездой на тёмно-синем небе, хочется восторженно молиться до явления ангелов с неба и петь с ними неземными звуками: «Слава в вышних Богу»!.. А на самом деле, куда ни оглянешься, видишь всюду серый камень, кое-где бледные маслины, запылённые кусты по скатам гор, каменные ограды да заискивающее лицо проводника-грека.
Быть в Вифлееме и не зайти в магазины местных изделий из перламутра нельзя. В России хорошо известны вифлеемские резные образа, крестики, чётки, и разные другие предметы благочестия, которые так дороги верующему христианину, как священная память его паломничества к месту рождения Спасителя мира. Здесь можно купить перламутровых реликвий на всякую цену. Есть очень дешёвые крестики, по пять копеек за десяток, но есть и дорогие образа довольно тонкой работы на целой раковине в ладонь величиной.
Мы готовы были долго пробыть в магазине, но наш возница стал энергично поторапливать нас ехать в Иерусалим. В самом деле, темнота уже наступила. Мы с большим трудом выбрались из узких кривых улиц Вифлеема и покатили по шоссе. Палестинская ночь покрыла своим тёмным покровом поверхность земли. Не видно ни домов, ни оград, ни полей, усеянных камнями. Только чуть-чуть обрисовываются контуры окружающих гор. На земле нечего было смотреть. Зато мы не могли оторвать своих глаз от тёмно-синего неба, как бы украшенного драгоценными камнями. Я молчал в немом восторге и думал о судьбах мира. Как теперь здесь всё тихо! Как спокойно, кротко светятся звёзды. А ведь, сколько крови пролилось на этой горной равнине со времён патриархов! Может быть, вот на этом самом месте был поединок Давида с Голиафом, в указание борьбы христиан с древним змием. Семя жены, – сказано, – сотрёт главу змия. Из Вифлеема вышло божественное семя Святой Жены и выросло в Иерусалиме, где и победило духовного Голиафа.
Но когда же мы будем праздновать победу? Когда же мы воскликнем, как ангелы: «и на земле мир, в человеках благоволение!»…
ГЛАВА 34. Святые места у католиков
Русская церковь «на раскопках». – Двенадцать станций Страстного пути. – Наглядные изображения евангельских событий. – Место гефсиманской молитвы Спасителя. – Монастырь кармелиток. – Вечные молчальницы. – Галерея Молитвы Господней. – Культ Сердца Иисусова.
Все путешественники замечают, как резко различаются католические святые места от православных. В противоположность обычаю греческих монахов, у католиков вам не помешают молиться, не станут вас тормошить за рукав и тянуть куда-нибудь в сторону, чтобы выпросить денег. Кроме того, с первого же взгляда примечается у них блестящая чистота. Впрочем, в таком же роде есть одно место в Иерусалиме и у православных, но только не у греков, а у русских. Это место «порога» древних городских ворот на раскопках, близ храма Гроба Господня. Ещё в 1859 году куплен был русскими участок земли около 200 квадратных сажен, но до возникновения Православного Палестинского общества он был заброшен без всякого употребления. Между тем раскопки археологов показали, что здесь лежит драгоценное указание на древнее расположение городских стен, а вместе с тем и подтверждение, что почитаемые места Голгофы и Гроба Господня находятся вне прежнего Иерусалима, «потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города», и «на том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый» (Иоанн. XIX, 20,41).
Как теперь евреи стараются поближе быть погребёнными к стенам священного города, так, вероятно, и богатый Иосиф Аримафейский имел свою усыпальницу недалеко от ворот Иерусалима. От этих ворот остался теперь истёртый каменный порог, и сохранились следы петель в старых стенах, найденных на русском месте. Протестанты, однако же, не довольствуются этими доказательствами и принимают за Голгофу небольшой холм по северную сторону современного Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот (около четверти версты). Но и тут Гробница Господня указывается в двух различных местах: по Гордону она находится вправо от дороги, а по Кондёру (командированный Английским Палестинским обществом – Palestine Exploration Fund) – влево.
 Дамасские ворота
Дамасские ворота
На месте раскопок Палестинское общество построило большое здание, в котором находятся русская церковь, украшенная прекрасными картинами Кошелева, и гостиница для паломников. По примеру католиков этот дом вверен попечению женщин. И, надо отдать им справедливость, они содержат его довольно исправно, чисто. Даже чересчур здесь скромно, тихо, чинно и как-то не соответствует общему характеру святынь, к которому привыкли наши русские паломники в Палестине, то есть нет здесь простоты, свободы, произвола, а потому, насколько я заметил, мало ими и посещается этот уголок.
До сих пор учёные археологи также не столковались и относительно Страстного пути, хотя католики очень определённо указывают на его двенадцать станций, то есть те пункты, на которых произошли трогательные события во время шествия Христа на распятие. Места падений Спасителя, Его встречи с Богоматерью, с Симоном Киринейским, с Вероникой и другими обозначены надписями на латинском языке. На этом же скорбном пути (Via dolorosa) показывают жилище эгоиста-богача и место бедного Лазаря, а немного далее – дом так называемого «вечного жида». У некоторых станций стоят часовни, где, кроме соответствующих икон, изображена и сама сцена из восковых фигур в естественную величину. Такая реализация, может быть, хороша в другом месте, но здесь, где произошло само событие, возбуждающее у верующих страх и трепет, довольно бы было двух-трёх текстов из Евангелия. Мне кажется, у каждого составились в уме картины евангельских событий, как результат всех впечатлений от книжных, церковных, школьных чтений и рассказов. Всё это вместе рисует в нашем воображении известные образы, с которыми мы сроднились за десятки лет, и всякая другая иллюзия, особенно на месте события, может только портить сложенное годами настроение. Вообще от этих искусственных воспроизведений евангельских событий и от всего нагромождения камня и металла меня всегда тянуло вон на простор долин и гор, где природа осталась та же, что и две тысячи лет тому назад. В этом случае я вспоминаю слова книги Ездры, где пророк приглашается для уразумения тайн Божиих выйти «на цветущее поле, где нет построенного дома».

Мной уже сказано, что Страстный или Крестный путь в Иерусалиме, помимо воспоминаний о страданиях Спасителя мира, до сих пор ещё есть скорбный путь для сердца и тяжёлый для глаз христианина от присутствия на нём множества нищих, слепых, увечных, прокажённых. Всё время идёшь по нему со сжатым сердцем от потрясающего стона и вопля несчастных.
Я спешно прохожу мимо линии нищих с протянутыми руками, обезображенными проказой, и делюсь своими грустными мыслями с одной случайной спутницей, хорошо образованной барыней А. Н. И.
Вся жизнь христианина на земле есть в своём роде страстной путь для него. Осуждаемый владычествующим миром, как Христос, он гнётся под тяжестью нравственного креста, падает, встаёт, опять падает, пока не доплетается до своего конца… Мы – странники и пришельцы на земле, как говорили ещё первые патриархи. Всё время находимся в пути…
– Вот настоящая христианская школа! – как бы в ответ на мои думы восклицает посреди толпы пожилой инок-паломник: – вся она тут на коротком пути Христовом! Блаженны нищие, плачущие, алчущие, жаждущие, изгнанные… Ведь это все меньшие братья Христа, которых мы должны накормить, напоить, принять и одеть, – за что и получим Царство Небесное.
– Правда, правда! – горячо отзывается моя спутница: – Невелик, казалось, путь Христов. В нём насчитывают от Претории до Голгофы всего каких-нибудь тысячу шагов, а между тем в нём выражено всё искупление человеческого рода! И мы, если сумеем с Ним умереть, то с Ним и оживём. Если терпим, – говорит апостол, – то с Ним и царствовать будем. За тысячу шагов скорбного пути будем царствовать с Ним тысячи лет.
 Гефсиманский Сад
Гефсиманский Сад
На склоне Елеонской горы есть небольшое ограждённое место с остатками древнего масличного сада Гефсимания, известного горячей молитвой Христа Спасителя пред преданием Его на суд. Теперь около маслин разбит цветник, а по его четырём аллеям расставлены рельефные изображения страстей Господних. Здесь и на меня они произвели сильное впечатление, и, мне кажется, без слёз трудно отсюда выйти верующему человеку. К сожалению, и эта католическая Гефсимания оспаривается, как место молитвы Иисуса Христа. Наш профессор Олесницкий предполагает, что для молитвы Господь отошёл «яко вержением камене» на место, где теперь находится русская церковь во имя Марии Магдалины.
Несколько выше на горе Елеонской, рядом с местом вознесения Господня, стоит католический монастырь кармелиток, основанный принцессой Латур д'Оверн, герцогиней Бульонской. Когда я, в сопровождении небольшой компании паломников, вошёл в ограду монастыря, меня встретила арабка-прислужница и повела в церковь. Но лишь только мы вошли в неё, как она таинственным голосом и жестами предупредила нас:
– Тише! Тише!
 Общий вид Гефсимании на Елеонской горе
Общий вид Гефсимании на Елеонской горе
Никого не было в церкви, и мы потребовали объяснения её странному требованию. Она тихонько подвела нас к алтарю и, указывая на тёмную решётку на правой стене, объяснила нам по-французски, что там невидимо для людей молятся монахини, давшие обет вечного молчания.
Боже мой, – подумали мы, – какая тут царит вера! Они не хотят ни видеть, ни слышать ничего земного, чтобы быть свободными для восприятия небесного.
Подавленные рассказом о добровольном лишении монахинь, мы бесшумно вышли из церкви и попросили указать нам галерею Молитвы Господней, где по стенам на тридцати трёх языках (по числу лет жизни Иисуса Христа) написана молитва «Отче наш». Замысел очень хороший и выполнен чрезвычайно богато, но безграмотно, по крайней мере, это можно сказать относительно русского писания.
В Иерусалиме целая армия католических монахинь и сестёр под разными наименованиями возбуждает удивление своей энергией и полной преданностью церкви. Все католические учреждения, школы, приюты, больницы щеголяют своей чистотой и строгими порядками, благодаря усердию этих добровольных тружениц. Одеты они всегда очень чисто, изящно и даже эффектно, чтобы иметь большее влияние на увлекающихся внешностью туземцев. Примеры добровольных лишений, крайнего аскетизма и воздержания сильно подкупают фанатично религиозных арабов.
Есть в Иерусалиме католическая церковь, где сёстры попарно на коленях молятся с книжками в руках пред алтарём часа по два, до следующей смены. Таким образом, во всякое время дня и ночи можно видеть благоговейно склонившиеся фигуры девиц, разодетых в белое с голубым, как невесты под венец, и с изображением Сердца Иисусова на груди.

Они напоминают непрестанное чтение псалтири «неусыпающими» в некоторых наших монастырях. Мне самому приходилось наблюдать, с каким благоговением смотрели арабы на ангелоподобных девушек, занятых непрерывной молитвой к Сердцу Спасителя.
ГЛАВА 35. История крестного древа
Ночь страстей Христовых. – Нагрудные христианские знаки. – Путешествие в Крестный монастырь. – Как Лот искупил свой грех. – Грузины в Палестине. – У Гроба Господня. – Стена плача иудеев. – Остатки Израиля.
В ночь священных воспоминаний гефсиманской молитвы Спасителя, Его предания и человеческого суда над Богом, в эту ночь с четверга на пятницу страстной недели, обыкновенно многие из русских паломников бодрствуют на Голгофе и с великим воодушевлением читают акафист страстям Господним. Хотя Спаситель наш в эту трудную для Него ночь и просил Своих учеников бодрствовать и молиться с Ним, но я лично не мог преодолеть своей усталости после долгой всенощной службы с чтением двенадцати евангелий и пошёл немного отдохнуть в гостиницу. Однако, рано утром, я опять уже был на Голгофе, где всё ещё толпилось множество русского народа. В Великую пятницу не полагается Литургии, и отсутствие этого главного христианского богослужения здесь очень заметно в знаменательный день смерти Господа. Чувствовалась в народе потребность в более выразительном богослужении, чем положенные «часы». Припав к отверстию Креста Господня и прикоснувшись рукой по общепринятому обычаю к священной скале, я вышел из храма Воскресения и направился к русским постройкам.
Недалеко от церкви св. Троицы, под тенью известного гостеприимного дерева, сидели группами мужчины и женщины и вели тихие беседы. На краю одной скамейки бородатый странник в длинном подряснике и старенькая богомолка о чём-то оживлённо хлопочут. У странника в руках блестит медный крест, а богомолка держит лоскуток красной атласной материи. Я подсел к ним на скамейку. Словоохотливый странник объяснил мне, что он свой шейный крест вместе с образком Божией Матери обшивает холстом и ещё какой-нибудь крепкой материей и так, в закрытом виде, носит на груди эти знаки христианской веры. Но сегодня, ради воспоминания крестной смерти Господа, он раскрыл свой крест, почистил его и теперь просит старушку зашить его по-новому. «А вечером, Бог даст, – прибавил он, – освящу мой крест на Голгофе и на Гробе Господнем».
Мне это очень понравилось, и я стал соображать, что бы и мне сделать в память искупительной смерти Иисуса Христа. Как паломнику, естественнее всего было предпринять путешествие к какому-нибудь месту, связанному с воспоминаниями этого дня. В эту Великую пятницу, вспоминая покаяние Иуды в иерусалимском храме (Мф. XXVII, 3,8), когда он швырнул к ногам первосвященников и старейшин тридцать сребренников, полученных им за предание Христа, некоторые паломники посещают купленное на эти деньги село Скудельничье или Землю крови (Акельдама) для погребения странников. Но я уже там был в первые дни моего пребывания в Иерусалиме, а во второй раз не тянет идти в это место гробов и человеческих костей. Мне посоветовали сходить в Крестный монастырь, находящийся в двух вёрстах от Иерусалима, а один афонский монах, также отдыхавший под деревом, охотно взялся довести меня до монастыря.
От русских построек, повернув на юго-запад, мы отправились сперва по дороге в Горнюю, мимо мусульманского кладбища. Погода благоприятствовала нашему путешествию: слабый ветерок навевал приятную прохладу. От хорошей шоссейной дороги отделялась небольшая ветвь налево под гору, которая и привела нас к Крестному монастырю, окружённому стенами.
Мы вошли в просторный храм с тремя приделами. Внутри все стены покрыты живописью. В верхних частях изображены евангельские события, а на стенах – сказание о Крестном древе.
Судьба того дерева, которое послужило для Креста Господня, конечно, очень интересовала христиан первых веков. Ещё в глубокой древности передавались о нём различные сказания, связанные с откровением ангелов. Я приведу два варианта благочестивых преданий, дошедших до наших времён.
 Монастырь Св. Креста близь Иерусалима
Монастырь Св. Креста близь Иерусалима
По одному сказанию, Крестное древо выросло из семян, данных ангелами Сифу, сыну Адама. Применительно к пророчеству Исайи (60,13) говорят, что выросли три разных дерева – кипарис, певг и кедр, – которые срослись в одно над могилой праотца Адама и своими корнями обхватили его череп. Во время всемирного потопа, вырванное с корнем дерево, носилось по водам вместе с черепом. По окончании же потопа оно остановилось в Палестине, около Иерусалима, и росло здесь до времён царя Соломона. Когда Соломон сооружал свой знаменитый храм Богу Израилеву, он велел употребить и это дерево на постройку, а найденный череп закопать на том самом холме, где впоследствии стоял Крест Господень. Однако дерево оказалось непригодным для вновь строящегося храма, и оно было брошено в Овчую купель. Вот ради этого-то дерева и сходил по временам в купель ангел Господень и возмущал её воды для исцеления больных. Наконец, когда Пилат дал разрешение распять Иисуса Христа, евреи умышленно возложили на Него это дерево, как очень тяжёлое, и на нём Его распяли.
По другому сказанию, Крестное дерево выросло в раю и потом вынесено было оттуда рекой Тигром на грешную землю. Но о райском дереве позаботились сами ангелы, и по их указанию благочестивый сын Адама, Сиф, которому апокрифические книги вообще приписывают непосредственное сношение с ангелами, зажёг это дерево при «реке Вавилоне», и оно горит несгораемо до сих пор под охраной страшных зверей. Во искупление смертного греха Лота (Быт. 19,36) Авраам повелел ему достать огня у реки Вавилона. В то время, когда звери спали, Лоту удалось взять три головешки и принести их своему дяде Аврааму, который велел посадить их в землю и поливать водой, пока они не взойдут. Послушный Лот усердно принялся за поливку головешек, но злые духи, желая воспрепятствовать искупительному делу, в виде странников встречали по дороге Лота и выпивали у него воду. Несмотря на препятствия, Лот своим терпением достиг того, что головешки пустили корни, и выросло из них то самое дерево, которое послужило потом для Креста Господня.
Последнее сказание и изображено на стенах собора Крестного монастыря, а само место, где росло честное древо, указывают в алтарной пещере в северо-восточном углу храма.
Крестный монастырь, один из самых древнейших в Палестине, построен грузинами. Вскоре после принятия христианства, они стали посещать Святую Землю и выстроили здесь свои обители. В одном Иерусалиме когда-то насчитывалось двенадцать монастырей, сооружённых ими. Но в трудные годы Грузинского царства, когда грузин очень стеснили персы, все эти монастыри стали приходить в упадок. Иные были разрушены, а иные перешли в руки греков, армян и латинян. Крестным монастырём завладели греки, и они устроили при нём духовную семинарию в 1853 году.
Памятники грузинского происхождения монастыря сохранились во множестве до сих пор. На стенах изображены грузинские цари и святые, например, Мириан, Вахтанг Горгослан, Баграт IV Курополат и др.

Осмотрев внимательно стенную живопись и приложившись к отверстию в серебряном круге, где, по преданию, росло честное древо Животворящего Креста Господня, мы поспешили вернуться в Иерусалим, в русский собор Святой Троицы, к выносу плащаницы.
Так как вечерню здесь служило исключительно русское духовенство, то обряд выноса плащаницы был совершён тот же, что и в церквах России. Я поспешил в храм Воскресения, но там в это время, кроме огромного скопища народа, ничего не было. Каждый старался в этот вечер погребения Иисуса Христа приложиться к святейшему Гробу Господню, а потому при входе в кувуклию была ужасная давка. У одного богомольца при мне разодрали сюртук, но он с удивительным благодушием только повторял на это стихи Св. Писания:
– Разделиша ризы мои… понеже с Ним страждем, да и с Ним прославимся…
В храме я встретил знакомого старца, который мне сказал:
– Вот вы видели теперь нового Израиля в Иерусалиме; пойдёмте, я покажу вам остатки «старого».
И он повёл меня в еврейский квартал. Сделав несколько поворотов в узких, грязных улицах, мы очутились у западной стены двора мечети Омара (Куббет-эс-Сахра). Здесь собралось много евреев с книжками в руках, и все они, обратившись лицом к стене, вслух молились и вспоминали своё прошлое величие. Полагают, что нижние большие камни этой стены сохранились ещё от времён первых царей иудейских. Евреям запрещено вступать во двор бывшего Соломонова храма, так как они по пятницам (т. – е. в навечерие субботы) собираются с наружной стороны стены и вспоминают пророческую молитву царя Давида: «Ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские»…
– Вот он, – замечает мой спутник, указывая на качающихся всем корпусом евреев, – остаток Израиля у остатка стен древнего Иерусалима! Какая знаменательная картина! Этот избранный народ, который гордо ставил своё земное благосостояние в зависимости от ведения истинного Бога, теперь смиренно должен признаться перед всеми гоями, презираемыми им другими народами, что он отринут Богом и рассеян по всему лицу земли, как об этом предсказывал ему в своё время Моисей (Второз. XXXVIII, 64, 65, 37):
«И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли, до края земли… Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души… и будешь ужасом и посмешищем у всех народов, к которым отведёт тебя Господь».

Эта стена, столь уважаемая у евреев, известна у туристов под названием «Стены плача». Но на этот раз я не заметил плачущих евреев. Напротив, среди множества молящихся некоторые очень спокойно разговаривали между собой, другие равнодушно разглядывали иностранцев-зрителей. Женщины держались отдельно от мужчин. Ребятишки нисколько не уступали взрослым в азарте произнесения молитв. Вероятно, ради отдания праздника Пасхи, евреи одеты были довольно парадно.
Стало смеркаться. Мы прошли к выходу из площадки и ещё раз оглянулись на всю толпу молящегося народа.
– Помните, – заметил мой спутник, – предсказание Спасителя: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов»…
– Собственно, за что же это? – спросил я своего спутника. – Как вы понимаете?
– За то, что не послушались Моисея, на которого они так уповают. Он говорил: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – его слушайте. А кто не послушает, – сказал Господь, – слов Моих, которые пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу». Пришёл Иисус Христос и стал говорить иудеям именем Отца Небесного, но они не захотели его слушать.
Мне стало жалко этих изверженных людей вне стен святилища, и я стал перебирать в своей памяти все тексты Св. Писания, которые были в их пользу. Наконец, я напомнил своему строгому спутнику:
– А помните, что сказал про них апостол Павел: «Весь Израиль спасётся, ибо дары и призвание Божие непреложны. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
ГЛАВА 36. Благодатный огонь
Выбор места в храме. – Ночью на Голгофе. – Терпеливое ожидание чудесного огня. – Иерусалимские свечи. – В приделе Константина и Елены. – Раздача благодатного огня. – Пляска арабов в храме. – Традиционная песнь. – Восторженное настроение богомольцев. – Споры о благодатном огне. – Зарубленный исповедник чуда.
Когда встречают в России паломника, побывавшего на Пасхе в Иерусалиме, то, насколько я заметил, всегда спрашивают его:
– Ну, а святой-то огонь видели? Как он сходит на Гроб Господень?
Этот вопрос занимал и ещё долгое время будет занимать наш народ, потому что никто из русских современников сам лично не может видеть этого чуда. Я читал об этом огне и у Даниила Паломника и у Муравьёва. Они, без всякого сомнения, верили в чудесное исхождение этого огня. В средние века никто из христиан – ни православные, ни католики – не сомневались в божественном исхождении огня Великой субботы. В новой книге священника А. Попова «Латинская Иерусалимская патриархия эпохи крестоносцев» приводятся замечательные свидетельства латинян о чудесном исхождении «благодати». Но в настоящее время нередко встречаешь мнение, что остался теперь только один обряд в воспоминание древнейшего чуда. Когда мне случилось перед отъездом в Палестину поднять об этом вопрос в одной редакции духовного журнала, то я был подавлен общим голосом против священного огня.
– Помилуйте, – говорил один почтенный старец, хороший знаток истории православной церкви, – да ведь сами греки не скрывают правды. Теперь, они говорят, нельзя не дать простому народу чудесного огня, иначе будет бунт, да и отпадение может произойти от православной веры. Кто же в настоящее время верит в божественное исхождение огня! Может быть, в древности и было так, а теперь остался только один обряд в воспоминание древнейшего чуда.
С таким напутствием я и поехал в Иерусалим. По дороге, как я уже упоминал, наши паломники только и говорят, что о «благодати», то-есть о чудесном огне. С первого дня приезда в святой город они покупают пучки толстых разрисованных свечей, заказывают жёсткие футляры для них, а желающие перевезти самый огонь в Россию приобретают ещё фонари с лампадами. Некоторые останавливаются у греков, а не в русских постройках, опять-таки с целью добиться у них лучшего места в храме во время «благодати». Одним словом, «благодать» становится центром всех забот, да и всей поездки простолюдина-паломника.
Хотя святой огонь подаётся народу в страстную субботу, в час дня; но уже накануне, в пятницу, после обеда, православные паломники начинают стягиваться со всех сторон в храм Воскресения. К этому времени греки устраивают дополнительные места из досок в ротонде Гроба Господня.
Всё здесь продаётся заранее и притом за разные цены, смотря по степени близости к кувуклии.
Всем, остановившимся в номерах подворья Палестинского общества, было общее приглашение в нарочно устроенное место для русского консула. Звали и меня. Но я прежде решил посоветоваться со своим знакомым арабом, служащим в обществе.
– Не советую вам ходить в этот день в храм, – сразу огорошил меня мой приятель. – Однажды я пошёл со свечами в кувуклию, да потом и сам был не рад: мне чуть рёбра не переломали. До сих пор у меня осталась памятка моей попытки видеть раздачу священного огня. Обыкновенно я стою в этот день на площадке перед храмом, и тут, спустя не более двух минут, после явления благодатного огня, я уже получаю его.
– Прекрасно. Тогда и я так сделаю и стану рядом с вами.
Согласившись таким образом с приятелем арабом, я был спокоен в пятницу и не ходил к грекам покупать себе место.