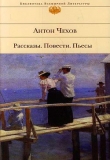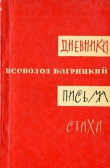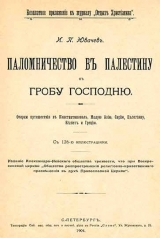
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Побывавшие раньше в Иерусалиме чрезвычайно любят поучать в первый раз прибывших в Святую Землю и авторитетно рассказывают им о местах поклонения. В стороне от болгарина-монаха собралась небольшая группа паломников послушать добровольного рассказчика. Он смело говорил им, что вот в этих самых стенах, построенных Соломоном, и есть «Святое Святых», куда удостоилась войти Матерь Божия. Очевидно, самое название «Святая Святых» он применял, как и большинство паломников, не к месту, где стоял Ковчег Завета, а к самой Божией Матери.
– Послушайте, – не выдержал мой спутник, – от древнего храма Соломонова не осталось камня на камне здесь сверх площади. Соломонов храм, как известно из Библии, был сожжён при царе Навуходоносоре. Тогда же исчез неизвестно куда Ковчег Завета. Потом, после вавилонского плена, евреи снова построили храм, в котором впоследствии являлись Христос и Божия Матерь. Но и этот второй храм был разрушен и сожжён римским императором Титом. А эти красивые стены, которые вы сейчас видите, построены магометанскими царями: Омаром, Саладином, Солиманом…
Но тут ему не дали договорить. Невежественный рассказчик, а за ним и его слушатели, яростно закидали его оскорбительными словами, – как он смел приписывать устроение «Святого Святых» каким-то мусульманским царям!
Сконфуженный мой спутник поспешил отойти, чтобы ещё больше не возбуждать тёмной толпы. Чтобы поверить, очевидно ей нужен или официальный проводник-истолкователь, облечённый внешними атрибутами, или свой брат, полуграмотный рассказчик, невежественный, но безотчётно верующий.
Кто бы ни строил стены мечети, но само место чрезвычайно свято по своим воспоминаниям. Никто в этом не сомневается, что здесь прошла вся священная история от Давида до Иисуса Христа на протяжении слишком одиннадцати веков, т. е. во все время владения евреев Иерусалимом. Сюда был принесён Божественный Младенец Иисус Христос Своею Пресвятою Матерью, «чтобы представить Его пред Господа» и чтобы принести, установленную жертву по закону. Здесь была боговдохновенная встреча праведным Симеоном Богоприимцем и Анною пророчицею Спасителя народов, света мира и славы Израиля. Впрочем, иные говорят, что встреча Симеона с Младенцем Иисусом произошла в другом месте, где теперь мечеть Эль-Акса.
Предание указывает, что праведный Симеон Богоприимец жил тоже на горе Мориа, где в настоящее время находится подземная мечеть. Теперь тут за деньги турки показывают христианам «Колыбель Христа». Когда мы выходили из подземелья, один дервиш (мусульманский монах), показывая на нишу, кричал паломникам по-русски, с неправильным ударением на букву а:
– Обрезание! Обрезание!..
И в его руку сыпались парички.
Кстати о подземелье. Чтобы выровнять вершину горы Мориа, на которой предназначался двор для храма, Соломон покрыл это место гигантскими сооружениями, состоящими из множества сводов. А уж поверх их была выровнена на пространстве около двенадцати десятин красивая площадь, известная в настоящее время под названием Харам-эш-Шериф, т. – е. «благородное святилище». Подземные своды хорошо сохранились до сих пор и образуют огромное, решительно ничем не занятое помещение. Во времена крестоносце здесь содержались их лошади.
Смотря на эти колоссальные каменные сооружения, простоявшие около трёх тысяч лет и выдержавшие, вероятно, не одно землетрясение, невольно вспоминаешь предсказания пророков об «остатке Израиля» (Ис. X, 20– 22). В нынешнее время, – говорит апостол Павел, – по избранию благодати, сохранился остаток. И к этому остатку, к этому корню дерева прививались другие народы, другие религии. И христианство, и магометанство со всеми их многочисленными разветвлениями выросли на еврействе. Так и на сводах Соломоновых, по разрушении еврейского храма Иеговы, стояли и языческие храмы (Юпитера Капитолийского при императоре Адриане), и магометанские (при Омаре и его преемниках), и христианские (во времена крестоносцев). От христианских храмов на площади Харам-эш-Шериф осталось, полагают, Юстиниановская базилика, также превращённая магометанами в мечеть. Она известна здесь под названием Эль-Акса («удалённая»). Когда мы пришли в неё, проводник-болгарин подвёл нас к двум рядом стоящим колоннам и рассказал, что они служили для испытания греховности людей. Грешный человек не мог пролезть между ними. Но с тех пор, как один неудачник застрял между колоннами, приказано было загородить проход металлическими прутьями.
В этой мечети ещё показывают след ступни Христовой, отпечатавшейся на камне во время вознесения Его на небо на горе Елеонской.
Хотя мы сделали беглый обзор всего, что помещалось на площади Харам-эш-Шериф и под нею, но и он нас очень утомил. A большинство женщин давно уже уселось в кружок и мирно разговаривали между собою в ожидании окончания осмотра.
Многие, выйдя из ворот двора, сейчас же поспешили отправиться домой, но нашлись и такие неутомимые, которые последовали за проводником болгарином по Кедронскому потоку, чтобы видеть снаружи стены Харам-эш-Шерифа и заложенные в них так называемые Золотые ворота, т. – е. те самые, через которые, по преданию, въехал Иисус Христос на осляти в Иерусалим.
ГЛАВА 16: Вокруг стен Иерусалима.
Памятник Авессалома. – Иосафатова долина. – Страшный суд. – Источник Богоматери. – Нечистое место. – Долина сыновей Енномовых. – Прокажённые. – Акелдама. – «Новый Иерусалим».
Прежде чем выйти за город, монах-проводник обратился к толпе паломников и громко провозгласил два стиха из известного псалма:
– Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его; обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду.
Это библейское воззвание в устах проводника в Иерусалиме меня очень тронуло, и я, как ни усталь, решил последовать ему, чтобы обойти вокруг стен города.
Число паломников сократилось, по крайней мере, наполовину. Мы вышли из города единственными открытыми на восточной стороне Гефсиманскими воротами Баб-ситти-Марьям. Так названы, вероятно, потому, что от них чрез Кедронский поток идёт дорога к гробнице Божией Матери. Они ещё носят название ворот св. Стефана в память первомученика, которого побили камнями в Иосафатовой долине, недалеко от этих ворот. Это событие дало повод нашему проводнику сказать пространную речь, с указанием точных мест, где кто стоял восемнадцать с половиною веков тому назад. Отсюда мы повернули направо вдоль по Иосафатовой долине, между Елеонскою горою и стеною города. Жарко. Душно. Недалеко от каменного моста через Кедронский поток продавали какое-то подслащённое питьё, в грязных бутылках. Я воздержался от искушения утолить им жажду и вслед за паломниками спустился в глубину долины, к памятникам седой старины, известным здесь под названием Авессаломова столба и гробниц Иакова и Захарии.
Из Библии мы знаем, что восстание Авессалома против своего отца, царя Давида, не удалось, а его самого убили, бросили в глубокую яму в лесу и наметали над ним огромную кучу камней. Но он ещё при жизни своей поставил себе памятник в царской долине. «И называется он памятник Авессалома до сего дня». Вот это-то непреложное слово «до сего дня» и заставляет предполагать евреев, что небольшая каменная башенка с конусообразным верхом и есть древний памятник Авессалома. Они до сих пор не могут пройти мимо него, чтобы не бросить камня на память мятежного сына.
Относительно других гробниц имеются неопределённые предания, и наш проводник, не останавливаясь у них, поспешил перейти по небольшому каменному мосту опять на ту сторону долины, ближе к стенам города.
Иосафатова долина вся усеяна могильными памятниками евреев и магометан. По общему преданию у всех вероисповеданий на Востоке, в этой долине произойдёт страшный суд при конце мира. Пророк Иоиль от лица Божия так рисует картину суда:
« Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд… Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь! Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там я возсяду, чтобы судить все народы отовсюду… Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона и даст глас свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля… Тогда узнаете, что я – Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей».
Замечательно, турки отдали гору Сион христианам для погребения покойников. Здесь сосредоточены кладбища и православных, и протестантов, и армяно-грегориан, тогда как долина суда наполнена костями евреев и магометан.
Огибая юго-восточный угол зубчатых серых стен Иерусалима, наше внимание обратили на угловой камень, около трёх с половиной сажен длиною, при саженной толщине. И такой большой камень находится не в нижних рядах основания, а на порядочной высоте от земли: вероятно, тоже свидетель древнейших времён.
Недалеко от угла города дорога расходилась на три стороны. Мы выбрали левую, которая привела нас к источнику Богоматери – Айн-ситти-Марьям, близ деревни Силоам. Передовые паломники, спустившиеся в пещеру источника вниз но лестнице, успели спокойно почерпнуть воды и напиться; но последним пришлось выдержать борьбу с арабами, набежавшими сюда со всех сторон. Пользуясь случаем, здешние силоамцы требовали за воду деньги, вырывали из рук кружки с водой и вообще вели себя очень дико и непристойно. Я переждал первые горячие схватки, осторожно спустился по скользким ступенькам и дал денег арабской девушке, оберегающей воду внизу колодца. Она поспешила поднести и мне свой водонос на один момент. Спасибо и за это!
Должно быть горбатенький проводник наш сильно утомился, потому что он предложил паломникам отдохнуть около Силоамского пруда и сам присел на заросшем склоне горы. Хотя не с прежнею энергией, он всё-таки продолжал рассказывать нам про окружающие предметы.
На севере от нас высились серые стены Иерусалима с Навозными воротами, или Баб-ель-Мугарибе. На западе – Сион. На востоке – гора Соблазна, соседка Елеонской горы, а с юга – пещерныя скалы Акелдамы и горы Злого Совещания. Действительно, удачно был выбран пункт для обозрения окрестностей. Прямо перед нами две долины – Иосафатова и Гинномова – сходятся около колодца Иова в одну щель, которая пробирается между скалами Иудейских гор до самого Мёртвого моря. А около колодца виднеется турецкий дом прокажённых.
Что-то грязное, гнусное, скверное и в то же время ужасное, угрожающее чувствуется в этих названиях и предметах. Мы сидели в центре самого нечистого места во всех смыслах. Чрез Навозные ворота сюда вывозились все нечистоты из Иерусалима, сюда извергались все прокажённые и нечистые, тут на окружающих высотах были построены капища Хамосу, «мерзости Моавитской», Молоху, «мерзости Аммонитской», и Астарте, «мерзости Сидонской», тут и страшная Акелдама – «земля крови», купленная ценою крови Иисуса Христа. Наконец, как говорит Господь чрез пророка Иеремию, здесь «устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал, и что Мне на сердце не приходило». За то и грозят пророки, что здесь будет страшный суд, здесь потечёт огненная река, «ибо Тофет давно уже устроен; он глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжёт его» (Исаии, 30, 33).
Водосточная городская канава, проведённая в этих местах, своим зловонием и теперь неприятно напоминает древнее значение Навозных ворот и вообще всего этого места.
Когда мы стали спускаться в долину сыновей Енномовых, или Вади-ер-Рабаби, то нам навстречу вышли из своего дома прокажённые. Пропустив мимо себя с криками о помощи переднюю главную массу паломников, они вдруг быстро заняли средину дороги и таким образом отрезали остальную часть уставших пешеходов. Несчастные прокажённые нагло протягивали руки с отгнившими пальцами, показывали вид, что желают прикоснуться к паломникам, иные дерзко перегораживали путь, растопырив руки. Толпа паломников, особенно женщины, с криками и визгом отшатнулась назад, боясь заразиться, но потом, угрожая своими посохами, расчистила путь дальше.
В долине сыновей Енномовых мы подошли к пещерам Акелдамы. Здесь нас встретили греческие монахи, провели в церковь, отслужили молебен и затем стали показывать пещеры, наполненные незакрытыми костями усопших. В Акелдаме лучше всего можно понять, как хоронят покойников на Востоке в твёрдом грунте. Перед нашими глазами протянулись ряды ниш, выдолбленных по размеру тела в стенах пещеры. Эти ниши и служили собственно гробами для усопших тел. Общая же их могила, или пещера, снаружи заваливалась камнем.
Греческие монахи предложили паломникам отдохнуть и выпить какого-то угощения. Но так как было уже поздно, к тому же мне надо было приготовиться к завтрашней дороге, то я, поблагодарив монахов, поспешил один отправиться домой. Местами, в долине сынов Енномовых, я чувствовал жуткое одиночество. Только у юго-западного угла Сиона мне встретились двое арабских мальчиков, разговаривающих по-английски. Я расспросил их, почему они знают английский язык. Оказывается, на Сионе для арабских детей имеется прекрасная английская школа Гобата, в которой и они обучались.
Миновав Яффския ворота, я пришёл опять к русским постройкам. Таким образом на первых же порах в Иерусалиме мне пришлось обойти его стены и невольно обратить своё внимание на контраст двух сторон его – юго-восточной и северо-западной. Если мы проведём прямую линию через место св. Гроба Господня и Силоамский пруд, то эта магистраль, пройдя посредине между Сионом и священной скалой Соломонова храма, разделит город на две равные части. Но как на южном конце этой магистрали – место суда, «огненной реки», адского огня, место извержения всего нечистого, скверного, негодного, так на северном её конце выростает новый город, новый Иерусалим, как бы в прообраз «Нового Иерусалима», предсказанного в Апокалипсисе. Южная сторона западает в глубину долины, идущей в Мёртвое море, а северная – возвышается к горе Скопус, где некогда стоял римский лагерь. Очень приятно было мне, как русскому, видеть, что и наше Палестинское общество заняло большую часть будущего Нового Иерусалима, и в средоточии русских подворий устроен храм во имя Святой Троицы.
К северу от русского места много владений, принадлежащих другим христианским вероисповеданиям, но ещё севернее – раскинулись еврейские колонии: Ебен Израэль, Езрат Израэль, Суккот Шеломо, Меа Шеарим, Шааре Моше, Байт Израэль, Шаар Пинна, Охель Шеломо и др. Не указывают ли они на образование «Нового Израиля» в «Новом Иерусалиме», как предсказывал пророк Давид: «на северной стороне город великого царя» (Псал. 47, 3)?
ГЛАВА 17: От Яффы до Кайфы.
Из Иерусалима в Галилею. – В вагоне до Яффы. – На австрийском пароходе. – Старообрядец в числе спутников. – Кайфа. – У русского агента. – На горе Кармил. – Почитание Божьей Матери и пророка Илии. – Вид с Кармила. – Сен Жан д'Акр. – Бедуинский костюм.
На другой день, 20 марта, по условию мы должны были отправиться в Галилею. Я уже говорил, что из Иерусалима в Назарет русские паломники едут двумя путями: или по железной дороге и морем на пароходе через Яффу и Кайфу, или прямо на север сухим путём через Самарию. По скорости, комфорту и разнообразию способов передвижения считается лёгким и доступным даже для дряхлых стариков – первый путь; за то второй – дорог паломникам по священным воспоминаниям путешествий Самого Господа.
Мне лично хотелось испытать ту и другую дорогу; но сначала, по совету гостеприимного хозяина, я решил отправиться в Назарет через Яффу и Кайфу. Мой товарищ нарядился в лёгкий бедуинский костюм, прикрыв его сверху осенним пальто обыкновенного покроя. До Кайфы в вагоне и на пароход он хотел ехать европейцем. Весь багаж его состоял из двух небольших мешков, перевязанных так, чтобы впоследствии удобно было положить их через седло на осла.
Отъезжающих вместе с нами по железной дороге из Иерусалима было очень много, но из русских, кажется, только мы вдвоём и были. Турки и сирийцы-магометане старались занять отдельные вагоны, а христианские туземцы перемешались с иностранцами, среди которых больше всего замечалось немцев. Почти всю дорогу до Яффы мы беседовали со своими соседями, жадно расспрашивая о палестинских порядках и обычаях. На промежуточных станциях не держат буфетов. Каждому пассажиру приходится заблаговременно позаботиться о своём столе. В придачу к захваченным закускам мы запаслись ещё немалым количеством апельсинов – необходимый плод при здешней жаре, вызывающей сильную жажду в дороге.
Мы прибыли в Яффу как раз вовремя: австрийский пароход стоял уже на рейде, готовый сняться в Кайфу. Погода была тихая, и рейд сравнительно спокоен. Нам опять помог любезный агент Русского общества пароходства и торговли, и мы благополучно водворились на австрийце. Здесь произошла приятная встреча со знакомыми русскими паломниками. Небольшая партия, человек в восемь, прибыв из России со мной вместе на одном и том же русском пароходе в Яффу, не поехала тотчас в Иерусалим, а решила подождать австрийского парохода, чтобы сперва отправиться в Галилею и поспеть к празднику Благовещения в Назарет. Они заняли часть палубы спереди машинного люка. Такое помещение не совсем удобно для большого переезда, но до Кайфы было всего полсотни миль, т. е. часа на три, на четыре ходу, и притом стояла тихая, тёплая погода, так что и мы согласились присоединиться к ним на палубу. Кроме нас на пароходе ехало пассажирами немного туземцев-магометан, которые вскоре после вечерней молитвы залегли спать. Под мерный шум гребного винта мы тихо разговаривали, передавая друг другу свои сведения о Палестине. Между нами были лица духовного звания, добродушнейший соборный диакон с женою, жена протоиерея и псаломщик. Но больше всех из моих спутников мне нравился купец, старообрядец из Тверской губернии. Он скрывал свою привязанность «к старинке», и я, вероятно, долго бы не догадался о его принадлежности к старой вере, если бы не раскрыл случайно его тайну диакон. Приводя слова одной молитвы, старообрядец закончил её так: «и вовеки веком, аминь». Диакон поправил его – «вовеки веков» – и сейчас же заметил ему при всех, что он в старой вере. Купец покраснел, но не возражал. Впоследствии он мне открылся чистосердечно, при чём высказал свой взгляд на внешние порядки никонианской церкви, отталкивающие старообрядцев своим нехристианским характером. Там, по его мнению, где должны пребывать любовь, доверие и братское общение, там царят формализм бессердечие и нерадение. Мне казалось, что он послан своим городом с тайным поручением обследовать восточные церкви.
Пароход прибыл в Кайфу ночью. К нашему удовольствию переправа на берег прошла без всякого смятения и ссор с арабами-лодочниками, благодаря участию здешнего консульского агента. Он сам лично встретил нас с фонарём и усадил в свою шлюпку. Мы беспрепятственно вышли на берег и в сопровождении фонаря весёлою толпою направились в дом агента. Город благоухал от множества цветущих садов. Успокаивающая тишина и приятная теплота в ночном воздухе как-то особенно заметно отразились в настроении наших душ.
– Господа, – заметил нам мой товарищ, – мы вступили в благословенную Галилею, где впервые раздалось слово христианского учения.
– А был ли Христос в Кайфе? – спросила одна из женщин.
– Вероятно, был. По крайней мере, у католиков есть предание, что Христос со Своею Материю посещал соседнюю гору Кармил.
Вскоре мы пришли к дому агента и взобрались на самый верх его, где для паломников приготовлены были три-четыре комнаты с кроватями и нарами. После короткого ужина расположились на ночлег, где кто хотел. Нельзя особенно похвалить обстановку наших спален, но мы были рады и такому помещению, потому что оно избавляло нас от многих хлопот.
Утром пришёл хозяин и предложил нам до отъезда в Назарет посетить гору Кармил и католический монастырь на нём.
Город Кайфа раскинулся на береговой полосе морского залива у подножья горы. В нём очень много европейцев и, особенно немцев, которые несколько западнее города имеют прекрасную колонию. На северной стороне залива белеется Акка, древняя Птолемаида.
Было очень рано, и потому улицы города не отличались многолюдством, а прекрасная дорога на гору была совсем пуста.
По мере того, как мы подымались всё выше и выше, перед нами раскрывалась прелестная картина морского залива, окружённого горами.
На вершине Кармила стояли каменные постройки католического Монастыря Notre Dame du Mont Carmel. По преданию, родители Божией Матери, св. Иоаким и Анна, одно время жили в этих местах. Полагают, что и Сама Божия Матерь посещала гору Кармил. Почитание же Присноблаженной Девы Марии и устройство здесь алтаря в честь её относят к апостольским временам. И до сих пор вся католическая церковь празднует 16-е июля, как день Кармильской Божией Матери.
Нас встретил у ворот католический монах и с строгим лицом довольно сухо предложил войти в церковь. В его глазах мы представляли жалкую толпу схизматиков, а потому странно было бы здесь нам рассчитывать на особенную любезность и радушное гостеприимство. Он показал между прочим, художественные изваяния Божией Матери и пророка Илии. Здесь, по преданию, было то самое место, где молился пророк в ожидании дождя.
… Илия взошёл наверх Кармила и наклонился к земле, и положил лицо своё между коленями своими, и сказал отроку своему:
– Пойди, посмотри к морю.
Тот пошёл и посмотрел, и сказал:
– Ничего нет.
Он сказал:
– Продолжай это до семи раз.
В седьмой раз тот сказал:
– «Вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую»… (3 Царств, 18 глава).
В этом облаке Илия увидел признак дождя. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред (царём) Ахавом до самого Изрееля». Следовательно Илия пробежал перед колесницею царя всю долину Ездрилонскую, т. – е. около сорока вёрст.
Это видение маленького облака, которое дало обильный дождь после трёхлетней засухи, по сказанию святых отцов, и есть образ Девы Марии, родившей Слово Божие. А потому католики считают пророка Илию, как первого чтителя Божией Матери.
Проводник-монах предложил нам купить на память крестиков и образков Кармильской Божией Матери. Осмотрев поверхностно постройки монастыря, мы вышли на открытое место, чтобы полюбоваться восхитительной панорамой Палестины.
На западе перед нами лежит далёкое Средиземное море. Над ним расстилается необъятный воздушный океан, с ослепительным солнцем в его вершине. На севере, за мысом древней Птолемаиды, убегает в даль финикийский берег. Правее его вырисовываются в воздухе вершины Ливана. Ещё праве весь горизонт вплоть до Кармильского кряжа покрыт Галилейскими горами, среди которых прячется Назарет. Над Галилеей царит величественный Ермон под снежною шапкою. Ближе, у самой подошвы Кармила, расстилается равнина с извивающейся лентой Нахр-ель-Мукатта, или древнего потока Киссона. Внизу, при море лежит город Кайфа и немецкая колония.
Во времена крестоносцев Птолемаида (в тринадцати вёрстах от Кайфы) была обращена в крепость Сен Жан д'Акр. Весною 1799 г., эта крепость остановила победоносное шествие Наполеона, как некогда Тир задержал Александра Македонского на семь месяцев. Но Наполеон не располагал ни средствами, ни временем великого завоевателя Востока и потому, после восьми безуспешных приступов, в продолжение семидесятидневной осады, должен был отступить от крепости. Всех своих больных и раненых он оставил на попечение кармильских монахов; но губернатор Акры, Джеззар-паша, безжалостно приказал перерезать их. Монахов разогнали, а монастырь подожгли. В 1821 году, Абдалла-паша, взорвал минами остатки монастыря, и Кармил снова обратился в пустыню на некоторое время. В небольшом монастырском саду теперь стоит памятник над собранными костями французов.
Недалеко от монастыря высится Кармильский маяк, видимый с моря за тридцать миль.
Приятно было бы осмотреть окрестности монастыря и вместе с тем башню св. Елены, школу пророков, источник Илии, но сегодня мы должны засветло попасть в Назарет, а потому поспешили спуститься с Кармила и по прежней дороге вернулись в город. В этот час он был оживлён торговцами, моряками, приезжими феллахами и колонистами более чем утром. Я шёл с диаконом и поторапливал его покончить скорее с бесконечными приценками к разным товарам на базар. Вдруг он вынимает сотенный билет и хочет разменять его у уличных менял. Я насилу удержал диакона этого не делать.
К нашему приходу были наняты для нас большие тарантасы. Консульский агент не делал нам особенной любезности: за лодку, за помещение, за тарантасы и проч. он брал с нас деньги. Но хорошо было то, что всё это было определённо, без неприятной возни с арабами и их бесконечным попрошайничеством.
Товарищ мой снял своё осеннее пальто и надел бедуинский костюм. Удивительно прост покрой платья бедуинов! Например, что такое верхний плащ, или аба по-арабски? Это – две прямоугольные полки, пришитые к квадратному куску полосатой материи с боков и сверху. Ни рукавов, ни воротника, ни карманов, ни петель, ни пуговиц. Только в верхних углах плаща не дошито, чтобы в оставленные отверстия можно было просунуть руки. Штаны тоже своеобразного покроя. Сшивают два прямоугольных куска бумажной материи с боков и снизу, так что получается мешок, не глубокий, но очень широкий. Внизу по углам оставлены недошитые места для ног, а верхний край мешка стягивается шнуром около талии. Головной убор, или кефие, опять-таки представляет простой квадратный платок, стянутый вокруг головы шерстяным жгутом. Только кумбаз, род халата или подрясника, кроится несколько в талию, с рукавами, с карманами и на подкладке. Кумбаз стягивается пёстрым кушаком. На ногах краснея сафьянные туфли, с выступающей по краям подошвой, для защиты ног от каменистой почвы. Я пробовал надавать такие туфли и поражён был их удобством для путешествия в Палестине. Благодаря толстой составной подошве, можно было безболезненно ступать по насыпанному щебню.
Одевшегося таким образом моего товарища арабы обступили с нескрываемым удивлением. Они так ценят и уважают франка в европейском костюме, а тут вдруг добровольное облачение себя в костюм бедного кочевого бедуина! Если бы ещё костюм был роскошный, дорогой по цене, то они, пожалуй, помирились бы с этим; но ведь на нём всё бумажное, дешёвое, рублей на двенадцать, не больше.
– Почём покупал? – спрашивают моего товарища один за другим арабы.
Тот молчит, сердится и не знает, как от них отвязаться. А то станут учить его, как бедуины подвязывают концы платка, спускающегося с головы, как надо накладывать чёрный жгут на голову и проч.
ГЛАВА 18: Назарет.
В тарантасе по Ездрилонской долине. – Самоуглублённый странник. – Одежды Иисуса Христа. – В Назарете. – Греческая церковь Благовещения. – Поведение клира при богослужении. – Католический храм Благовещения. – Разъяснение францисканца. – «Трапеза Христова». – Гора Свержения.
В тарантасе я уселся рядом с тучным диаконом и всё время беседовал с ним об окружающих нас предметах. На первых порах всё встречное по пути напоминало нам пророка Илию. С правой стороны высилась гора Кармил, а с левой – протекал поток Киссон, с которым мы всё больше и больше сближались, пока не переехали его близ деревни Ель – Харисия. Отсюда дорога приняла ещё боле восточное направление и стала постепенно входить в холмы и в предгория назаретских высот. Над Ездрилонской долиной, с правой стороны от нас, возвышался южный конец Кармила, называемый арабами Ель – Мухрака, что значит жертва, потому что на этой вершине пророк Илия вызвал огонь с неба на свою жертву в посрамление жрецов Ваала. Тут же, у потока Киссона, указывают и место, где он заколол этих пророков. Эта двойная жертва пророка огнём и мечем, его горячая ревность о Едином истинном Боге стали примером для гонителей еретиков. Но… что было уместно по духу Ветхого Завета, то не совсем прилично в Новом Завете. Когда апостолы хотели свести огонь с неба и истребить людей, как и Илия это сделал, Христос запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа!».
Чем дальше мы ехали, тем всё более и более смягчались пейзажи. Встречались красивые рощи, цветистые луга, обширные поля с колосистым хлебом и даже небольшой лесок. Это единственное место в Палестине, где мы увидели лес. Здешние картины как-то ближе, роднее нашей душе, чем суровые виды каменистой Иудеи. Простота деревенской жизни туземных крестьян, или феллахов, невольно напоминает с детства вычитанную из Евангелия ту безыскусственную обстановку, среди которой раздались премудрые притчи Божественного Учителя. Почти на каждом шагу встречается какая-нибудь иллюстрация к евангельскому тексту. Вот проехал старец на маленьком осле, чуть не касаясь свесившимися ногами земли. Вот молодой пастух не спеша идёт по склону горы со своим стадом «мелкого скота». Или вот пробирается феллах по полю со своими волами. Почти у каждого источника можно видеть черноглазую девицу с тёмным кувшином на плече или на голове.
Остановились мы в одном небольшом селении на короткий отдых. Все мы сошли с тарантасов и расположились около небольшой лавочки выпить воды или кофе. Обмениваясь своими впечатлениями, мы громко говорили, смеялись и вообще производили заметный шум. Перед нами наискось лежала дорога. Вдруг из-за угла дома показывается араб в тёмно-синем полосатом плаще, в красном кумбазе, с белым платком на голове под двойным чёрным кольцом толстой верёвки. Высокий, статный, он медленно шёл, по дороге, как бы в глубоком раздумье. Несмотря на наш весёлый и громкий смех, он не повернул головы в нашу сторону. Для этого философа как бы не существовало ничего земного. Мы сразу смолкли и переглянулись между собою. Ведь арабы так любопытны, а наш шум и вереница тарантасов – не обычное явление в этом глухом местечке.
– Так только мог пройти Христос или библейский пророк, – заметил нам мой товарищ в бедуинском костюме.
В самом деле, точно видение, не оглядываясь назад, исчез вдали за холмами самоуглублённый странник.
Вспомнив Христа, мы заговорили о Его костюме. Обыкновенно изображают Его на иконах белым, без головного убора, в греческом красном хитоне и с синей хламидой на плечах. Но так, ли это было на самом деле? Наш «бедуин» настойчиво доказывал, что Иисус Христос, как и все евреи того времени, не носил костюма язычников, а наверно имел такой же кумбаз и абу, какой носят и теперь все жители Палестины.