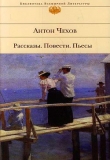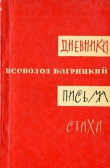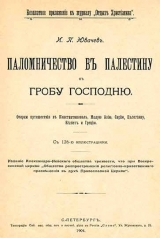
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
О вы, напоминающие о Господе, члены и сотрудники Палестинского Общества! Не умолкайте, не умолкайте пред ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле. Приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни! Поднимите знамя для народов! (Ис. 62. 7.10). И увидят народы правду твою, Иерусалим, и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою – на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя «Моё благословение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой (Ис. 62. 2-5).
ГЛАВА 31. Иордан и Мёртвое море
Поездка на Иордан. – Иерихонское шоссе. – Гостиница Милосердного Самарянина. – Иорданская пустыня. – Сорокадневная гора. – Иерихон. – Иорданская долина. – Монастырь Иоанна Предтечи. – Река Иордан. – Священное купание. – Мёртвое море. – Возвращение в Иерусалим.
Иисус Христос, прибыв из Галилеи в Иерусалим, все ночи своей последней страстной седмицы проводил в окрестностях города. Так и теперь многие из наших паломников обыкновенно расходятся по окрестностям Святого города до среды страстной седмицы. Я тоже примкнул к небольшой компании, чтобы поехать на Иордан.
Хорошо зная по рассказам паломников, что заиорданские бедуины до сих пор грабят, а иногда и убивают путешественников, мы попросили в конторе русских построек рекомендовать нам хорошего и надёжного извозчика. Кавас, черногорец Марко, провожая наш экипаж, несколько раз повторял арабу-извозчику, чтобы он сначала ехал к Сорокадневной горе, ночевал в Иерихоне, а на утро отправился бы к Мёртвому морю, а потом уже к Иордану.
Это обыкновенный маршрут почти всех паломников, и к нему извозчики давно привыкли.
Довольно гладкая укатанная шоссейная дорога в Иерихон сначала шла в обход Елеонской горы. К общему удовольствию оказался среди нас хороший знаток библейской истории, и в его образных рассказах оживлялся каждый уголок этой дикой пустыни. А пустыня была в полном смысле этого слова: голые скалы, местами усеянные камнями и только. Ни деревьев, ни травы не заметно. Всё, кажется, выжжено палящим солнцем. Недавно устроенное, ради приезда германского императора, иерихонское шоссе было отлично выглажено и представляло бы собой прекрасную дорогу, если бы не беловатая пыль, поднимавшаяся столбами от каждого пешехода.
За Вифанией не встречается никаких селений. Только на полпути к Иерихону стоит гостиница, с которой связывают известный евангельский рассказ о милосердом самарянине. Восточная гостиница, или хан, – это большой огороженный двор с множеством стойл для скота. В одноэтажной пристройке для путешественников предлагали нам купить древнее туземное оружие и угощали кофе; но мы, купив только жестяную фляжку для вина на память о милосердом самарянине, поспешили отправиться дальше на восток.
Встречных очень мало. Попадались пастухи с небольшими стадами коз, заиорданские бедуины да изредка парами или небольшими группами паломники.

Хан-ел-Ахмар (Гостиница «Доброго Самарянина»)
Я удивлялся отважности русских женщин. Пустыня, заведомо разбойничий край, а они попарно бредут себе тихохонько и спокойно разговаривают, как будто у себя дома, в России.
Дорога шла извилистой лентой с горы на гору; когда мы взбирались на вершины их, открывался далёкий вид на Иорданскую долину и Мёртвое море.

Разобрать издали, где протекает Иордан, очень трудно: всё было затянуто лёгкой дымкой. За долиной бледной полосой тянулись горы.
Стали нам попадаться всё чаще и чаще аисты. В России их видишь в одиночку, редко попарно; а тут при каждом повороте дороги они подымались небольшими стайками, штук по десять, по пятнадцать. В одном месте они буквально усеяли весь склон горы.
 Хозевитский монастырь
Хозевитский монастырь
При нашем приближении вся эта масса крупных и красивых птиц вдруг взлетела на воздух. Прекрасное зрелище!
Вероятно, мы встретили отдыхающую стаю на весеннем перелёте в Россию (2 апреля по старому стилю).
Иорданская пустыня знаменита своими отшельниками во все времена христианства. Прежде здесь монастыри насчитывались десятками. Как птицы, гнездились иноки в этих голых скалах, ища полного уединения, как и Христос сорок дней на горе Джебель-Каранталь. Куда ни взглянешь, все горы изрыты пещерами. Но не только пост, терпение, молитва или воздержание, труд лишения и опасности привязывали отшельников к суровой пустыне. Они искали здесь уединения и тишины, чтобы приблизиться к Богу, созерцать его духовными очами, удостоиться общения со святыми ангелами.
После погрома Палестины персами и арабами немногие из монастырей уцелели до нашего времени. Теперь возобновлены и поддерживаются только пять обителей, посещаемых паломниками: Хозевитская, св. Герасима, Иоанна Предтечи, Саввы Освящённого да на Сорокадневной горе, куда мы держали путь свой.
Крутыми спусками мы быстро съехали в равнину и повернули налево к Сорокадневной горе, или Джебель-Каранталь, как её здесь называют. У её подошвы мы заметили маленькое селение, а, может быть, временное бедуинское становище, из которого нам навстречу вышел мальчик. Извозчик попросил его покараулить лошадей, пока мы сходим на гору. Крутая дорожка, пробитая в каменистом грунте, вела к удивительному по устройству греческому монастырю. Он состоял из ряда пещер, высеченных в отвесных скалах, с примыкающими к ним висячими балконами, подпёртыми снизу. Монахи и сам настоятель, архимандрит Авраамий, любезно показывали нам всё, что могло нас интересовать, и угощали щербетом и кофе. Обстановка обители не богатая.
Мы взбирались и на самую вершину горы, откуда была видна вся окрестность Иорданская. На западе отлично выделялась русская колокольня на горе Елеонской, а на севере царил белоснежный Ермон.

Отсюда, говорит предание, были показаны Христу «все царства вселенной во мгновение времени». Место на самой вершине теперь расчищено для сооружения церкви.
Спустившись с горы, мы с большим трудом отыскали нашу коляску. Равнину охватил уже вечерний сумрак. Извозчик-араб попросил у нас денег для сторожа мальчика. Мы дали ему двугривенный. Переговорив с мальчиком, извозчик сел на козлы и сказал нам, что мальчик требует ещё две парички (самые мелкие медные монетки). Мы позвали арабчёнка и лишь только дали ему парички, как извозчик стегнул по лошадям и быстро поехал к Иерихону.

Тут только мы сообразили, как просто он всех нас обманул. Парички достались мальчику, а двугривенный он взял себе. Нам это плутовство не понравилось. Объясниться же с ним мы не могли: он так же мало понимал по-русски, как мы по-арабски.
Вскоре в ночном полумраке замелькали дома и сады Иерихона. Извозчик быстро подкатил к воротам русской странноприимницы. Заведует ею монах Дионисий, кажется, единственный из всех русских, который мог выдержать томительно жаркую температуру Иорданской долины в продолжение многих лет.

К тому же он прекрасный садовник, и это как раз кстати, потому что у русских здесь имеется большой фруктовый сад. В Иерихоне свободно растут и пальмы, и бананы, и вообще растения жаркого климата.
Поужинав в общей большой столовой на втором этаже, мои спутники разошлись по номерам, а я с отцом Дионисием вышел на балкон и залюбовался тихой, звёздной ночью. Вдали виднелись слабые огни, откуда доносилось до нас пение и пляска мусульман-арабов.
Рассказывая о местных нравах, монах-гостиник заметил, что у нас взят извозчик ненадёжный: всегда на него жаловались все паломники.
На другой день, чуть свет, мы уже были готовы к дальнейшему путешествию. Отец Дионисий ещё раз напомнил по-арабски нашему извозчику, чтобы он ехал сперва к Мёртвому морю, а потом уже к Иордану.
Тронулись. Дорога шла по долине, покрытой песчаными буграми, как бы дюнами. Повсюду встречается частый, но мелкий кустарник. Его листья представляют вид тонких сосудиков, наполненных солоноватой влагой. Сколько ни встречалось растений, все они имели характер солончаковой флоры.
Мы вскоре потеряли из виду Иерихон, но в то же время не видели ни Мёртвого моря, ни Иордана. Насколько сумели, мы спросили извозчика, везёт ли он нас к Бахр-Лут (Бахр-Лут значит «море Лота»), т. е. к Мёртвому морю.
– Бахр-Лут! Бахр-Лут! – поспешил заверить нас араб.
Нам это было очень важно. В такой ранний час купаться в реке было бы очень холодно, в море же вода была значительно теплее. Кроме того, после купания в солёном рассоле Мёртвого моря необходимо смыть с себя едкую и даже ядовитую соль в пресной воде. Да и духовном значении неудобно, чтобы из святых вод Иордана, «очищающих грехи мира», погрузиться в мёртвые воды Содома и Гоморры.
Эта местность, по которой мы ехали, была для Израильтян входными воротами в Обетованную землю. Отсюда вождь Израиля, Иисус Навин, сделал своё победоносное шествие к Иерихону и к другим городам Палестины. Патриархи Авраам и Иаков тоже входили в обетованную землю с восточной стороны из-за Иордана.
 На берегу Иордана
На берегу Иордана
Пока мы вспоминали библейскую историю здешнего края, извозчик подъехал к монастырю Иоанна Предтечи. Мы все бросились к нему с упрёками, зачем он нас обманул и привёз сначала к Иордану, а не к Мёртвому морю, как ему не один раз раньше наказывали. Нахальный араб вскипел и, жестикулируя кулаками перед самым носом одного из наших товарищей, сильно кричал по-своему. Его подходы были настолько дерзки, что товарищ наш не выдержал и отстранил его ударом палки по руке. Араб моментально вырвал палку и, как ужаленный, с яростью замахнулся ею в свою очередь, но тут все остальные спутники поспешили разоружить его.
Эта безобразная сцена повергла нас всех в крайне печальное настроение. Перед монастырём Проповедника покаяния, пред священным Иорданом – и такая вспышка гнева! Кто-то из нас заметил, что это тоже в своём роде искушение диавола в пустыне Иорданской, как было у самого Христа и у всех иорданских святых.
– Господа! – примиряю я их, – этот эпизод необходим в нашей поездке на Иордан. Без него мы не испытали бы всей полноты впечатлений древних паломников в эту местность, подверженную разбойничеству и насилию со стороны бедуинов.
Впрочем, взаимное незнание языков скоро нас смирило, и мы, проворно осмотрев монастырь, покорно отправились на Иордан. Можно подъехать совсем близко к реке и не видеть её священных вод, потому что оба берега густо заросли деревьями и кустами.
Было ещё рано. Чувствовалась свежесть и в воздухе, и в воде. Солнце хотя освещало землю, но не грело ещё тенистых берегов Иордана. Мутная, светло-серая река бежала очень быстро. От каждой свесившейся в воду ветки расходились две сильных струи. Для купания мы разделились попарно. У паломников составилось понятие, что окунаться голому в водах Иордана, освящённых крещением Господа Иисуса, не только неприлично, но и грешно.
Непременно надо прикрыть свою греховную плоть новой рубашкой. В Иерусалиме можно купить у некоторых русских паломниц специально для этой цели сшитое бельё из коленкора за весьма ничтожную цену. Таким я и запасся накануне отъезда на Иордан. Мой же спутник, почтенный семьянин, разоделся, как на праздник: всё нижнее бельё от рубашки до носков было сделано заранее в России по особому заказу из хорошего материала. Не забыт был и белый галстук.
 В день Богоявления на берегу Иордана
В день Богоявления на берегу Иордана
Всё было вперёд строго обдумано, потому что это бельё будет тщательно оберегаться до гроба, чтобы в нём представиться и перед судилищем Христовым.
Мы выбрали место для купания у более глубокого берега, среди нависших над водой ветвей. Товарищ опустился в воду первым и, держась за ветки дерева, окунулся три раза, а я в это время пел крещенский тропарь. Затем настала моя очередь. С большим трудом натянув на себя сшитое на живую нитку узкое бельё, я спрыгнул в воду и хотел выйти на более глубокое место, но с первым же шагом почувствовал, что мои ноги теряют почву: мягкий грунт на дне расступался под ними, а сильное течение влекло меня в сторону.
– С большой опаской, – предупреждал нас о. Дионисий, – купайтесь в Иордане. Не один раз тонули и хорошие пловцы.
Окунувшись три раза, я не рискнул поплавать на глубине и поспешил выйти на берег. Несмотря на сильные жары в долине, вода была довольно свежая. Воображаю себе, какова она должна быть в январе месяце, когда в воспоминание крещения Господня толпы паломников погружаются в Иордане при торжественном молебствии!
Наше купальное бельё мы развесили по деревьям для просушки.
– Теперь, – заметил мой товарищ, – его не следует мыть после освящения в иорданской воде. Вот ещё надо образа посвятить.
И он окунул в реке по три раза привезённые с собою небольшие иконы и крестики. Хотели в память из Иордана взять камешков, но их трудно было найти в глинистом берегу. Ограничились водой, налитой в бутылки, да палками из прибрежных растений. Араб-извозчик, увидев, как его недавний противник неумело старается выломать себе палку, поспешил отломать с другого дерева и поднёс ему. Эта зеленеющая палка в руках араба, как миртовая ветвь, как эмблема мира, выражала примирение. Русский же давно простил всё и только сожалел о своей гневной вспышке.
Закусив хлебом с отстоянной иорданской водой, которая показалась всем очень вкусной, мы поехали к Мёртвому морю. С каждым часом солнце припекало всё сильнее и сильнее, так что, когда мы подъехали к гладкому, как зеркало, морю, искупаться было бы очень кстати, но после Иордана никто из нас не рискнул испытать силу страшно едких вод. Берег усеян чёрными и белыми камешками. Но ни одного дерева кругом! Только вдали от берега виднелись низенькие солончаковые кустики.
 Мертвое море (Бахр-Лут)
Мертвое море (Бахр-Лут)
На вкус вода Мёртвого моря очень жгучая. Некоторые не рады были, что попробовали. Если на минуту опускали в неё руку, то она покрывалась тонким слоем соли. Вода настолько густа, что тело человеческое не может утонуть в ней.
Вернувшись в Иерихон, я вспомнил про Закхея и попросил отца Дионисия показать мне какую-нибудь смоковницу, одного вида с той, на которую влезал низенький начальник мытарей. Он привёл меня к большому роскошному дереву, с овальными, а не лопастными листьями.
– Это не похоже на обыкновенную смоковницу! – замечаю я.
– Да, это другой вид. На ней также есть смоквы, но мельче. В Евангелии это дерево зовётся сикомором.
В странноприимнице имеется книга для записей приезжающих. Некоторые не ограничились одними именами и названиями городов, откуда они приехали, но внесли и свои заметки. Мы же записали три молитвы, подходящие к месту, связанному с именами Иисуса Навина, пророка Елисея и, наконец, Самого Господа Иисуса Христа.
Когда мы, мирно разговаривая, закусывали перед дорогой, вдруг раздались со двора визгливые крики и плач женщины. Моментально мы все сбежали вниз. Здешний слуга из арабов бросился за ворота ловить кого-то. По этому поводу отец Дионисий рассказал нам много своих наблюдений о здешних нравах и порядках. Можно только удивляться, как ещё здесь люди осмеливаются гнездиться в селениях…
Наскоро осмотрев источник пророка Елисея, мы поспешили отправиться в Иерусалим, чтобы сегодня же добраться до него засветло.
В общем, дорога теперь шла всё в гору и гору, потому что Иерихонская долина ниже Иерусалима более чем на одну версту и, что замечательно, ниже уровня Средиземного моря немного менее 200 сажень.
После томительной жары в долине, нам показалось в горах довольно свежо. А когда зашло солнце, некоторые мои спутники даже озябли от развивающегося при езде холодного ветра. Такой резкий контраст ночной температуры после дневной жары!
Во все время дороги извозчик был очень тих и послушен. Потом мы узнали, что отец Дионисий сделал ему хорошее внушение, пригрозив консулом. А в Иерусалиме он и рта не разинул.
ГЛАВА 32. Мамврийский дуб и Хеврон
Поездка в Хеврон. – Ильинский монастырь. – Памятник Рахили. – Гора Фудерис. – «Крины сельные». – Дуб Мамврийский. – Потомки Авраама. – Город Хеврон. – Библейский тип еврея. – Гробница ветхозаветных патриархов.
Обыкновенно каждый православный паломник, приезжающий через Яффу в Иерусалим, считает своим долгом пройти в длину Палестину, от Галилеи до Хеврона, и в её ширину, от Яффы до Иордана, так сказать, перекрестить Святую Землю. Такой образ странствования указан самим Богом первому паломнику в обетованную землю – Аврааму, родоначальнику избранного народа и прародителю Спасителя мира.
«И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу… Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину её: ибо Я тебе дам её» (Быт. 13).
Следовательно, Господь велел Аврааму перекрестить землю Ханаанскую с севера на юг и с востока на запад. Место отделения Лота от Авраама, если не было в самом Иерусалиме, то, весьма вероятно, около него, потому что Иерусалим лежит к югу от Вефиля (Быт. 13,3) и на параллели устья реки Иордана, к которой устремился Лот.
В Галилее я уже был; оставалось мне, как Аврааму (Быт. 13,18), из Иерусалима «двинуться к дубраве Мамре, что в Хевроне».
Ко мне присоединились ещё три паломника, и мы вчетвером, наняв коляску у Яффских ворот, рано утром выехали из Иерусалима. День был ясный, солнечный. Дул небольшой ветерок. Всё предсказывало чудную прогулку.
Переехав Гинномову долину, мы быстро покатили на юг по Вифлеемской дороге. Справа от нас оставался железнодорожный вокзал, а слева – гора Злого Совещания. Прямо перед нами открывался вид на горы Иудейские.
Один еврей, которому нужно было попасть в Хеврон, насильно навязался к нам в качестве проводника и подсел к извозчику на козлах. Однако сведения его были очень скудны.
– Вот за этой горой, – говорил он, – будет Вифлеем, а там Бет-Джала, где русская школа для арабских девочек…
– А это, – спрашиваем мы его, – прямо по дороге что за здание?
– Греческий монастырь. Мы сейчас остановимся у него поить лошадей.
Действительно, вскоре наш возница подъехал к источнику воды. Мы вышли из коляски и направились к монастырю, связанному с памятью пророка Илии. За монастырской оградой виднелся большой масличный сад. По преданию, здесь отдыхал строгий пророк, когда он бежал от израильского царя Ахава.
Один из встретивших нас греческих монахов прочитал в церкви краткую молитву и дал нам поцеловать крест, причём, показывая на блюдо, очень понятно сказал по-русски:
– Давай! давай!..
За особую плату монахи записали наши имена для поминовения и одарили нас чётками из масличных косточек и бумажными образками российского изделия.
Следующая остановка была у каменного памятника Рахили с белым куполом. Эта «одинокая гробница вниманье путника зовёт» своей печальной историей. Здесь умирает мать при рождении ребёнка; здесь же, через девятнадцать веков, она плачет и рыдает, когда убивают её детей (Матф. 2,18).
Вскоре мы прибыли на распутье трёх дорог: вправо шла дорога в Бет-Джалу, влево – в Вифлеем, а прямо – в Хеврон. Мы решили посетить место рождения Христова на обратном пути в Иерусалим, а потому поехали прямо к городу ветхозаветных патриархов. Да и приличествует сперва побывать у святых праотец, а потом уже на месте рождения Сына Авраамова (Матф. 1.1), как и православная церковь перед праздником Рождества Христова сперва вспоминает Авраама, Исаака, Иакова и других прародителей Спасителя мира.
За Вифлеемом возвышалась вершина Джебель-Фуредис, царившая над соседними горами. Иосиф Флавий говорит, что наверху этой горы Ирод Великий построил себе дворец и город Herodia. Будто бы здесь он и погребён был. Замечательно, какое сочетание двух противоположностей на пространстве каких-нибудь шести-семи вёрст! С одной стороны, пышный дворец Ирода Великого на одной из горных вершин Иудеи; с другой – смиренные ясли Христа Спасителя в подземной пещере Вифлеема!
Предполагают, что гора Фудерис есть потухший кратер вулкана. В таком случае в своём «вознёсшемся до неба» (Матф. 2,23) Иродиуме Ирод Великий мог бы сказать в прямом и переносном смысле известную фразу: Nous dansons sur le volcan (мы танцуем на вулкане).
Во времена крестоносцев Джебель-Фуредис служила им сторожевым пунктом со стороны Идумеи. С тех пор она стала называться также горой Франков.
Близ известных Соломоновых прудов, высеченных в скалах недалеко от Хевронской дороги, мы опять вышли из коляски, чтобы собрать букет яркопунцовых анемонов, напоминающих своей окраской наш российский дикий мак. Палестинские анемоны в это время года, кажется, самый распространённый цветок в здешних краях. Из этих засушенных «крин сельных» монахини католических монастырей делают красивые венки и букеты, наклеивая их на картон.
В оживлённых разговорах мы и не заметили, как подъехали к месту древней дубравы, с которой предание связывает явление трёх ангелов Аврааму у священного дуба. Нам пришлось немного пройти пешком мимо садов, защищённых каменными оградами.
Около нас быстро собралась толпа арабских детей и русских паломников, прибывших сюда пешком с вечера. Подошла к нам и женщина арабка, заведывающая русской постройкой при Мамврийском дубе. Она любезно приветствовала и ввела нас в ограду достославного дерева, величественно раскинувшегося тремя толстыми стволами, как бы в указание явления на этом месте триипостасного Бога.
Один из моих спутников благоговейно склонился на молитву, а потом, поднявшись, восторженно воскликнул:
– Подумайте, Святая Троица явилась здесь на этом месте! Как свято оно! Не только в сапогах, но и без сапог мы недостойны входить сюда!
– Но ведь это, – заметил другой мой спутник, – не тот дуб, который видел Авраама и Сарру сорок веков тому назад. Ещё в четвёртом столетии по Рождестве Христовом предполагали, что видят только следы того дуба. А теперь, вероятно, и следов не найти. Да и здесь ли он рос, – это тоже надо доказать.

Мамврийский дуб. Фото нач. ХХ века
В это время арабские ребятишки поднесли нам тарелку с желудями. Они несколько толще, круглее и вообще крупнее российских. Предлагаемые жёлуди были собраны под соседними дубами. Тот наш спутник, который скептически отнёсся к предполагаемому месту Мамврийского дуба, усомнился и в самой породе дерева.
– Дуб, дуб, – поспешила заверить нас заведывающая этим священным местом.
– Ну, какой же это дуб, господа! – продолжал настаивать скептик. – Разве у дуба такие листья? Вы только взгляните, пожалуйста…
И он, быстро отломив маленькую веточку, показал её нам. Окружающие нас громко ахнули. Оказывается, что здесь запрещено срывать с заветного дуба листья и ветви. Конечно, случайно сорванная «ветка Палестины» была бережно привезена в Россию.
Действительно, листья палестинского дуба совершенно не похожи на своеобразные листья наших северных дубов. Они узки и с мелкими острыми зубчиками по краям; длина их не более одного вершка.
От великана дуба, развалившегося на три части, идёт роща молодых дубков до русского дома. Очевидно, это дети могучего старца… Проходя среди них по тенистой аллее, один из спутников заметил мне:
– Мы не сомневаемся, что все эти деревья потомки той священной дубравы Мамре, в которой когда-то раскинул свои палатки Авраам, как не сомневаемся, что кругом нас бегают настоящие «дети Авраама». Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, сказал Спаситель, не есть Бог мёртвых, но живых, потому что у него все живы. Внешние покровы дерева меняются, умирают, но само оно долго живёт. Так и род Авраамов. Тела его потомков, как листья с дерева, падают на землю, умирают, но дух их живёт и будет жить вечно.
Как бы в подтверждение его слов, хозяйка русского дома пригласила нас закусить с дороги и вполне напомнила библейскую Сарру своим радушным угощением и гостеприимством. В стенах её дома веяло каким-то особым миром, спокойствием. Сейчас здесь не было ни сутолоки многочисленных паломников, ни страстных движений и выкриков арабов. Полуденная тишина охватила и все окрестные сады. Мы взглянули в сторону города Хеврона, или Эль-Халиля, как называют его арабы. Под лучами горячего солнца белелись его скученные каменные дома, а ближе к нам темнели многочисленные фруктовые сады.
Хеврон – священный город в глазах евреев, христиан и магометан. Несмотря на свою близость к Мамврийскому дубу, Хеврон, однако, не входит в программу русского паломника. Но мы решили заглянуть и в этот древнейший город земного шара. Библия говорит, что он назывался прежде Кириаф-Арба, по имени одного великого человека из сынов Енаковых. Может быть, красная почва окрестностей Хеврона породила предание, что здесь была колыбель человеческого рода, – жилище первого человека Адама, взятого из красной земли, так как по-еврейски АДАМ значит ЧЕЛОВЕК и КРАСНЫЙ. Того же корня и слово ЗЕМЛЯ.
Когда мы с любопытством входили в первую столицу царя Давида, нас встретил красивый старец еврей с длинной седой бородой и радостно приветствовал нас по-русски.
– Вот вам прекрасный образец из времён Авраама, – шепнул мой спутник.
Оказывается, в молодости этот старец жил в России, но желание умереть на земле прародителей заставило его переселиться в Палестину.
– Скучаю я по России, – с глубоким вздохом произнёс он. – Хорошо там жилось! Не то, что здесь…
Сколько мы сумели, ответили на его расспросы о переменах в России.
Проводник привёл нас к мечети над местом погребения Авраама, Исаака, Иакова и их жён, но войти в неё нам, как христианам, было нельзя. Эта мечеть, по крайней мере, её стены, очень древней постройки. Одни относят её ко временам Ирода Великого, другие – к Соломоновым.
Мы осмотрели эту усыпальницу ветхозаветных пророков с разных сторон и отправились в обратный путь. Двое паломников из нашей компании несколько поотстали близ пруда, над которым были повешены убийцы Иевосфея, последнего царя из дома Саулова. Как раз в это время проходила толпа молодых мусульман, и она не преминула воспользоваться удобным случаем оскорбить гяуров. Отставшие паломники поспешили присоединиться к нам, и это обстоятельство ускорило наш отъезд. Может быть, общая жалоба на фанатичную свирепость здешних жителей и заставляет русских паломников избегать этот город, который при Иисусе Навине был предан заклятию (то есть, было вырезано «все дышашее» в нём). К тому же тут нет собственно христианских памятников. Впрочем, благодарю Бога, я лично не встретил со стороны здешних магометан никакой попытки к обиде и был очень доволен, что посетил Эль-Халиль, город Авраама, друга Божия (Эль-Халиль по-арабски значит друг Божий).
ГЛАВА 33. Вифлеем
Вифлеем. – Вождь Израилев. – Древняя базилика. – Место рождения Спасителя мира. – Вифлеемская звезда. – Назойливость греков. – Усыпальница Иеронима. – Вражда христианских исповеданий. – Деревня «пастушков». – Успокоение сомневающегося паломника. – Продажа перламутровых изделий. – Палестинская ночь.

Впечатления от Хеврона, перед поездкой в Вифлеем, как от чтения ветхозаветных паремий перед праздником, побудили нас вспомнить историю избранного народа от Авраама до Христа Спасителя. Вспомнили и пророчество Михея, обращённое к Вифлеему.
«Из тебя взойдёт Вождь, который упасёт народ мой Израиля».
До пророка Михея два вождя вышли из Вифлеема – Давид и Иоав. Процарствовав семь лет в Хевроне, пророк Давид был избран вождём над всем Израилем. Когда же он осаждал гору Сион, то пообещал первого, кто взойдёт на стены крепости, сделать главою и военачальником. Таким оказался Иоав, сын Саруи, а Саруя был из Вифлеема (2 Царств 2, 18, 32; 20, 23). И поставлен был Иоав «над всем войском Израильским».

Дорога на Вифлеем от Яффских ворот
Но не их имел в виду пророк Михей. Он провидел третьего истинного вождя Израилева и притом на вечные времена – Иисуса Христа.
Был вечер, когда мы подъехали к Вифлеему и направились по его узким и извилистым улицам к храму Рождества Христова. В противоположность Хеврону, Вифлеем – преимущественно христианский город. В нём насчитывают до десяти тысяч жителей, и большинство из них исповедывают Христа Спасителя. Говорят, что, как Матерь Божия оставила благословение назаретским женщинам – быть самыми красивыми в Палестине, так Иисус Христос дал подобное благословение мужчинам в Вифлееме. И в самом деле, все путешественники замечают красоту населения этих двух городов.

Рыночная площадь Вифлеема
Насколько царило оживление на искривлённых переулках и, особенно на базарной площади, настолько было тихо и пустынно в улице, куда выходила дверь храма Рождества Христова. Нас встретил греческий монах и повёл в древнюю базилику над «вертепом». Постройку её относят ко времени царя Юстиниана, но с тех пор она испытала на себе много невзгод, особенно при нашествии магометан. К ней прилепили свои постройки православные, католики и армяне; но греки отгородили от общей базилики каменной стеной алтарь в своё исключительное владение. Там нам отслужили краткий молебен. Потом по лестнице мы спустились в подземную пещеру, где благоволил явить себя людям Спаситель мира.
Здесь со мной повторилось то же самое, что было и в других святых местах Палестины. С раннего возраста, из рассказов, картин и чтения книг мы создаём в своём воображении известный образ пещеры: со входом сбоку, с естественными каменными стенами, с видом из неё на открытые поля и на необъятное небо, откуда, среди тысяч блистающих ангельских глаз тихо льёт свой кроткий свет чудная звезда Христова… В действительности совсем не то. Опустившись в вертеп, завешанный красноватыми материями с золотыми разводами, замечаешь с двух сторон свет лампад в нишах, а прямо пред собою – турецкого солдата с ружьём, для поддержания «мира на земле»…

Интерьер церкви Рождества в Вифлееме
Взглянув направо, я увидел на каменном полу, под лампадами серебряную звезду с известной латинской надписью: Hic de virgine Maria Iesus Christus natus est (здесь родился от Девы Марии Иисус Христос). Раньше я много слышал про эту звезду в Вифлеемской пещере, но не предполагал, чтобы она была так проста по работе и так мало отражала в себе небесную звезду! А казалось бы, сюда надо собрать все бриллианты земного шара, чтобы усеять ими Вифлеемскую пещеру…
Я склонился на колени и собрал все усилие духа, чтобы благоговейно обратиться к родившемуся здесь Спасителю мира, как вдруг слышу, кто-то дёргает меня за рукав. Я подымаю голову и с ужасом вижу на священной серебряной звезде только что положенную тарелку, я сбоку меня монаха-проводника, который показывает на неё и заискивающим голосом говорит: