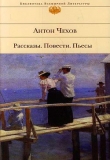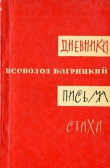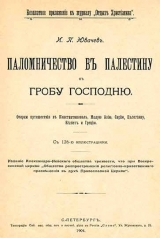
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
– Ну, а мне нельзя отсюда отлучаться, – и толстяк самодовольно отвернулся в сторону.
Огорчённый пассажир хотел жаловаться русскому консулу, но его уговорили другие этого не делать. К тому же русского консула в то время не было в Александрии: он уехал в Каир. Тут кстати рассказали ему множество примеров, как «русские туристы очень часто были оставляемы без защиты, и как, обратно, англичане гордятся, что ради одного обиженного человека их правительство готово бомбардировать город». Про паломников-простецов и говорить нечего. Те со своим русским языком не всякому русскому консулу могут и объяснить про своё дело.
Сколько я мог заметить, Александрия не понравилась нашим паломникам. Тут всё для них чуждо. Некоторые даже вспомнили здесь и духовное значение Египта, как страны насилия и рабства для народа Божия.
Один из грамотеев, повернувшись лицом к городу, с достоинством знатока пространно рассказывал крестьянкам, какие казни посылал Господь на Египет при Моисее. Бабы слушали и громко вздыхали. Но вот подходит к ним худощавый бледный странник с большими тёмно-карими глазами и, оперевшись о борт, стал тоже прислушиваться к рассказу.
– Всё это так-с, правильно вы рассказываете, – заметил странник лектору. – Но позвольте вас спросить, к чему это были казни египетские?
– Да ведь я только что сказал, что Господь наказывал ими египтян за то, что они не пускали евреев поклониться своему Богу…
– Так-с, правильно, – согласился странник. – А известно ли вам, что эти казни и посейчас продолжаются и будут продолжаться до скончания веков?
– Как это так? – с недоумением спросил грамотей.
– А вот-с, видите ли, теперь под Египтом надо разуметь всю землю, весь земной шар. Да-с! А египтяне – все люди, которые преследуют истинное благочестие и правду Божию. Господь за это их наказывает, посылает разные беды и напасти, а они этого не понимают. Вот вы говорили, что десять было египетских казней. Так-с! А позвольте спросить, которая теперь по числу идёт казнь на землю?
Грамотей ничего не отвечал и сам вопросительно смотрел на странника.
Меня заинтересовал толкователь судеб Божиих, и я подошёл к нему и стал расспрашивать, на основании чего он так говорит. Странник как будто только этого и ждал и разразился целым потоком текстов из священного писания. Он перебрал, чуть ли не всех пророков и очень часто поминал Апокалипсис. Потом вдруг и сразу оборвал свою речь и быстро отошёл на другой конец парохода.
ГЛАВА 41. На пароходе в Средиземном море
Обиженная паломница. – Помидоры – «яблоко раздора». – Теснота на палубах. – Запасы паломников. – Перевозка «святого огня». – «Афонская жатва». – Пассажиры первых двух классов. – Добровольцы англо-бурской войны. – «Корабль полон богослужения».
С выходом из Александрии на пароходе ещё теснее стало: прибавилось несколько классных пассажиров, а всю верхнюю площадку для прогулки завалили решётчатыми ящиками с помидорами. Палубные пассажиры поворчали про себя, но должны были уступить свои места (с выходом из Яффы им разрешено было занять часть верхней площадки) ящикам с овощами. Только одна пассажирка позволила себе неосторожно сказать во всеуслышание, что с огородной зеленью обращаются более нежно и внимательно, чем с палубными пассажирами. Как раз в это время проходил мимо один из помощников командира и услышал её замечание. Конечно, он поспешил доложить своему начальнику о выраженном неудовольствии пассажирки. Строгий командир, хорошо известный в южных морях по своим резким выходкам, приказал высадить её в Пирее.
Все пассажиры, услышав о таком распоряжении, были страшно возмущены, тем более что у некоторых из них тоже нашлись свои причины обижаться на оскорбительный тон командира.
Один офицер зная, что пассажирка приходится родною сестрою командующего военным судном{5}, бросился уговаривать помощника командира не оскорблять почтенную даму из-за каких-нибудь помидор.
– Согласитесь с тем, что нельзя же поставить помидоры в трюм: они там могут сопреть и испортиться – приводит свои резоны помощник.
– Я отлично понимаю, что зелёным овощам надо дозреть на солнце. Но ведь вы хотите сделать неслыханный скандал – высадить в иностранном городе русскую даму-паломницу!
– А зачем она возбуждает к бунту пассажиров?
– Вскользь брошенное замечание вы называете бунтом! Посмотрите на наших паломников: ведь это смиренные послушные овцы! Разве такие бунтовщики бывают?
Этот ли разговор, или общий гул сочувствия пассажиров к огорчённой даме дошёл до командира, только он своё поспешное приказание отменил, и дама была оставлена в покое.
Сравнительно с другими, режим на этом пароходе был чрезвычайно строгий. Народ был сдавлен и дисциплиною и пространством до возможных пределов. К нашему счастью погода была благоприятная, и невзгоды паломников не осложнялись ни качкою, ни дождём.
Я обошёл все палубы. Скученность всюду одинакова. Несколько просторнее в самом нижнем трюме, но зато здесь царил такой полумрак, что я, спустившись сверху, сразу ничего не разобрал.
Все паломники везли из Палестины запасы образов, крестов и других предметов поклонения. У многих крестьян священными предметами были наполнены целые сундуки. Тут были и больших размеров образа на кипарисовых досках, и мелкие крестики, связанные пачками (копейки по три десяток), и пучки травы, и склянки с водою, и освящённое масло, и камешки от святых мест, и погребальные покрывала, и священная земля в тряпицах… И чего-чего тут только не было! Конечно, многое из этого ими продастся в России. Торговля шла и тут на пароходе. Я сам прикупил несколько вещей для подарков знакомым. Всё это, как подлинное иерусалимское, страшно ценится в наших деревнях.
В трюме я заметил у некоторых фонари с лампадами. Это везут в Россию «святой огонь», или «благодать» Великой субботы. Они тщательно скрывают его от служащих на пароходе, потому что из опасения пожара на некоторых судах запрещено паломникам держать огонь. Воображаю себе, как тяжело должно подействовать на наших русских богомольцев насильственное тушение священного огня, который больше недели заботливо сберегался. А ведь, казалось, как легко избегнуть такого грубого оскорбления веры простолюдинов! Стоит лишь завести небольшую обитую железом каютку специально для огня и поручить следить за нею тем же паломникам. И пароходное общество от этого ничего не потеряло бы: можно взимать особую плату за место в каюте для огня. Но всё это уместно, конечно, на специальном пароходе для паломников, об устройстве которого я говорил раньше.
Как-то заходит ко мне в каюту один из наблюдательных пассажиров и говорит:
– Не желаете ли посмотреть на «афонскую жатву»;
– Афонскую жатву!.. Это что такое? – в недоумении спрашиваю его.
– Пойдёмте наверх! – потянул он меня за собою. – Примечайте, пожалуйста, за монахами среди паломников.
В самом деле, на палубе вокруг склонившейся над бумагою чёрной фигуры собралась группа женщин. Они диктуют монаху имена своих родных для поминовения на Афоне. Время от времени такие же группы собирались и около других чернецов.
Большинство афонских монахов, посещающих Палестину весною, посылаются своими монастырями со специальною целью собрать среди паломников побольше денег, что и удаётся им, особенно среди женщин… Может быть, недоступность для женщин Святой горы, как иносказательно величается Афон, ещё более возбуждает в них благоговейную любовь и страстное влечение к нему. Из распространённых на Руси благочестивых песен («духовные псалмы») ни одна так часто ими не распевается, как песнь об Афоне:
Гора Афон, гора Святая!
Не знаю я твоих красот,
Й твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод…
…………………
Я знаю, кто тобой владеет,
Кому в удел досталась ты.
Тебя хранит, тебя лелеет
Царица горней высоты…
и т. д.
В одном месте две женщины приготовляли окрошку для афонца. Они крошили лук и огурцы. Я остановился около них и спросил:
– А где же вы квасу возьмёте?
– Воду смешаем с апельсинами, – вот и квас! И как хорошо-то выходит! Не желаете ли попробовать?
Впрочем, среди паломников встретился монах совершенно иного типа. На баке сидел седой старец с приятными лучистыми глазами. Около него ухаживал молодой человек, довольно прилично одетый. Меня заинтересовала эта Парочка, и я воспользовался первым удобным случаем познакомиться с ними. Оказалось, почтенный старец, бывший офицер и помещик, по глубокому убеждению оставил мир, постригся в монахи и поселился в одном из сибирских монастырей. Между прочим, он искренно верит в легенду об известном старце Феодоре Кузьмиче и посвятил меня в новые подробности{6}, собранные им самим на месте жительства знаменитого старца.
Можно целый день ходить среди паломников и получать всё новый и новый интерес. Только одно препятствует долго оставаться среди них: непомерное множество насекомых. Довольно пройти по палубе между тесными рядами паломников, чтобы иметь не прошеных гостей на ногах. Бедные паломницы принуждены, на виду у всей публики, поочерёдно искать друг у друга в волосах…
Главная часть верхней площадки занята; прогуливающимися пассажирами первого и второго класса. Здесь замечается особенное оживление только что познакомившихся людей. А общество было чрезвычайно разнообразно: священники, офицеры, чиновники, коммерсанты, помещики, учителя и врачи. Здесь что ни встреча, то занимательный рассказ или даже целая эпопея.
Например, встречается доброволец, возвращавшийся с англо-бурской войны. Конечно, сейчас же его засыпали расспросами. И, к сожалению, пришлось нам немного разочароваться в самих бурах. По рассказам добровольца, собравшиеся авантюристы из разных государств были очень подозрительны по своей нравственности. Наши русские были лучше, но буры уж никому из иностранцев не доверяли. Это и побудило многих добровольцев вернуться в Европу, не дождавшись окончания войны.
Также интересны были нескончаемые рассказы возвращавшихся из Абиссинии охотников о бегемотах, леопардах, жирафах, страусах, обезьянах, змеях, крокодилах и других представителях тропической фауны.
Наслушался я ещё, как вести прибыльное хозяйство в Тамбовской губернии. Одним словом, тут каждый человек, вносит что-нибудь своеобразное в эти долгие часы над простором синих вод.
Между тем внизу, среди паломников, благодаря усердию афонских монахов, чередуются в разных углах палубы утрени, часы, вечерни, акафисты… Так что мой собеседник восторженно воскликнул:
– Корабль полон богослужения!
Даже в пассажирских каютах мне пришлось услышать гармоничное пение духовных стихов. Пели престарелый священник и два молодых офицера, знакомые с нотами. Умилительная картина! Бурскому добровольцу она напоминала недавно им покинутую Южную Африку, где геройские борцы за свою свободу и независимость также одушевлённо распевали свои духовные гимны на полях битвы.
ГЛАВА 42. Греция и Турция.
Остров Крит. – Синий цвет в мире. – Языческие идолы Афин. – Пирей. – Средства от морской болезни. – Опять в Смирне. – Мимо Сан-Стефано. – Константинополь – очаг политики. – Русская больница. – Школа и значение её на Востоке
От Александрии до Пирея, гавани Афин, куда мы держали свой путь, двое суток. Раньше, выходя из Эгейского моря в Средиземное, пароход проходил между островами Родосом и Карпато; а теперь, снова входя в Эгейское море, мы держали курс между Карпато и Критом. Заходили на минуту на остров «блаженных», как называли в древности Крит; но так как это было ночью, то мы ничего не видели и не могли полюбоваться снежною вершиною знаменитой горы Иды. Некоторые пассажиры и не знали, что мы останавливались у острова.
Ко мне подошёл с путеводителем в руках священник и, указывая на карту, сказал:
– Посмотрите, Крит есть южная граница древнего греческого мира, преграда, или стена Архипелага. За нею начинается язычество в самой обольстительной форме. Но на севере, в головах Архипелага, стоит, святой Афон! Куда да сподобить Господь благовременно и благоуспешно донестись и нам, грешным.
– Батюшка, – замечаю ему, – я сейчас не могу заехать на Афон: мне надо спешить в Россию.
– Ну, Господь с вами! И только: будет случай, – не преминьте заглянуть к инокам. Высокопоучительно житие их там!
Утром мимо нас потянулись один за другим синеющиеся острова.
– Отчего в мире так много разлито голубого цвета? – спрашивает молоденькая барышня у окружающих её кавалеров. – И море, и небо, и даже острова вдали – всё подёрнуто голубым или синим цветом.
– Оттого, – поспешил откликнуться более молодой её собеседник, – что мы на всё смотрим чрез воздух, который имеет свойство отражать голубые лучи…
– Совсем не то! – перебивает его другой собеседник барышни. – В голубом цвете надо усматривать символическое значение. Этот цвет, говорят, означает веру. А потому верою должна проникнуться вся наша мировая жизнь. Только на голубом поле, на фоне веры, красивы будут пёстрые цветы любви и надежды.
Барышня ему поклонилась:
– Благодарю вас! Вы мне даёте хорошую тему для вышивания.
Среди дня, при тихой и ясной погоде, мы входили в Сароникский залив. Все бинокли были устремлены вперёд. Побывавшие раньше в Афинах указывали остатки прежнего величия древнегреческого мира. Всех занимал главным образом Акрополь, высоко царивший над городом. В стороне виднеются Эгина, Саламин. Вспомнили морскую победу Фемистокла и его знаменитое «бей, но выслушай!»
Ко мне опять подошёл священник с путеводителем и кротко заметил:
– К чему нам, христианам-паломникам, поминать честолюбивого Фемистокла? Мне приходит здесь на память более величавый образ смиренномудрого апостола Павла, которого греки тоже не хотели выслушать и обругали спермологосом{7}.

Карта морских путей русского паломника в Палестину.
– Помню, помню, батюшка! Тогда он проповедовал в Афинах против греческих богов. Ведь в те времена, говорит Петроний, в Афинах легче было встретить бога, чем человека.
– Не бога, а идола! – поправил меня священник. – Неподвижных, бездушных, беззвучных богов не бывает. Обратите внимание, древние статуи обыкновенно без глаз, без этих необходимых зеркал души, тогда как на христианских иконах главным образом вырисовываются глаза. Подумайте, какая это глубоко знаменательная притча во языцех!..
В другое время я с удовольствием послушал бы словоохотливого священника, но сейчас мне хотелось так жадно, жадно впиться глазами в подробности раскрывавшейся картины. Общий гул восторга и громких замечаний стоял среди пассажиров на верхней площадке: мы входили в Пирейскую гавань. Вскоре загромыхала якорная цепь, и пароход остановился. Пассажиры первых двух классов тотчас же съехали на берег. Некоторые отправились по железной дороги в Афины.
Сегодня в Пирее праздник иконы Божией Матери Хризосфитиссы. Меня и двух священников греки зазвали в большой храм, разукрашенный живыми цветами. Собственно в Пирее нечего осматривать. Тут всё так обыкновенно для южного приморского города. Да и пароход стоял недолго. Паломники третьего класса вовсе не съезжали на берег.
Вечером мы опять поплыли по водам Эгейского моря и немного заколыхались. Одна барынька пожаловалась, что в греческом море её всегда укачивает, или физически грубо до морской болезни, когда оно бурливо, или в сладких поэтических грёзах, когда оно тихо и блещет восхитительнейшими красками в мире. Услужливые кавалеры наперерыв предлагали ей различные средства. Одни советовали положить горячий компресс на голову, другие – принять каломель.
Кто-то предложил носить во время качки красные очки, как предупреждающее средство от морской болезни. Но укачавшаяся барынька предпочла лечь в постель и спокойно заснуть.
Рассматривая красивые острова Архипелага, мы услышали от помощника командира интересные сообщения о греках-островитянах. Между прочим, он рассказал нам, что на острове Патмосе существует православный монастырь, но в его монаществующую братию могут попасть только коренные жители этого острова. Посторонних не принимают. Почти каждый патмосский старец делается монахом, не отказываясь совсем и от житейских дел. Их голос, как старейшин народа, имеет решающее значение в общественных делах острова. Турки не вмешиваются в самоуправление греков. Они довольствуются податью, лишь бы им исправно её выплачивали. Конечно, главный доход у жителей Патмоса, как и на других маленьких островах, от моря.
На другой день по выходе из Пирея, мы пошли поперёк Архипелага на восток между Цикладскими островами. Оставляя Спорады вместе с Самосом вправо, пароход пришёл в Смирну. Нельзя быть близ столицы Малой Азии и не зайти в неё! С проведением Багдадской дороги будущность этого города громадна, но и теперь он поражает своими торговыми оборотами. В нём всегда шумно, и днём и ночью. Нагрузка и выгрузка товаров. Движение караванов верблюдов. Извозчики, носильщики, торговцы. Все кричат, жестикулируют, горячатся. Здесь Европа и Азия, как два потока, сталкиваются между собою, пенятся, крутятся и рассыпаются тысячами брызг. Греки, турки, евреи, сирийцы, итальянцы, французы, англичане, немцы… Кого тут только нет! Впрочем, не в одной Смирне сталкивается Восток с Западом. Апокалипсис упоминает целую плеяду городов (Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия), где эта борьба выражена в мистических предсказаниях на все времена мира.
На этот раз мы недолго стояли в Смирне, и только пассажиры первых двух классов позволили себе удовольствие походить по многочисленным магазинам города. Наши дамы приценялись, кажется, ко всему, что видели их глаза, но ничего не купили.
Ночью мы огибали остров Митилену, а рано утром вошли в Дарданеллы.
На пароходе был один из участников перевозки русских войск в 1878 году из Сан-Стефано в Одессу. Он знает последнюю русско-турецкую войну не по книгам и газетам, а по многочисленным рассказам её героев. И теперь, проходя Мраморным морем, он занимал нас интересными эпизодами, особенно из времени последней стоянки русских войск в виду Константинополя. При этом негодованию его на всех тех, кто помешал тогда нашим войскам взять столицу турок, казалось, не было предела.
Я заметил, у всех часто плавающих в турецких водах развивается наклонность к политике. Впрочем, это и понятно: в «восточном вопросе» заинтересованы все европейские державы, а потому представители их, в лице посланников, консулов, драгоманов, каждый день здесь «делают политику». В Константинополе всегда можно услышать сенсационные новости и чрезвычайно тонкие хитросплетённые соображения относительно будущего положения дел. А с посольствами и консулами волей-неволей приходится сталкиваться каждому иностранцу в Турции, а, следовательно – и войти через них в интересы политики.
Вечером при тихой ясной погоде пришли в Константинополь и стали на якорь в Золотом роге.
На этот раз я последовал нашим паломникам и остался ночевать на пароходе.
На обратном пути в Россию немногие из паломников осматривают Константинополь. Из пассажиров третьего класса съезжают на берег только те, которым надо пересесть на другой пароход, чтобы отправиться на Афон. Меня и самого не тянуло повторить осмотр древностей Византии. Не мог, однако, удержаться, чтобы ещё раз не взглянуть на бывший храм св. Софии. Мне кажется, сюда можно приходить любоваться постройкою Юстиниана хоть каждый день – и не надоест смотреть.
В мечети, кроме немногих молящихся турок с поджатыми под себя ногами, мы заметили в одном месте большую группу взрослых учеников, внимательно слушающих толкование седого старика-учителя. На нас они не обратили никакого внимания, да и мы поспешили поскорей обойти учеников, сидящих на больших коврах, чтобы не мешать их занятию.
Ещё раз, взглянув с благоговейным восторгом на пятнадцатисаженный купол, с лёнтою многочисленных окон в основании его, мы простились с Айя-Софией и прошли на площадь Ад-Мейдан. Здесь мы снова осмотрели древний обелиск Египта, пирамиду Константина Порфирородного и Змеиную колонну, когда-то стоявшую в Дельфийском храме в память победы при Платее.
В Константинополе есть русская церковь, больница и школа. И всё это близко одно возле другого. На осмотр их я посвятил целое утро. Очёнь понравилась мне здешняя больница. Она щеголяет чистотою и порядком. При ней, кроме двух врачей, имеются сёстры милосердия из Покровской общины. Любезный доктор показал мне все палаты, аптеку и сделал небольшую характеристику о деятельности больницы за последнее время. Мне ещё раньше приходилось слышать похвалы ей от паломников, серьёзно заболевших во время путешествия на пароходе из Одессы в Константинополь.
Здешняя русская школа произвела не такое приятное впечатление, как больница. Мы пришли в неё в компании четырёх человек. Заведующий школою обошёл с нами несколько классов и предложил нам поэкзаменовать учеников. Большинство из них, кажется болгары. По-русски говорят неважно. Отвечают с трудом. Вызвали одного великовозрастного мальчика. Очевидно, он считается у них лучшим учеником. Но и этот лучший с трудом нам рассказал, при постоянных подсказываниях учителя, кто был Илия. Только и мог он из всех библейских рассказов об этом пророке кое-что передать, как он, был взят на небо, и как он оставил свою «шубу» пророку Елисею.
В одном классе мальчики пропели под фисгармонию известное трио Макарова: «Ангел вопияше блогодатней»…
По последним сведениям школа имеет теперь другое помещение, средства её значительно увеличены, программа более приспособлена к местным требованиям. Всё это, конечно хорошо, и надо только радоваться этому и искренно желать успеха, особенно теперь, с развитием латинской пропаганды на Востоке. Ни в чём так не успевают католики среди православного населения, как своими школами, с хорошим преподаванием иностранных языков. С ними конкурировать трудно. Вообще, запад обольщает здесь константинопольскую публику своею культурою и образованностью, а стремление быть европейцем вызывает нежелательные явления даже среди русских интеллигентных людей, служащих в древней Византии. Мне пришлось столкнуться с одним господином, который по своему положению обязан любить простой русский народ, но на самом деле он научился только презирать его. Он не стыдился передавать мне, что старается избегать какой бы то ни было встречи с паломниками. И если он говорит о них, то всегда с нескрываемым омерзением. Конечно, при таких радетелях русского дела на Востоке нам не выдержать борьбы с инославною пропагандою.
ГЛАВА 43. Афон.
Защита православия. – Погоня за богатством. – Слабость иноческого жития в городах. – Греческие келиоты. – Духовное значение Афона. – Поборы греков и турок. – Избранники Божий – Рассказ странника. – Благоговение народа к Афону.
Хотя наши афонские монастыри в своё время оказали щедрые пожертвования на русскую школу в Константинополе, но, мне кажется, этого недостаточно. Афон должен теперь выступить на более активную защиту православия, как это он делал в более древние времена. Афон велик и славен своими подвижниками, и уже тем он служит великую службу, что они являются среди него. Но в наше время монастыри должны выпустить своих борцов по всему Востоку для поддержания православия путём учебно-воспитательной деятельности среди греков, арабов и славян Турции. Ведь теперь монашествующие афонцы не ведут исключительно замкнутой жизни на своей Святой горе. Помимо помянутых мною раньше иноков с Афона в Палестине, мы их видим во множестве чуть ли не по всем большим городам России.
На возвратном пути из Иерусалима случайно я встретился с одним очень уважаемым афонским старцем. Он был свидетель старинной строгой жизни Афона, так трогательно описанной известным «Святогорцем», хорошо знает и современное состояние афонского монашества, и вот что он мне с грустью поведал об иноческом житии:
– С каждым годом аскетическая жизнь афонских монахов всё слабеет и слабеет… Сребролюбие нас заело. Прежде мы вполне довольствовались тем, что нам пришлют из России, теперь же мы высылаем целую армию для сбора пожертвований. В любом большом городе стоит лишь устроить подворье с церковью, как тотчас же потекут рекою деньги. Доходы большие, но какою ценою мы их приобретаем! Чтобы содержать подворье, надо иметь изрядный штат служащих, надо иметь сильных, молодых послушников, а главное – хор певчих. Вот тут-то и кроется зло. Молодой народ, живя в больших городах, не может оберечь себя от соблазнов. На него не действуют ни выговоры, ни наказания, ни даже угрозы прогнать его. Он легко находит место в другом монастыре или попробует свои силы на другом поприще. Если отошлёшь его на Афон, он и там находит возможным вести слишком соблазнительную жизнь для монаха, а то ещё хуже – развратить и других, более скромных. И что удивительно! Присылали на подворье исправных, испытанных на Афоне монахов, но и они в городах скоро портились. Тяжёлое, безвыходное положение!..
Старец вздохнул и поник головою. Я ему вполне верил, потому, что он знал афонские дела, как непосредственно принимавший в них самое деятельное участие. Он рассказал мне про огромные пожертвования известного благотворителя-миллионера Сибирякова{8} и о его жизни на Афоне. Коснулись греков.
– Представьте себе, – сказал мне в ответ старец на мои рассказы о святогробских монахах, – я о греческих келиотах более высокого мнения. Они, по-моему, больше монахи, чем даже мы, русские на Афоне. Нас, я говорю, обуяла золотая лихорадка. Они же довольствуются растущею около их келий маслиною и маленькими случайными пожертвованиями. Больших подаяний им неоткуда ждать. Они больше подходят к образу настоящего отшельника, чем мы, повторяю, занятые добычею денег.
Я был страшно поражён тогда этим сообщением. Афон всегда представлялся в моём воображении, как что-то особенное, исключительное среди монастырей всего мира. Туда идут люди, окончательно порвавшие все связи с мирскою жизнью. Это место непрестанной молитвы. Афон – это мост, соединяющий землю с небом, примиряющий людей с Богом. Моим духовным очам всегда рисовалась картина осенения Святой горы покровом Божией Матери{9}. Тут как бы двери рая, вход в Небесное царство и вдруг… мне говорят, афонцев потянуло в мир, к мамоне!
Случилось мне беседовать по этому вопросу ещё с другим афонским старцем. Тот не только не отрицал сообщений первого, но ещё прибавил кое-что от себя. Впрочем, этот оправдывал русских монахов тем, что они поневоле должны позаботиться о деньгах не для себя, а для греков, правящих всем Афонским полуостровом. В свою очередь греки жалуются на непомерные поборы турок. Как бы то ни было, но и те и другие посредством русских монастырей и келий на Афоне высасывают огромные суммы из России. Это обстоятельство, конечно, может оправдывать русских афонцев, но об утрате прежнего строгого иноческого жития надо пожалеть, потому что на первом плане стоит всё-таки высокое подвижничество монахов. На Афоне живут не все простолюдины. В настоящее время среди монашествующей братии есть много образованных людей. Меня очень радует, что афонские монастыри давно занимаются изданием духовно-нравственных книг по самым разнообразным вопросам. Я лично познакомился с одним интеллигентным афонцем, и вот что он мне сказал в оправдание современных монастырей:
– Как в земле, среди множества разнообразных металлов, сравнительно немного находим золота, так и среди многочисленной иночествующей братии очень мало встречается выдающихся подвижников. Взгляните на небо, и там вы мало замечаете особенно ярких звёзд. Таково положение вещей во всём мире. Слава Богу, если в каждом монастыре будет хоть по одному выдающемуся светильнику Божию. Вы того не забудьте, что в монастыре три степени иночества: послушники, монахи и схимники. Немногие достигают последней степени совершенства, большинство бьются на границах мирского жития, хотя и носят чёрное платье. И если бы весь монастырь работал исключительно ради этих немногих избранных «земных ангелов», то, право, он не заслуживает упрёка. Вы помните, что сказано про них в Писании: «ихже не бе достоин весь мир!» Апостол называет их «царским священством». В таком случае пусть монастырь будет дворцом для них, а мы все – их слугами. Право, не грех поработать для Божиих избранников, непредосудительно и дань собрать для монастыря со всех верующих в угодников Божиих.
Этот же почтенный инок рассказал мне и про афонские порядки. Он не обвинял турок, которые не вмешиваются в дела монахов, довольствуясь определённою данью; но не мог удержаться, чтобы не упрекнуть греков, составляющих Протат – местное управление афонцев.
Обыкновенно русские паломники остаются в восторге от пребывания на Афоне и говорят о его долгих всенощных, об общей трапезе с иноками, о суровом их посте с каким-то сладким умилением. Но случилось мне встретиться с московским странником, который, посетив Афон зимою 1895 года, остался им, к моему удивлению, очень недоволен. Это проглядывало у него в каждой фразе.
– Первого декабря, – говорил он, – мы высадились на Афон. Гостиник монастыря принял меня недружелюбно. Должно быть, ему не приглянулась моя худая одежда. Когда мы вдвоём обходили монастыри, к нам в пустынном месте подошли три грека-сиромаха{10}. И такие ребята ухватливые – молодец к молодцу! Они стали приставать к нам и просили денег. Но мой товарищ дал им хороший отпор, и они отстали. Когда я вернулся в русский монастырь, гостиник опять принял меня не по-братски, с большим нерадением. Вскоре он стал мне замечать, что я долго живу в их монастыре, и пора бы мне приискать себе место на Афоне…
И весь рассказ странника был в таком тоне. Но это, повторяю, исключительный пример. Большинство отзываются об Афоне с благоговением. А уж про женщин и говорить нечего! Афон для них «Святое святых», куда они и ступить не смеют.
ГЛАВА 44. Паломничество простого народа.
Впечатление народа от путешествия. – Рассказ поэта-крестьянина. – Стремление к паломничеству. – Ношение вериг. – Бегство из дому. – Труды странничества. – Проживание в Палестине. – Бегство от турок. – Палубные разговоры. – Значение паломничества для простого народа.
С отъездом на Афон небольшой части паломников, как будто стало попросторнее на палубе. Может быть, сама публика умялась и оставила узкие коридорчики для проходящих. Я воспользовался возможностью походить между паломниками и обошёл все трюмы. Мне хотелось узнать, какое, в общем, впечатление оставило путешествие в Иерусалим на наш простой народ.
Однажды случилось мне увидеть, как высокий, молодой странник, с бойкими глазами на рябоватом лице, склонился над книжкою и что-то внимательно записывал. Я полюбопытствовал, не дневник ли он пишет так усердно.