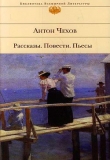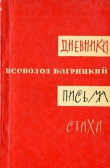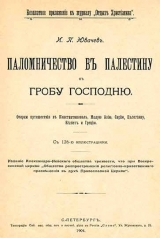
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Как не читать! – откликнулся купец. – Да, ведь, всего не запомнишь.
Я очень часто поражался, как наш народ слабо знаком не только с книгами Ветхого Завета, но и Нового. Даже грамотные набожные люди, и те выказывали большее знакомство с некоторыми богослужебными книгами, с житиями святых, чем с евангелием.
Понемногу мы стали взбираться всё выше и выше. Саронская равнина, а за нею синее море, стали закутываться лёгким туманом. Почва становилась всё более и более каменистой. Кое-где ещё встречались по склонам разработанные куски земли, но и они поражали обилием крупного и мелкого камня. Это вызывало немалое удивление со стороны русских хлебопашцев.
– Экий народ ленивый! – не выдержал купец. – У нас землю разделают, как пух. А тут, накось, смотрите!
Кто-то из бывалых в Палестине заступился за феллахов и самые камни на полях признал необходимыми.
Во всё время переезда народ усердно угощался апельсинами. Многим они утоляли жажду. У некоторых запасливых людей нашлась вода в чайниках. Удушье и жара не покидала нас и при въезде в иудейские горы.
Среди паломников находился один рясоносец с чёрным колпаком на голове, вроде скуфьи. Это был типичный русский странник по монастырям, со всеми атрибутами своей профессии, т. е. с длинными волосами, с котомкой за плечами, с чайником и с палкой в руках. Когда вошёл в вагон контролёр и стал проверять и считает билеты, то этот странник ловко уклонился в толпе. Контролёр, для проверки себя, стал считать пассажиров. Оказывается, одним больше.
– Кто не показывал своего билета? – обращается он через переводчика.
Всё молчат. Молчит и странник. Тогда контролёр снова стал проверять билеты. Некоторые из соседей странника говорят ему шёпотом, чтобы он спрятался вниз. Но тот сидит на своём месте и в тесной толпе опять ускользнул от внимания контролёра.
Одного билета не хватает! – раздражённо замечает контролёр по-французски. Я боялся скандала и хотел было предложить деньги за билет, но контролёр махнул рукой и скрылся. Чем дальше мы лезли в горы, тем безотраднее, бесплоднее, безжизненнее был вид их: камень, камень и камень. Это были не те монолитные гранитные скалы Финляндии, местами представляющие гладкие площадки на десятки квадратных сажен. Нет, здесь они как-то ужасно изрыты, и кажутся бесформенными ноздреватыми громадами, с массою отдельных камней на неровной поверхности. И всё это голо, без дерева, без кустика. Местами встречаются развалины – тоже серый камень. Унылая страна! Да ещё при таком палящем солнце! И вспоминаются мне пророческие слова Моисея: «И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земли под тобою – железом; вместо дождя Господь даст земле твоей пыль».
Я смотрю на наших паломников и думаю себе: ожидали ли вы такого вида от Земли Обетованной, текущей молоком и мёдом? Но паломники, кажется, больше заняты были высотою гор. Только там, где поезд делал крутую кривую, или пробирался по обсечённому скату горы, или нёсся по насыпи, они невольно выказывали своё удивление инженерному искусству.
День стал склоняться к вечеру. Скоро должен и Иерусалим показаться. Я заранее в своём воображении рисую картину, как такая масса паломников шумно начнёт приветствовать Святой Город, как женщины заплачут от умиления и, чего доброго, будут, как крестоносцы, целовать землю, освящённую ногами Спасителя, Божией Матери и апостолов.
Я вышел на площадку вагона, где, между другими пассажирами стоял русский немец, исполняющий здесь, в Палестине, роль гида для больших господ. Разговорились. Он рекомендовал себя, как единственного знающего проводника в Палестине, и резко подчёркивал, что здесь нет учёных проводников, хорошо знакомых с географией и историей Палестины. По дороге он мне указывал более или менее замечательные места и предупредил о близости Иерусалима. Впрочем, об этом можно было и без него догадаться по встречающимся всё чаще и чаще постройкам из камня.
Паломники завязали свои узлы, взвалили их на плечи и прижались к выходным дверям. Не успел я обратить должного внимания на указанные немецким проводником пункты, как сразу подкатили к Иерусалиму, с южной стороны его. Мелькнули его стены, башни, но всё тот же серый колорит.
На станции нас встретила толпа извозчиков, носильщиков, проводников… Пошла торговля, сделки… Я опять посетовал на железную дорогу. Где же эта умилительная картина встречи с Иерусалимом?!..
Ко мне подскочили два русских парня:
– Кладь у вас есть? – спрашивают меня.
– Есть, вот два чемодана. Да, вы тут что?
– Мы тоже паломники. А теперь желаем заработать что-нибудь.
Я отдал им свой багаж и в душе благодарил их. Мне не хотелось на первый раз въезжать в Иерусалим на извозчике, а потому я пошёл пешком за моими носильщиками.
Хорошая шоссейная дорога проходила вдоль Вади-ер-Рабаби (Гинномова долина), мимо еврейской колоти. Ради субботнего дня мы много встретили гуляющих евреев в праздничных одеждах. Тут я впервые увидел бархатные шапки, отороченные каким-то тёмным мехом. Лапсердаки и пейсы несколько длиннее виденных мною в России. От еврейской колоти по мосту перешли на другую сторону оврага, или вади, как здесь называют, и пошли вдоль западных стен Святого города, прямо на север, к «Русским постройкам» Палестинского общества. По дороге страшная известковая пыль. И без того-то всё серо, а эта пыль ещё больше придаёт однотонный колорит всем предметам. Даже небо и то от насыщения воздуха пылью кажется сероватым. На первый раз чрезвычайно грустное впечатление. Где же сады Иерусалимские? Где тот лес, который рос по соседним горам? Впрочем внизу, у подошвы Сиона, виднеются деревья и кусты.
Прошли довольно близко мимо Яффских ворот (Баб-ел-Халил). Здесь толпился народ, ослы, верблюды. Этот уголок напомнил ещё библейские картины. Далее с внешней стороны городских стен тянулись постройки, преимущественно магазины.
Паломники неудержимою толпою вошли, наконец, в улицу, которая заканчивалась воротами «Русских построек». Здесь мы встретили множество наших соотечественников, покупающих у торговцев свечи, масло, ладан, образа, кресты, книги, картины, а также – съестные припасы. Тут все торговцы говорят по-русски и с удовольствием принимают нашу монету.
Стало смеркаться, когда мы вступили в ограду русских построек, известных у паломников под именем «Палестины». Надо было пройти через весь двор, огороженный стенами, мимо больницы, дома духовной миссии, красивого собора и мужского корпуса. Через противоположные ворота мы выходим к конторе и гостинице с номерами. Здесь отобрали от нас паспорта и дали нам всевозможные указания и справки. Затем всех паломников пригласили в столовую, где священник отслужил благодарственный молебен.
ГЛАВА 13: Первые шаги в Иерусалиме.
В гостях у образованного араба. – Разбитая лампадка. – Жертвенник в Святой Земле. – Дорожный костюм. – Плодовитость земли. – Храм Гроба Господня. – Камень миропомазания. – Искушение веры
В России мне дали рекомендательное письмо к одному Иерусалимскому арабу, окончившему курс Киевской духовной академии. Он оказал мне чисто восточное гостеприимство, предложив в моё распоряжение свою квартиру и даже свою кровать. Кроме меня, к нему зашёл ещё один приезжий из России.
Любезный хозяин оставил нас вдвоём, а сам поспешил на вечерние занятия в контору. Я, несколько знакомый уже с обстановкой сирийских домов, вышел на небольшой дворик полюбоваться прекрасным видом на Елеонскую гору, а мой компаньон занялся осмотром внутренней обстановки комнат. Вдруг, он быстро выходит ко мне и говорит встревоженным голосом:
– Помогите мне исправить случившуюся неприятность.
– Да что такое? – спрашиваю его.
– В углу спальной теплилась у него лампада на столе, и тут же стояли прислонённые образа один под другим. Я взял один образок в руки, а другие скатились на лампадку, сдвинули её, и она упала на пол и разбилась. Разбилась и стеклянная подставка под лампадой. Всё это я могу, конечно, сейчас купить, но меня угнетает самый факт: не успел оставить нас гостеприимный хозяин одних, как мы сейчас же причинили ему неприятность; кроме того, разбитая лампадка в первые минуты моего приезда в Иерусалим сильно меня смущает, как вещее предзнаменование.
Я успокоил его, как мог, и предложил ему сейчас же пойти в лавку и купить стаканчик. И не только стаканчик, – мы скоро нашли и красивую подставку, и масло, и поплавки – одним словом, всё, что нужно для лампадки. Когда он зажёг её, я весело заметил своему товарищу:
– Ну, вот видите: «знамение-то ваше во благо» стало! Вспомните, когда Авраам или Иаков входили в эту обетованную землю, то прежде всего, что они делали? Ставили жертвенник! Это даже и узаконено в Библии самим Богом! Поэтому евреи, входя в Палестину из Египта или из Вавилонского плена, прежде всего воздвигали алтарь. Вот и вы: не разбей случайно лампады, вам бы и в голову не пришло устраивать этот жертвенник.
– Да, да! – вдруг обрадовался он, – это закон общий для всех людей, когда они вступают не только в Палестину, а вообще на нашу грешную планету. Ведь появление каждого младенца на свет Божий сопровождается по закону тоже жертвою. Да, чего лучше! Общий родоначальник наш Ной, когда после сорокадневного плавания в ковчеге вышел из него на землю, то прежде всего воздвиг жертвенник.
Вскоре пришёл хозяин дома и мы втроём стали обсуждать план нашего путешествия по Палестине. До Пасхи оставалось три недели. Страстную решено провести в Иерусалиме, а до тех пор объехать Самарию и Галилею. Кстати приближался назаретский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Хозяин, как знакомый с порядками, посоветовал отправиться в Галилею круговым морским путём через Кайфу, а оттуда с караваном через Сихем в Иерусалим. Он дал нам адреса и рекомендательные письма и убеждал не мешкать.
Мне нравился намеченный маршрут, потому что он давал нам возможность осмотреть не только все места в Галилее, куда обыкновенно проникает пешком наш русский паломник, но познакомиться ещё с прибрежною полосою Палестины и с Кармилом, этою знаменитою горою пророка Илии. Я предложил отправиться через день, чтобы прежде успеть посетить Гроб Господень и вообще осмотреться в Иерусалиме. Мой товарищ по путешествию был со мною вполне согласен, но у него были ещё и другие причины отложить поездку на один день. Между прочим, он хотел запастись летним костюмом на дорогу.
– Господа, мой совет, – заметил нам хозяин, – непременно вам надо запастись тёплым платьем на дорогу, потому что придётся вам иногда путешествовать и по ночам. А теперь так легко простудиться на ночлеге под открытым небом, особенно после сильно знойного дня.
– Я хотел ехать без багажа, а теперь придётся везти и тёплое платье! – с горечью воскликнул мой компаньон. – Ну, а как же местные жители: неужели у них по две перемены платья? Одно – для дневного времени, другое – для ночного?!
– С местными жителями себя не сравнивайте: они здесь родились, да и костюм у них приспособлен и к здешнему зною, и к ночным холодам. Бедуины завернутся с головой в свой шерстяной аба и спокойно ночуют на земле. Но этот же плащ защищает их от пыли, да и солнце не так сильно жжёт спину.
– Отлично! Тогда я наряжусь бедуином, – решил мой товарищ и попросил свести его завтра, в магазины восточного платья.
Мы вышли в небольшой сад, огороженный каменным забором. Ни малейшего дуновения ветра. Темно настолько, что не различаешь дорожки среди тёмных кустов.
– Удивительно – замечаю я, задевая кусты и деревья, – как тут ухитряются что-либо вырастить на камнях!
– Вот вы, – сказал хозяин, – проезжали по железной дороге и видели кругом один только голый камень, но попробуйте, дайте ему воды, и вы будете поражены обилием плодов. Про эту каменистую землю и теперь можно сказать, что она «течёт молоком и мёдом». Только приложите небольшое старание.
На другой день, рано утром, первою мыслью нашею было поспешить ко Гробу Господню. Любезный хозяин сам повёл нас мимо многочисленных иностранных построек к северо-западному углу Иерусалима. С этой стороны как-то незаметно для себя мы очутились в стенах города. Несколько поворотов по узким переулкам, и мы скоро вышли на небольшую площадку перед храмом Воскресения.
Вот они хорошо знакомые по фотографиям две двери! Правые заложены, а левые открыты настежь. Я приготовился к обычному на Востоке при всяком случае выспрашиванию бакшиша, но к моему удивлению и удовольствию турецкая стража не обращала никакого внимания ни на входящих, ни на выходящих.
Вступив в таинственный полумрак огромного храма, я сразу забыл всё внешнее мирское: передо мною восстала высочайшая святыня, какая только существует для христиан на земле. Мой путеводитель, учёный араб, быстро прошёл вперёд, распростёрся перед большим розоватым камнем, лежащим на полу, и поцеловал его. Я последовал его примеру.
– Камень миропомазания, – сказал он мне коротко.
Этот камень, окружённый гигантскими свечами на высоких подсвечниках, служит, так сказать, введением к поклонению святых мест. Ему же дают и последнее лобзание, уходя из храма. Ещё бы! На этом камне лежало тело Спасителя, когда Иосиф и Никодим повивали его плащаницею с ароматами.
Но тут у меня в голове прокрадывается скептическая мысль: если учёные археологи оспаривают подлинность Голгофы и самого Гроба Господня, то можно ли поверить, что сохранилось предание о камне, на который возложили снятое с креста тело Спасителя?
Я остановился в раздумье. А сколько ещё дальше будет указано разных святых мест и предметов! И что же – всегда сомневаться и отрицать достоверность предания? Хочу верить. Но где взять веру?
– Господи, – помолился я, – помоги моему неверию!
Да, этот камень воистину пробный для паломника. Вот у простецов нет никакого сомнения. Ничтоже сумняся, бац в землю и горячо целуют камень. Иной не удовлетворится одним местом, перецелует камень во всех углах. И у них есть основание.
– Вы почему думаете, что на этом камне совершилось миропомазание тела Иисуса Христа?
– Святые отцы положили, так и нам предали.
– А они откуда узнали об этом?
– По откровению от Бога и Его святых ангелов.
Против такого довода нельзя спорить. Действительно, только остаётся одно: поверить.
Впрочем, разве можно сомневаться, что этот камень святой? Разве пролитые на нём слёзы и миллионы поцелуев с искреннею верою и любовью не освящают его? Разве горячие молитвы над ним в продолжение веков не делают его святым для последующих веков? Наконец, разве этот камень, откуда бы он ни был взят, не есть настоящий жертвенник беспредельной любви людей к своему Спасителю?.
С облегчённым сердцем я ещё раз склонился перед камнем миропомазания и горячо приложился к нему с молитвою апостолов:
– Господи! приложи нам веру.
ГЛАВА 14: У гроба Господня.
Ротонда и кувуклия гроба Господня. – Придел Ангела. – Снимание обуви. – Гроб Господень. – Церковь Воскресения. – Место стояния Божией Матери. – Как слагаются легенды. – Голгофа. – Сокровенность Ковчега Завета. – Служба в русском храме.
Из обширного предхрамия, где лежит камень миропомазания, я отправился вслед за своим приятелем-арабом в храм Гроба Господня. Мы вошли в высокое круглое здание, служащее как бы футляром, ротондою для маленькой часовни, или кувуклии, как её называют греки. В ней имеются два отделения: в первом находится известный камень, отваленный ангелом от гроба; во втором – самая пещера Гроба Господня.
В ротонде толпился народ, ожидая очереди войти внутрь кувуклии. Присоединился к нему, и я со своим спутником. У входа стоят высокие подсвечники с пятиаршинными свечами. Тут же торчат гигантские палки, которыми тушат и зажигают эти свечи. Мраморные стены кувуклии украшены иконами, свечами и лампадами. Каждое вероисповедание – православные, католики, армяне, копты – имеют свои особенные лампады или свечи.
В придел Ангела пробрались мы скоро. Здесь народ ещё больше теснился, осаждая низенький вход в пещеру гроба. Посреди придела, как бы на пьедестале, стоить камень, от дверей пещеры. Вероятно, часть камня, потому что он не так велик, как об этом известно из Евангелия. В боковых стенах придела прорезаны два круглых отверстия для передачи святого огня в Великую Субботу.
Мне приходилось читать, что прежде паломники не осмеливались входить в сапогах в пещеру Гроба Господня, но теперь, сколько я мог заметить, почти все туда лезут, не снимая обуви. Если Господь велел Моисею на Хориве и Иисусу Навину близ Иерихона снять свою обувь, потому что они стояли на святом месте, то, конечно, для нас, христиан, тут и вопроса не может быть, входить ли в пещеру Святого Гроба в сапогах или без сапог. И что удивительно: мы, христиане, чрезвычайно послушны туркам и снимаем свою обувь, входя в их мечети, а место своей величайшей святыни мы топчем своими грязными сапогами!
Повинуясь первому побуждению, я моментально сбросил свои ботинки и, низко согнувшись, чтоб не задеть головою резных украшений над входом, пролез в маленькую пещеру, около сажени длиною. Зараз в неё не входят более двух – трёх человек, иначе не повернёшься. В глубине пещеры стоял греческий монах с тарелкой и с сосудом розовой воды. Самый гроб представляет каменное ложе, покрытое расколотою пополам мраморною доскою. Над ним висят лампады и образа.
Когда мои предшественники дали мне подойти к Гробу, я, весь охваченный сознанием страшной святыни, благоговейно прильнул к священному камню и прослезился. Тут мне хотелось сразу сказать все свои молитвы, все тайные просьбы души, хотелось помянуть отца и мать, всех родных и друзей, здесь хотелось прикосновением к святыни освятить своё лицо, руки, всего себя. Как будто бы стоишь пред самим Христом, и Он говорит тебе: «проси в эту минуту всё, что хочешь: Я исполню». Но минуты у Гроба Господня коротки: тысячи людей ждут у входа, чтобы заменить тебя. Надо выйти.
Получив от монаха кропление розовой воды на руки и положив ему монету, я попятился из пещеры задом в согбенном виде. Надо удивляться, как относительно хорошо ведут себя здесь наши паломники! Если бы они с такою стремительностью, с какою прикладываются, например, за всенощной на Вербное воскресение, хлынули к входу в пещеру Гроба Господня, то они не дали бы никому выйти наружу. Но этого на самом деле не происходит. Теснятся, но выйти можно. Конечно, тут имеет значение, с одной стороны, сознание важности святыни, с другой – ограниченное пространство придела Ангела, так, что вся масса народа волей-неволей стоит вне кувуклии.
Со сладостным сознанием достижения главной цели паломничества я стал осматривать церковь, лучше сказать, собрание церквей. Прямо против входа в Гроб Господень – главная церковь Воскресения Христова, принадлежащая исключительно грекам. Она совершенно изолирована от всех других приделов, занимая срединную часть громадного храма, окружённого со всех сторон многочисленными пристройками. Церковь Воскресения богато разукрашена множеством висячих лампад и паникадил. Из них многие пожертвованы русскими так же, как и вызолоченный четырёхъярусный иконостас. Вокруг церкви кольцом тянется полусветлый, а местами и совсем тёмный, коридор с небольшими открытыми приделами в память лиц и событий, связанных со страстями Христовыми; например, в память сотника Лонгина, свидетеля смерти Иисуса Христа, в память разделения риз Господних, в память возложения тернового венца и др.
Когда я осматривал придел в память Матери Божией, близ темницы Иисуса Христа, подходит к нему очень скромно одетая русская паломница и обращается к одному из толпы молящихся:
– А тут, батюшка, что было?
– На сём месте стояла Пресвятая Богородица и плакала, когда распинали её Сына, – ответил её сосед и прошёл дальше.
Подходит к ней другая женщина и спрашивает её:
– Что тут такое?
– А вот видишь, – быстро заговорила только что просвещённая паломница: – на этом камне стояла Матушка Царица Небесная и плакала, когда жиды распинали Иисуса Христа. И слёзы-то, вот видишь, падали на этот камень и выбили на нём крестик.
Она показала на недавно выбитый крест на камне из крупных точек. Я поражён был, как скоро на моих глазах сложилась легенда. Один сказал, что тут плакала Божия Матерь, а другой уже прибавляет, что слёзы оставили на камне знаки. Толпа сдвинулась около этого места, рассматривая крест, переспрашивала о нём сказание, молилась, ставила свечки и даже плакала. А потом все эти поклонники в простоте сердечной разнесут по всей России сказание о слёзах Богородицы… Попробуйте-ка разубедить их! Да и та паломница, которая первая придумала сопоставить слёзы Божией Матери с выбитыми точками на камне сама уже верит в свой собственный рассказ. И это понятно здесь. За десять тысяч вёрст люди собрались сюда, как в страну чудес и дивных сказаний о пребывании Самого Бога на земле. Здесь каждое повествование, каждое предание непременно должно быть облечено в форму диковинных, изумительных легенд. Бесполезно, да и невозможно было бы разрушить этот фантастический мир, в котором дышат наши паломники; вот почему я и не порывался разоблачать новое «чудесное сказание». Пришлось с грустью отойти к следующим святым местам, чтобы выслушать новые предания, не менее чудесные по своему содержанию. Около католической капеллы нам показали место явления Иисуса Христа Марии Магдалине. И место, где стояла плачущая Мария также обозначено на каменном полу кружком.
Недалеко от камня миропомазания был вход на каменную лестницу Голгофы. Многие воображают что место, где стоял крест Господень, сохранило ещё вид холма. На самом же деле мы видим комнату как бы во втором этаже храмовой пристройки, с небольшою частью естественной скалы, обсечённой с боков и снизу и прикрытой стенами окружающих комнат.
Мой спутник стал на колени пред отверстием Креста Господня и просунул туда кисть руки, а затем перекрестился ею. Я сделал то же самое и отошёл немного в сторону, чтобы вознести молитву Спасителю мира, пострадавшему здесь за грехи наши.
Протестанты склонны видеть Голгофу в другом месте – к северу от Дамасских ворот (Баб-ель-Амуд); но их доводы в настоящее время ещё не настолько сильны, чтобы поколебать веру православных и католиков в заповеданное веками место смерти и воскресения Искупителя. Это правда, при взгляде на карту, храм Гроба Господня занимает почти срединное положение Иерусалима в настоящем его развитии. Если радиусом в триста сажень обвести круг около главных современных построек города, то центр его ляжет на место храма Гроба Господня. Однако надо помнить, что рост Иерусалима всё время идёт быстрыми шагами на северо-запад; в старину же было не так. Очень недавно нашли остатки стены и массивного порога ворот, которые показывают, что православная Голгофа находилась в то время вне городских стен.
Припоминаю по сему поводу мой разговор с одним учёным богословом.
– Зачем вы допытываетесь, – говорил он мне, – где именно находится святейший Гроб Господень? Если Ковчег Ветхого Завета сокрыт Божиим повелением от наших очей, то что удивительного, если Господь скрывает и место своей смерти и воскресения, так сказать, Ковчег Нового Завета? Можем ли мы, грешные люди, с подобающею святостью отнестись к месту, где лежало святейшее тело Господне? Погодите: в последнее время, как предсказал Иоанн Богослов в Апокалипсисе, откроется людям Ковчег Завета, откроется и живоносный Гроб Господень.
Я ему мог на это только сказать:
– Правда, в прежнее время наказывалось смертью одно прикосновение к Ковчегу Завета. Но то было до Иисуса Христа. Спаситель же наш пришёл не губить, а, спасать человеков, как об этом Он Сам говорит. А потому, прикосновение к святейшему Гробу Господню теперь не убивает, а освящает и спасает людей.
После утреннего завтрака обедню мы отстояли в русском храме Св. Троицы, где служило наше духовенство, составляющее здесь Иерусалимскую православную миссию. Миссия состоит, кроме её начальника архимандрита Александра, из шести иеромонахов, трёх иеродиаконов, шести монахов, одиннадцати послушников, регента, восьми певчих и драгомана{4}. Раньше, до образования православного Палестинского общества, наша духовная миссия, в лице её ныне усопшего архимандрита Антонина, проявила чрезвычайно плодотворную деятельность и создала несколько чисто русских мест в разных углах Палестины; но теперь она почти исключительно занялась церковными службами и требами. Заботы о материальных нуждах паломников о содержании русских мест, о поддержании православия среди единоверных нам туземцев-сирийцев с 1882 года высочайшею волею были возложены на Палестинское общество.
Я не стану описывать ни храма Св. Троицы, ни церковной службы в нём: здесь всё было так же, как и в России. Сколько я мог заметить за своё пребывание в Иерусалиме, наш русский храм всегда был полон паломниками. Им, конечно, нравилась понятная и неспешная служба, да и близко было: храм занимал срединное положение в участке русских построек.
ГЛАВА 15: На месте Соломонова храма.
«Святое Святых». – Гостеприимное дерево. – Страстной путь. – Болгарин-истолкователь. – Выманивание денег мусульманами. – Священная скала. – Соломонов храм. – Своды подземелья. – «Остаток Израиля». – Мечеть Эль-Акса.
Ещё с утра в этот самый день, т. – е. в воскресенье, 19-го марта, в конторе русских построек в Иерусалиме объявили подписку желающим посетить «Святое Святых», или мечеть Омара и ограждённый двор при ней. Для паломников, конечно, не интересны мусульманская мечети, но им дорого то место, где стоял священный храм Соломонов, а главное – где находилось «Святое Святых», в которое имел доступ только первосвященник и при том только один раз в год. Сколько я мог заметить, русский богомолец постольку чтит библейская места, поскольку они связаны с новозаветными событиями. Так, при воспоминании храма Соломонова, они не говорят о том, что в нём стоял Ковчег Завета, что в нём являлась «Слава Господня» и др. Нет, они приурочивают к «Святому Святых» главным образом священное предание о вхождении в него Божией Матери.
Желающих посетить это святое место оказалось не мало. Каждый должен был предварительно внести в контору Палестинского общества небольшую плату, потому, что заведывающие мечетью Омара пускали в неё христиан только за деньги.
После посещения Гроба Господня меня особенно тянуло увидеть место храма Соломонова, в доподлинности которого не может быть никакого сомнения. Я тоже записался в конторе, и мне выдали, как и всем, билетик для свободного прохода в мечеть Омара. По числу этих билетиков Палестинское общество платило туркам договорённую плату.
После обеда объявлено было, чтобы все записавшиеся на осмотр «Святого Святых», собирались к гостеприимному дереву, около мужского подворья. Это дерево, очень красивое и раскидистое, всегда привлекает под свою тень массу паломников для отдыха и бесед. Здесь происходит перепродажа вещей их, здесь можно услышать пророческую проповедь о кончине мира, здесь же собираются и караваны богомольцев.
Когда собралась толпа приблизительно сотни в две паломников, черногорец-кавас повёл её через весь город, мимо храма Воскресения, к мечети Омара. Часть дороги проходила по так называемому «Страстному пути». И в настоящее время к нему применимо название «страстной», потому что до сих пор нельзя пройти здесь спокойно, без содрогания, при виде такого множества слепых, прокажённых, увечных и вообще страдающих от разных болезней людей. Все они шпалерами вытянулись вдоль улицы и отчаянно вопят о милостыни.
– Яслабу!.. Яслабу (т. е. я слепой)! – чаще всего слышится среди общего шума. Но если вы остановитесь и окажете, внимание одному убогому человеку, вас мигом окружит толпа нищих с протянутыми руками.
Перед стеною обширного двора Омаровой мечети произошла задержка. Посылали извещение о паломниках магометанским властям. Тут я заметил горбатенького болгарина-монаха, который присоединился к нам в качества проводника и истолкователя святых мест. Я уже имел случай послушать его беседы. Он изъясняется довольно свободно по-русски и приобрёл большую сноровку в обращении с нашими паломниками. Прежде чем начать объяснение, он немало потратил слов на призывание к тишине, пересыпая свою речь всевозможными прибаутками и остротами. Ему, как видно, надоело ждать перед воротами, и он, энергично поговорив с кавасом и с турецкими солдатами, смело двинулся вперёд, а за ним вошла во двор вся толпа. Это, сколько я мог заметить в своём путешествии по городам Сирии и Палестины, чисто восточный приём с разными задержками и препятствиями.
Мечетью Омара я уже любовался издали. Собственно в ней красива верхняя часть и особенно – купол. Это не византийские полушария или наши старинные луковки на вытянутых шейках. В грандиозном куполе мечети поражаешься сколько гармонией, столько же красотою и благородством линий.
При входе в мечеть нам подали мягкие туфли и чехлы для сапог – бабуши. Кто оставлял свои сапоги у дверей, а кто их брал с собою под мышку. Пользуясь суматохой, некоторые женщины вовсе не надевали бабушей и проходили свободно среди других паломников, скрывая длинным платьем свою обувь. У дверей – толпа магометан. Они бесцеремонно хватают каждого и отбирают билеты на пропуск. Вторые и третие ряды турок грубо требуют бакшиш, особенно от паломниц. Не подозревая, что это незаконное насилие, некоторый дают им деньги. Я поспешил за болгарином, чтобы послушать его объяснений. Многие, в особенности простые женщины разбрелись по мечети и продолжали отдавать дань туркам. И как грубо они эксплуатируют религиозное чувство наших паломников! Забежит перед толпою женщин молодой турок и, указывая на первую попавшую колонну, скажет им:
– Христос, Христос!
Бабы целуют камень и дают турку парички. Далее он покажет ближайшую стенку и скажет им с нескрываемой ехидной улыбкой:
– Мария, Мария!
И опять летят ему в руку парички. И это в магометанской мечети, построенной спустя шесть-семь веков после евангельских событий.
Внутренняя отделка мечети чрезвычайно богата и красива при эффектном освещении через цветные стёкла гигантских окон. Конечно, самою дорогою, святынею в ней была священная скала, на которой стоял жертвенник при Соломоновом храме. Потому и мечеть эта великая святыня в глазах мусульман, обыкновенно зовётся в Иерусалиме Куббет-эс-Сахра, т. – е. «Купол скалы».
Наш толкователь, горбатенький монах, остановился около священной скалы, выждал, когда столпившийся около него народ успокоился, и начал повествовать о святом месте горы Мориа, на которой мы находились. Его объяснение не шло дальше русских брошюрок для народа о святых местах, но спасибо ему и за это. Приятно вспомнить, хоть вкратце, повествование о каком либо событии на самом месте его происшествия. Только неприятно резало ухо его сказание, без всяких оговорок, что на сём камне Авраам возложил Исаака для жертвоприношения. тогда как утром в Авраамиевском монастыре (близь храма Воскресения) тем же паломникам он указывал другое место, обозначенное на камне чёрным крестом, где также Авраам приносил в жертву своего сына.