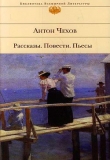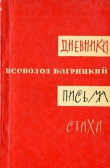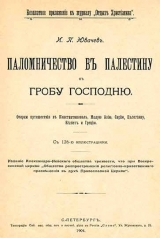
Текст книги "Паломничество в Палестину"
Автор книги: Иван Ювачев
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

1905 г. Толпа паломников и турецких воинов ожидает схождения Благодатного Огня на площади перед входом в храм Гроба Господня
Вечером целой компанией мы отправились в храм Гроба Господня, где ради Великой пятницы происходят торжественные богослужения у греков, армян, коптов и сирийцев, то-есть у всех восточных христиан, празднующих Пасху одновременно с нами. Главная масса народа в это время была на Голгофе. Поднялся и я туда с одним русским офицером. Отсюда мы заметили открытую дверь с лестницей куда-то наверх.
– Смотрите, – сказал мне мой спутник, – туда народ идёт. Пойдёмте и мы!
Лишь только мы добрались до верха тёмной и грязной лестницы, как останавливает нас молодой грек в феске.
– Билеты!
– Билетов у нас нет, – отвечаем.
– Нельзя!
Офицер, ни слова не говоря, быстро сунул ему в руку серебряную монету и прошёл. Я сделал то же.
Мы были на чердаке храма в его юго-восточном углу. Сюда ещё доносился шум из греческой церкви Воскресения, но ротонда Гроба Господня, где собственно происходит «схождение чудесного огня с неба», была совсем далеко. Тем не менее среди ужасной грязи и, вероятно, никогда не убираемой пыли, сидели сплошной массой наши паломники. Среди простого народа я увидел знакомое лицо русского землевладельца.
– Георгий Михайлович! и вы тут?! – с удивлением восклицаю я: – что же вы отсюда увидите? И неужели вы будете терпеть здесь эту грязь и насекомых целые сутки?
– Я уже решил. Что ж, один-то раз в жизни можно потерпеть для Господа.
Моему удивлению не было границ. Какую надо иметь веру, чтобы дожидаться здесь целые сутки, не пивши, не евши, среди грязи и пыли и не сходя с места! С такой верой, думаю себе, эти тысячи паломников способны не только огонь низвести с неба, но и горы сдвинуть с мест своих.
Я был подавлен этим впечатлением, да, пожалуй, и мой спутник не меньше моего, потому что мы тоже безмолвно присоединились к группе паломников, ожидающим с таким терпением чуда Божия. Не прошло, однако, и полчаса, как в этой тесноте и духоте нас стала одолевать жажда, да и руки скоро зачесались, и мы опять спустились вниз к Голгофе. Сюда по временам приходило для каждения духовенство, то армянское, то коптское, то греческое. У греков служба началась около девяти часов вечера и протянулась до двух часов ночи. Был торжественный перенос плащаницы с Голгофы на Гроб Господень, причём довольно долго говорилась речь по поводу голгофского события.
Мы не хотели всю ночь оставаться в храме вместе с народом. Я лично был страшно утомлён непрестанными путешествиями и бессонными ночами последних дней на страстной неделе, а потому пошёл отдохнуть в гостиницу. Здесь надо экономно расходовать свою энергию. Со страстной субботы на Пасху опять предстояла ночь бодрствования.
Утром я вышел посмотреть, что делается в русских постройках. Пусто! Почти все ушли к Гробу Господню. Встречаю монаха из здешней миссии и спрашиваю, какого он мнения о благодатном огне.
– Нет, уж об этом лучше и не говорить!
Махнул он рукой в сторону храма Воскресения и пошёл дальше.
 Продажа свечей и ладана в Иерусалиме
Продажа свечей и ладана в Иерусалиме
Мне хотелось из подражания народу купить в здешних лавках пучёк больших свечей, разукрашенных золотом и цветами; но, это может странным показаться, в Иерусалиме нет в продаже восковых свечей. Я не умею определить материала, из которого они здесь составлены. Может быть, это был парафин или что-нибудь в этом роде, но только свечи иерусалимские, когда их держишь в руках, неприлично размягчаются. Я нашёл немного настоящих восковых свечей, выписанных из русского епархиального завода, только в лавочке Палестинского общества и из них составил священный пучёк в тридцать три свечи, по числу лет земной жизни Спасителя. Некоторые, имея в виду побольше привезти свечей в Россию, берут с собой в храм по два пучка.
Около двенадцати часов я отправился к площадке пред храмом Воскресения. Подойдя к греческой патриархии, я встретил густые толпы народа, далее – более. При всём своём усилии, я смог пробраться только до наклонной улицы, ведущей к площадке храма. В это время раздался громкий и мерный стук железных булав кавасов о камень. Народ, несмотря на тесноту, расступался перед ними. Никому не хотелось подставлять своей ноги под железную палку. За шестью кавасами шла вереница европейского народа с разодетыми дамами. Это вёл какой-то консул своих гостей. Я присоединился к ним и, благодаря своему общеевропейскому костюму, был пропускаем всюду. Остановиться на площадке, как советовал вчера приятель, не было никакой возможности (может быть, в прошлые годы, при меньшем наплыве паломников здесь и было просторно в Великую субботу). За кавасами консула и я прошёл в храм между рядами турецких солдат. Они были при полной амуниции, с ружьями, и даже горнист стоял между ними со своей медной трубой.
Весь храм, все стены, карнизы, всё усеяно народом. Море голов! У всех пучки свечей. Теснота, давка, удушье. Лица красные, потные. Впрочем, мне было удобно идти между рядами солдат. Кавасы, а за ними толпа европейцев, пошли по коридору в обход греческого храма на северную сторону. Когда поравнялись со спуском к приделу Константина и Елены, я заметил, что там очень мало народа. Думаю, чего же больше искать: тут просторно и всё-таки в храме, а не во дворе. Придел Константина и Елены находится в просторном помещении и принадлежит армянам. Алтарь огорожен решёткой. Иконостаса вовсе нет, да и окон сравнительно немного. Русских паломников почти не было. Сидело здесь десятка два туземцев, да бегали дети их. В ожидании огня я раскрыл взятое с собой Евангелие и стал читать. Ребятишки, лет по двенадцати, подняли возню, как на улице. Они играли, шалили, бегали, кричали, и никто им не делал ни малейшего замечания. Вдруг пронёсся издали ужасный шум, и в это время по лестнице к нам быстро спустились три католических монаха. Я знаю, что католики не принимают участие в торжестве чудесного огня, разве только как зрители, а потому у меня мелькнуло подозрение, не преследуют ли их арабы в эти минуты проявления у них сильного энтузиазма. Но, нет, монахи весело разговаривая, прошли за решётку и стали ожидать, как и я. Это меня тоже удивляло: капелла католиков непосредственно примыкает к ротонде Гроба Господня с северной стороны, так что им удобнее было бы видеть у себя момент первой подачи огня из кувуклии.

Толпа паломников и турецких воинов ожидает схождения Благодатного Огня перед входом в Кувуклию.
О раздаче святого огня я ещё слышал накануне. Порядок при этом соблюдается такой. Сначала тушатся огни в храме Воскресения, в ротонде Гроба Господня и в самой кувуклии. Но нельзя сказать, чтобы к этому времени абсолютно нигде в храме не было огней. Я сам видел незатушенный огонь в коридоре и в некоторых приделах храма. Затем запечатывается кувуклия, и при этом играет некоторую роль турецкая стража. Ко времени подачи огня входят в кувуклию два архиерея, греческий и армянский. Армянский остаётся в приделе Ангела, а греческий проходит в Гроб Господень, где и удостаивается получить благодатный огонь. Чтобы оградить архиерея от насилия толпы, устроена передача огня через два окошка в приделе Ангела. Сперва подаётся огонь грекам, а затем чрез второе окно – армянам. Говорят, ежегодно бывает аукцион права получения огня первыми после греков, и всегда это право перекупают у бедных коптов и сирийцев богатые армяне. Огонь быстро распространяется по всему храму. Греческого архиерея обыкновенно подхватывает себе на плечи здоровый араб и с помощью кавасов протискивается в алтарь.
Но не стану забегать вперёд; вернусь я к своим личным наблюдениям.
Страшный шум всё более и более разрастался. Я понял, что ожидаемый огонь передан в народ. Порываюсь взглянуть вдоль по коридору, но тут навстречу мне, сильно расталкивая публику, несутся, как ураган, арабы с зажжёнными свечами в руках. У переднего огонь под полой. Все они быстро с криками спустились по лестнице и стали петь и танцевать. Только тогда я сообразил, что это место в приделе Константина и Елены береглось свободным исключительно для танцев арабов. Танцующие энтузиасты привлекли общее внимание. С пучками горящих свечей, как с факелами, они быстро поворачивались, прыгали и водили огромным пламенем чудесного огня по лицу и по волосам. В Палестине существует убеждение, что благодатный огонь Великой субботы первое время не жжёт, а потому каждый, получающий его, спешит умыться им, т, е. провести рукой по огню, а потом по лицу. От большого пучка у меня получилось громадное пламя, вершка в два, и я тоже исполнил обряд омовения огнём.
Впрочем, в эти минуты я мало занимался исследованием чудесных свойств огня. Меня больше интересовало проявление сильного восторга у арабов. Они дают себе в этом случае полный простор для выражения своего энтузиазма. Что-то страшное, дикое, фанатическое было в их восторженных ликованиях. Они пели:
Иль Масих атана,
Би даммо штарана.
Унах на иль iом фараха,
Уво ель яхуд хазана.
Я яхуд! я яхуд!
Идиком ид ель куруд,
Идина ид ель Масих.
В переводе это значит:
Христос пришёл к нам,
Своею кровью искупил нас.
Мы сегодня радуемся,
А евреи печальны.
О евреи! о евреи!
Ваш праздник – праздник беса.
А наш праздник – праздник Христа.
Эту песню знает каждый православный араб, и происхождение её, вероятно, относится к древнейшим временам.
Здесь установлен обычай три раза зажигать свои свечи чудесным огнём. Большой пламень тридцати трёх свечей человеку трудно затушить дуновением своего рта, да, может быть, это считается и неблагоговейным поступком относительно «благодати». Для этого служат специально сшитые колпачки из одноцветной яркой материи с напечатанными на них священными изображениями и словами. Эти колпачки, около четверти аршина диаметром, набиваются ватой, которой собственно и тушат благодатный огонь три раза. Проделав всё это, я вышел из придела в коридор и медленно подвигался с народом к выходу. Жара стояла невыносимая, особенно в ротонде Гроба Господня. Шум, крики, общее ликование. Около меня две молодых женщины плачут.

Обратите внимание на ряды турецких воинов контролирующих подход к Кувуклии
– Что с вами случилось? – участливо спрашиваю их, полагая, что им помяли бока.
– Да, как же не плакать от такой радости, такого счастья. Господи, до чего я дожила! Чего я удостоилась видеть, грешная!
У всех лица возбуждённые, с выражением восторга, победы. Смеются, плачут, радуются, обнимаются, поют, кричат… Энтузиазм поразительный!
– Господи, – думал я про себя: – при всём нашем недостоинстве и греховности, ради такой детской игры, Ты не откажешь им в их желании и не постыдишь их надежды.
И, право, мне кажется, религиозному человеку, увидевшему в Иерусалиме картину получения огня, легче поверить, что Господь услышит и исполнит просьбу этого множества народа, чем допустит противное, т. е., что Милосердый Бог останется глух к мольбам верующих в Него.
Вся толпа из храма хлынула по улицам Иерусалима с пением и с огнями. Действительно, картина величественная. И никогда, может быть, человек не чувствует так сильно торжества своей веры, как среди такой толпы.
За обедом в русских постройках Палестинского общества собравшаяся публика с жаром передавала свои впечатления. Каждый спешил высказать, где он стоял, что видел и слышал, но вопрос о чудесном исхождении огня с неба всё-таки стоял открытым.
– А уж я-то как боялась, чтобы моё платье не вспыхнуло! Ведь подо мной было целое море огня! – заметила разряженная дама, побывавшая на подмостках, устроенных не очень высоко над головами народа.
– Так что же, господа, можно ли верить, что это огонь чудесный, а не от обыкновенной спички? – спрашивает один помещик.
– Я верю, – отозвался один почтенный протоиерей. – Я стоял в алтаре вместе с греческим и русским духовенством у северного бокового входа. Архиерей прошёл в алтарь со святым огнём из кувуклии не прямо через греческий храм Воскресения, а обходом через коридор в ту самую дверь, около которой я стоял с отцом N., и мы первые получили благодатный огонь непосредственно из рук архиерея. И, право, он не жёг, как нам казалось, и это мы заметили друг другу.
– Это вам казалось, что не жжётся огонь, потому что быстро по нему проводили рукой. Ведь свечи же ваши зажглись, однако! – возражает ему скептик.
– Ну, да ведь потому и зовётся этот огонь благодатным. По указанию свыше он одно жжёт, а другое – нет.
– Не то, господа, – вмешивается в спор новый оппонент. – Это объясняется очень просто: было жарко, руки и лица – потные; а ведь известно, что влажную руку некоторые рабочие опускают без вреда для себя даже в расплавленный металл.
– Я это объясняю возбуждением нервов.
– Ну, хорошо. А почему же волосы не вспыхнули? Тут тоже нервы?
Так спорили между собой обедавшие, желая разрешить истину происхождения огня: «с небес он или от человеков». Мне хотелось знать мнение «бедуина».
– Я замечу со своей стороны, – сказал он, – одно обстоятельство. Тайна происхождения огня лежит на совести архиерея. Но теперь подумайте: можно ли допустить, чтобы старый архипастырь позволил себе обмануть пред Богом, пред Гробом Христовым, толпы верующего народа, весь мир? К чему ему насиловать свою совесть и брать на свою душу такой грех? И, наконец, это ведь не один архиерей, а ряд их, с самых древних времён. Я согласен, в наше время трудно предполагать здесь чудо, но ещё труднее, мне кажется, допустить, чтобы архиерей добровольно взял на себя роль лжеца, обманщика в таком важном деле. Надо также иметь в виду и ту колоссальную веру, которую при этом проявляет простой народ. А по вере всё возможно. И, право, он блажен. Мне так кажется: если огонь благодатный, а человек не верит этому, то для него он только обыкновенный огонь. Обратно: если огонь обыкновенный, а человек верит в его «благодать», то он и будет для него благодатным. Проще: по вере вашей будет вам, как сказал Спаситель.
Тут вспомнили общеизвестную легенду, как огонь долго не сходил на гроб, а потом вдруг показался через колонну у входа в храм. Один турок, поразившись чудесным видением, стал кричать, что и он христианин. Его тотчас же зарубили мусульмане. И теперь показывают у входа в храм могильную плиту этого исповедника и чёрную широкую щель в колонне, из которой вышел огонь.
Выслушав от собеседников разные соображения и за, и против чудесного огня, я мысленно сказал Подателю света, как евангельский муж, которого Христос спросил: «Веруешь ли, что Я могу это сделать?» – «Верую, Господи! Помоги моему неверию».
ГЛАВА 37. Пасха в Иерусалиме.
Обязательность ветхозаветного паломничества. – Пасхальная утреня у Гроба Господня. – «Пуп земли». – Розговенье в подворье Палестинского общества. – Еммаус. – Путешествие в Горнюю. – У источника Иоанна Крестителя. – Католический монастырь. – У русских инокинь в Палестине. – Жалобы на строгие порядки.
Мы, христиане, многое заимствовали из ветхозаветных установлений, но почему-то мало обратили внимание на следующую заповедь: «Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицом Владыки, Господа Бога Израилева, ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицем Господа, Бога твоего, три раза в году». И известно, что родители Христа каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Наконец, сам Христос ежегодно приходил к Пасхе из Галилеи в Иерусалим. Посещать святые места, или «являться пред лице Владыки Господа Бога», вложено в самую природу человека, что мы можем видеть из многочисленных странствований нашего народа. Точно какая-то неведомая сила подымает весной и старых и молодых, и мужчин и женщин, и толкает их сходить куда-нибудь на богомолье.
И я, повинуясь этому внутреннему голосу, тоже достиг святых мест и явился «пред лице Господа» в священный день воспоминания воскресения Христова у самого Его Гроба. Пасха в Иерусалиме! Каким благоговейным восторгом должно наполниться здесь сердце верующего человека!
С сознанием важной минуты, вечером в Великую субботу, я приоделся и отправился в храм Воскресения, чтобы провести эту в своём роде единственную ночь у Гроба Господня. Если мы другие храмы называем православными, католическими, лютеранскими, армянскими, то этому храму, главным образом, приличествует название христианский в широком смысле этого слова.
Среди густых масс народа, я едва пробрался до южных дверей греческого придела. Сзади меня стояли турецкие солдаты с ружьями и не пропускали публику в переполненный храм. Произошла обычная в эту ночь борьба. Солдаты как-нибудь ещё умели сдерживать мужчин, но пред женщинами и они были бессильны…
В тесноте теряется то благоговение, с которым относится наш русский богомолец вообще к храму. Но иногда по неведению он делает здесь непозволительную непристойность. В иерусалимском храме каждая народность старается побольше воздвигнуть своих алтарей. Во всех углах замечаешь по небольшому престолу. Некоторые из открытых алтарей украшаются только во время богослужения. Не видя на них никаких священных предметов, наши паломники прикасаются к ним руками, кладут на них шапки. А один при мне полез на престол, чтобы быть повыше и лучше видеть богослужение.
– Куда ты лезешь! – остерегают его соседи. – Ведь это армянский престол.
– Ну, вот выдумали! – недоверчиво отзывается паломник. – Разве такие престолы бывают?
Среди храма стояли солдаты в ещё большем числе, в фесках и с ружьями. Сначала я не порывался пройти на середину и простоял всю полунощницу у южных дверей, откуда мне хорошо были видны все приготовления в алтаре к крестному ходу.
В 11 часов ночи патриарх открыл торжественное шествие вокруг храма Воскресения, в сопровождении всего духовенства, греческого и русского. Обычно при этом несли кресты и хоругви. Большинство паломников тоже двинулось следом за крестным ходом. Мне уже неудобно было стоять в проходе дверей, и я поневоле прошёл на середину храма, к невысокой каменной урне, известной здесь под названием «Пупа земли». Так как, по пророческому восхвалению

Праздничный обед паломников в подворье Палестинского общества
Давида, Господь устроил спасение людей посреди земли, то середину иерусалимского храма наш народ и назвал «пупом земли». В самом деле, взглянув на карту, мы должны признать Иерусалим средоточием трёх материков Старого Света.
Когда следовал мимо меня крестный ход, то знакомое духовенство попутно христосовалось со мною. Русские священники вскоре отделились от греческих, и ушли в свою церковь св. Троицы, а греки продолжали служить утреню, непрестанно повторяя своё «Христос Анести» (воскресе). С уходом русского духовенства заметно и народ поредел в храме.
В двигающейся толпе с зажжёнными свечами трудно сохранить своё платье, чтобы не закапали его воском. В этих видах я прислонился к «Пупу земли». Но кому-то вдруг вздумалось поцеловать нарисованный на нём чёрный крест. Глядя на него, стали прикладываться и другие. И вот во всё время службы народ подходил и целовал камень. Мне пришлось, конечно, отойти и ещё ближе стать ко Гробу Господню, где с полночи шла уже обедня. Гнусавое пение греков иногда перемежалось радостным хором наших паломниц, и это до некоторой степени скрашивало для русских пасхальную службу греков. Храм осветили, насколько это позволяло имеющееся здесь в распоряжении греков количество лампад и свечей, так что в эту ночь я видел его во всём блеске и великолепии. Сегодня четвёртый раз, как я ночую в Иерусалимском храме. С большим трудом, но всё-таки я пересилил себя и достоял обедню до конца. По окончании богослужения всё множество народа с зажжёнными свечами и с пением «Христос Воскресе» двинулось в нашу русскую «Палестину».
Тут, в Свято-Троицкой церкви ещё продолжалась пасхальная служба. Я пробрался на хоры и там, борясь с дремотою, терпеливо дожидался окончания ранней обедни.
В пятом часу утра народ разошёлся из церкви по своим местам разговляться. В гостинице для паломников первых двух классов приготовлен был изысканный стол, но сидел за ним, когда я подошёл к нему, только один человек – тамбовский помещик.
Мне в это утро хотелось видимого объединения с верующими людьми. Я спустился вниз в народную столовую. Здесь были приготовлены столы для розговения, с особой платой по тридцати копеек с человека. Куличи, пасхи, яйца, окорока, вино и пр. предлагали всем в изобилии. Все сидевшие за длинными столами остались очень довольны, и по адресу заведывающего подворьем сыпалось множество искренних благодарностей.
Исполнив обычай пасхального разговенья, я поспешил к себе наверх: чувствовалась потребность отдохнуть.
В первый день Пасхи Христос явился двум ученикам, шедшим в Эммаус. Но где находилось это селение? До сих пор спорный вопрос. Одни указывают на селение Эль-Кубебе, отстоящее от Иерусалима на двенадцать вёрст (и это весьма справедливо, потому что по Евангелию Эммаус отстоит от Иерусалима на 60 стадий, т. е. на 12 вёрст приблизительно), другие относят Эммаус вдвое дальше, к селению Амвас. Но в том и в другом случае указывают на запад от Иерусалима.
Привыкнув здесь все евангельские воспоминания связывать с путешествием, я и на сегодняшний день наметил пройти пешком на запад, в селение Айн-Карим, которое лежит, вероятно, не очень далеко от евангельского Эммауса.
Под известным деревом «собрания паломников» я нашёл небольшую группу людей, оживлённо беседующих о только что высказанном пророчестве. Сам пророк, какой-то живописец, повторил и мне своё предсказание о падении в этом году Денницы-Люцифера на Елеонскую гору. Свои предсказания он подкреплял ссылками на пророков Исаию и Даниила. В другое время я с удовольствием занялся бы им, но теперь я должен был спешить в Айн-Карем, чтобы сегодня же вернуться в Иерусалим. Со мной изъявили желание идти ещё три человека.
Прекрасная шоссированная дорога, около восьми вёрст длиной, нисколько нас не утомила. За оживлёнными разговорами мы и не заметили, как подошли к католическому монастырю Иоанна Предтечи, красующемуся на краю селения Айн-Карим своим величественным храмом. У ворот и на лестнице никто нам не попался: как будто бы здесь все почили сном. Раскалённые стены, неподвижный воздух и ослепительный свет действительно располагали куда-нибудь поглубже спрятаться и не двигаться. Узнав, что в монастыре будет служба только вечером, мы направились к русскому женскому скиту. Здесь встретила нас молодая красивая послушница и лениво сообщила нам, что у них тоже все отдыхают. Мы попросили дать нам проводника до источника Иоанна Предтечи.
– Некого послать сейчас! – неприветливо ответила суровая красавица.
– Как так?! – изумился один из моих спутников: – около ста душ в вашей общине, – и некого послать! Тогда сведите нас к старшей сестре: мы желаем её повидать.
– Она отдыхает! – уклончиво отрезала послушница. Тем не менее обращение к старшей сестре, которая здесь играет роль игуменьи, возымело своё действие. Через несколько минут к нам пришёл в качестве проводника здешний сторож – симпатичнейший русский мужик. Он всю дорогу до источника занимал нас поучениями и назидательными рассказами из жития святых, причём умело иллюстрировал их воспоминаниями из своей жизни.
Перевалив через гору, мы спустились в долину, густо заросшую разнообразной зеленью. В одном месте, на склоне горы, пробивался светлый ключ. Около него вырыта пещера, и тут же под струёй холодной воды выкопан небольшой бассейн для купания. Несколько выше стоит скромная избушка сторожа. Всё это место принадлежит католикам. По преданию, в этой долине пребывал в младенческом возрасте Иоанн Креститель до явления его Израилю. Существует у паломников обычай окунуться три раза в бассейне Крестителя.
Хотели и мы исполнить этот благочестивый обычай, но холодная вода остановила нас. Набожный проводник никак не мог допустить, чтобы мы, пришедши к источнику Иоанна Предтечи, не окунулись в нём. Он нас долго уговаривал, находя воду достаточно тёплой, но мы не сдавались на его просьбы. Наконец, он решил ободрить нас своим примером и, быстро раздевшись, вскочил в холодную воду. Мы последовали за ним, но сейчас же и выскочили вон из бассейна.
Здешний сторож-католик живёт настоящим отшельником и занимается изделием из дерева. Он выпиливает дощечки для наклейки бумажных образов, делает чётки и крестики. Мы купили у него чётки из «акрид», т. – е. из тех якобы плодов, которыми питался Иоанн Креститель, хотя акридами Евангелие называет не плоды, а саранчу. «Акриды» в здешних чётках представляют собой крупные яйцевидные формы зёрна какого-то плода в виде огурца, как здесь нам объяснили.
Вернувшись в общину, мы застали здешних обитательниц за всенощной в церкви Казанской иконы Божией Матери. Скитницы пели по нотам очень старательно. Только две из них были в клобуках, остальные же в бархатных повязочках послушниц и в чёрных платьях. Сзади всех стояла старшая сестра Ксения.

Рядом с русским местом католики показывают капеллу – место встречи Божией Матери с Елисаветой. Она известна у паломников под названием дома праведной Елисаветы. Обозревая здешние святыни, мы опять пришли к монастырю Иоанна Предтечи и на этот раз застали середину католической мессы. Красивые звуки органа и вообще вся торжественная обстановка просторного храма повергла некоторых из нас с чувством искреннего умиления на колени. Один из монахов, по окончание службы, обвёл паломников по всем приделам храма и показал им две наиболее чтимых святыни его: влево от главного алтаря – место рождения Иоанна Предтечи, а справа – камень, на котором отдыхал «великий пророк обоих заветов».
Камень был вставлен в стену и закрыт мраморной доской с крестообразными вырезками. Богомольцы благоговейно прикасались через них к святыне рукой и затем крестились ею.
Один из католических монахов пригласил меня к себе в келью. Угощая местным вином, он рассказал мне о «скучной» палестинской жизни. Некоторые из них, чтобы скоротать здесь томительное время, прибегают к таким невинным занятиям, как, например, собирание почтовых марок для коллекции.
У моего спутника в здешнем русском скиту были две знакомые землячки. Здесь все женщины живут вдвоём или втроём в отдельных домиках, разбросанных по склону горы среди красивых цветников и фруктовых деревьев. Вот в такой-то райской обстановке указали нам и дом скитниц, которых мы искали.
Обе женщины, любезно принявшие нас в свою маленькую комнатку, оказались премилыми девушками и напомнили нам своим гостеприимством евангельских Марфу и Марию.
За скромным угощением они охотно рассказали об условиях здешней жизни. Скит их находится в зависимости от русской духовной миссии. Им полагается из общих доходов только трапеза; остальное же всё они должны иметь своё собственное. Заработок их небольшой; им заказывают монахи из Иерусалима бельё, рясы и проч.
Пока они расспрашивали нас о России или сами говорили о палестинских феллахах, – тон их речи был бойкий, весёлый. Но когда мы спросили об их внутренней скитской жизни, они отвечали вяло и печальным голосом. Мы заметили им это и попросили их высказаться откровеннее. Тогда они наперебой стали жаловаться на здешние порядки. Я не передаю подробней их рассказа. Главное недовольство выражалось против стеснения их свободы.

Русское место в Горней (Айн-Карим)
Мне кажется, желание здешних скитниц получить некоторую свободу совершенно понятно. Нам надо только радоваться, что находятся среди наших женщин желающие заселить русские места в Палестине. Так смотрел на это и покойный архимандрит Антонин, помогая русским женщинам в устройстве домиков и келий на купленной им земле в Горнем граде.
Если и попадутся среди них две-три вольницы, то ведь с этим надо считаться: в России в хорошо организованных монастырях также встречаются подобные послушницы. Напротив, в Палестине среди русских женщин мы видим и высокие примеры благочестивой жизни. Всем паломникам известна удивительная подвижница Марина, проживающая в настоящее время на Елеонской горе. А сколько таких негласных Марин по всей Палестине!
Я не знаю подкладки существующих отношений между сёстрами здешнего общежития и духовной миссией; но если принять во внимание, что хорошо устроенный яффский монастырь пустует, то надо, повторяю, только радоваться на многочисленную семью палестинских сестёр.
С заходом солнца мы вышли из «Горняго града», или селения Айн-Карима, где воображение рисует идиллию двух святых семейств, и также пешком отправились назад в Иерусалим. На полпути захватила нас тёмная ночь. С дороги мы не сбились, но были немного напуганы верховым арабом. Он почему-то стремительно наехал на нас и сразу осадил коня. Мы молча обошли его и направились дальше, не понимая, что он хотел выразить своим манёвром.
Когда мы подходили к Иерусалиму, нам попадались навстречу медленно шествующие парочки: тихая ночь манила всех вон из душных комнат.
ГЛАВА 38. Сион.
Топография Иерусалима. – Сион. – «город Давидов». – Дом Тайной вечери. – Гробница Давида. – Обозначение святых мест. – Сионские кладбища. – Вышний Сион Нового Завета. – Армянский монастырь св. Иакова. – Мусульманская процессия. – Место побиения камнями св. Стефана.
Через весь Иерусалим, с севера на юг по меридиану, проходит прямая улица. Начинается она у Дамасских ворот, а оканчивается у Сионских, или Баб-ен-неби-Дауд. Эта улица делит Иерусалим на две почти равные части, если принять во внимание, что город растёт на запад вне стен своих. Восточную часть, исключая южный угол, то есть, ограждённый двор с мечетью Омара, можно разделить в свою очередь на северную и южную. В первой живут преимущественно мусульмане, а во второй – иудеи. В западной половине Иерусалима, в котором находится храм Гроба Господня, сосредоточены христиане разных исповеданий. Русские вышли за стены города на северо-запад, а армяне подались на юг, к Сиону.
Собственно говоря Сион, где когда-то был дворец царя Давида, а теперь указывают его гробницу, выступает высоким мысом за южную стену города и круто спускается в Гинномову долину.
«Давид взял крепость Сион: это – город Давидов. Давид жил в той крепости, потому и называли его городом Давидовым». Вот свидетельства в писании (2 Цар. V, 7,9; 1 Пар. XI, 5,7). До времён Неемии выделяли «город Давидов» из всего Иерусалима, как это мы видим из его описания постройки стен (Неем. III. 15). Пророк же Исаия (II. 2) Сион назвал «горою дома Господня»; на этом основании некоторые (в том числе и покойный Георгий Властов, см. его «Священную летопись», т. IV, стр. 117) разумеют под горою Сион возвышенность Мориа, на которой Соломон выстроил храм Иеговы. Так это или иначе, но гора Сион с времён Давида стала лозунгом избранного народа. На горе Сион воцарился Господь. Там будем спасение. Оттуда идёт благословение. Одним словом, в Сионе сокрыты все чаяния Божьего народа. К нему он стремится, как к главной святыне на земле.