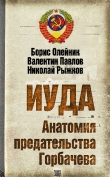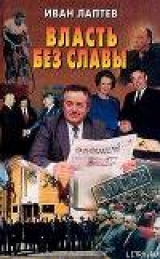
Текст книги "Власть без славы"
Автор книги: Иван Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
У всех участников обеда была на руках «застольная» речь Миттерана, переведенная на русский язык. Речь была достаточно резкой, тогда А. Д. Сахаров еще находился в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, и гость передавал требование мировой общественности вернуть из ссылки великого правозащитника и освободить всех политических заключенных. Повторяю, речь была достаточно резкой, но по тому, как вытянулись лица наших международников, знающих французский язык, было ясно, что Миттеран произносит какие-то новые, еще более жесткие формулировки. Действительно, потом оказалось, что он отступил от ранее розданного текста и еще более обострил свою позицию. Убежден, что француз был просто до глубины души оскорблен томатным соком. Но дипломатия есть дипломатия, президент Франции провозгласил тост за здоровье Горбачева, опять поднял рюмку все с тем же соком. Все приглашенные на обед лихо «дерябнули». Затем нам в рюмки для белого вина налили виноградного соку. Публика ликовала.
Такие обеды шли один за другим, изумляя наших гостей. Помню, что даже посол Индии Т. Н. Кауль, с которым я был хорошо знаком и который прекрасно говорил по-русски, сказал мне на приеме в честь премьер-министра Индии Раджива Ганди, что нашу борьбу за трезвость все поддерживают, но никто не понимает.
Рубежным стал в этом плане визит главы Польши генерала Войцеха Ярузельского. Как известно, сам генерал учился в свое время в СССР, в Рязанском военном училище, в его свите было несколько моих однокашников по Академии общественных наук – встретились почти что свои люди, давние, если не друзья, то товарищи. Они были настолько потрясены кремлевским обедом, что буквально прижали нас к стене: мужики, да вы что! На самом деле или притворяетесь? Поехали скорее в посольство, мы там пару ящиков «Выборовой» привезли. Поехать мы не поехали, но после визита Ярузельского все бокалы и рюмки, кроме водочной, стали использоваться по назначению. Антиалкогольный цирк закрывался. Конечно, сначала для руководства, но постепенно закрылся он и для всех сограждан.
Потери от партийно-комсомольской показушной борьбы за трезвый образ жизни для экономики СССР, для торговли, для общественной атмосферы неисчислимы и поныне. Когда, уже после распада Советского Союза, стали публиковаться реальные статистические данные, мы узнали, что за счет реализации спиртных напитков формировалась как минимум треть союзного бюджета. Этих денег хватало, чтобы содержать армию, финансировать здравоохранение и образование, да еще и оставалось. Закрыть такую, возобновляемую в течение четырех лет, брешь в бюджете было нечем. Вполне можно сказать, что авантюрное решение изменить уклад жизни и привычки десятков народов в рамках одной пятилетки коренным образом подорвало экономические основы перестройки.
Еще раз вернусь к тому, что без дозволения Генерального секретаря ЦК КПСС такие действия были бы невозможны, даже немыслимы. Какая же нечистая сила диктовала ему такое самоубийственное дозволение? Почему-то у нас редко затрагивается этот вопрос, возможно, считается, что все это – дела давно минувших дней. Нет, нет, все это актуально, интересно и сегодня – кто знает, какие у нас еще появятся правители.
Кроме экономических потерь – выкорчеванные виноградники не восстановлены и по сей день, – есть еще одна потеря, она теперь уж никогда и ничем не компенсируется. Суть ее, по-моему, в том, что впервые Горбачева заманили в крупную ловушку (после он в такие ловушки попадал неоднократно), заставили его растратить значительную часть авансированного народом доверия, предопределили деформацию его политики. У широких масс появились основания думать, что они говорят с М. С. Горбачевым на разных языках, чувствуют и понимают жизнь по-разному. Ни сам Горбачев, ни окружающая его группа интеллектуалов не заметили, как под давлением никогда ранее не волновавшихся о здоровье и трезвости населения нескольких членов Политбюро первоначально восторженная реакция глубинки сменилась глухим ворчанием, а затем и справедливой обидой за то, что принятые меры априори исходили из мнения, что весь советский народ – сплошные алкоголики. Любые решения родной партии у нас имели, как известно, тотальный характер.
В феврале или марте уже 1987 года «Известия» опубликовали заметку своего знаменитого фельетониста В. Д. Надеина об ошибочности и бесперспективности предпринятых мер. Я был уверен, что это уже всем ясно, особенно людям, которым я же каждые две недели посылал обзоры редакционной почты по этой тематике. Ничего подобного! Пришлось в очередной раз выдерживать высокую температуру белых телефонов…
Главное же все-таки заключалось в том, что реальная, последовательная, спокойная работа, противодействующая широко распространенной болезни, за все это время так и не была налажена. Не было создано, как постановлялось, развитой системы врачебной помощи, хотя многие врачи-наркологи трудились, как говорится, не за страх, а за совесть. Не сложилась сеть профилакториев, предусмотренная решением ЦК КПСС и последовавшими за ним указами Президиума Верховного Совета РСФСР. Не получили развития формы и места отдыха людей, проведения свободного времени. Почти не сдвинулось с мертвой точки строительство заводов по производству пива и безалкогольных напитков. Не удалось разорванные контракты на поставку из-за рубежа линий по розливу водки и вин, включая шампанское, заменить контрактами на приобретение линий по розливу газированных вод и соков. Почти ничего не удалось. Зато… Зато… Но об этом немного ниже.
В 1988 году умер академик Ю. А. Овчинников, председатель Всесоюзного общества борьбы за трезвый образ жизни. Юрий Анатольевич долго и тяжело болел, кроме того, у него была очень важная сфера научных исследований, он занимался, насколько я помню, биологическими мембранами, один раз его даже заслушивали по этому вопросу на Секретариате ЦК КПСС. Кроме того, он был вице-президентом Академии наук СССР, так что до «трезвенников» у него руки вряд ли доходили. Там заправляла группа бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС во главе с Н. С. Черных, бывшим зав. сектором Отдела пропаганды ЦК. Он был направлен на эту работу в качестве первого заместителя Ю. А. Овчинникова, с энтузиазмом занимался искоренением национального порока, и никакой председатель ему не был нужен. Но порядок – дело святое.
И однажды, через месяц или два после похорон академика Овчинникова, мне снова позвонил Е. К. Лигачев. Поинтересовался, как дела, спросил про тираж. Тираж у нас тогда рос очень быстро, переваливая уже за 11 миллионов, никогда, ни до ни после, такого тиража у «Известий» не было и, наверное, уже не будет. Лигачев выразил восторг по этому поводу – молодцы! молодцы! – а потом, быстро меняя тему, сказал:
– Ну, ты, Иван Дмитриевич, конечно, в курсе, что мы потеряли Юрия Анатольевича Овчинникова? Замечательный был человек! Замечательный!
– А чем он был болен? Что за диагноз? – спросил я.
– Да вроде бы переоблучился во время опытов. Ученые наши, ведь знаешь, себя не берегут. Это уже не первый такой случай.
Мы повспоминали такие случаи, начиная с Мари Склодовской-Кюри. А потом Лигачев продолжил:
– Так вот есть мнение, что тебе надо возглавить это общество. Работа, сам понимаешь, для нашего народа жизненно, жизненно необходима, – подчеркнул он.
– Юрий Кузьмич! – закричал я. (Лигачев предпочитал почему-то, чтобы его называли Юрием. Видимо, имя Егор ему не нравилось.) – Побойтесь бога! Я же кроме редакторства еще и председатель Союза журналистов СССР – тоже ведь общество! Мне не потянуть два общества. А газета? Она с каждым днем все больше времени требует!
– Ничего, ничего, ты у нас парень крепкий, выдержишь.
– Да что же – кроме меня нет, что ли, никого?!
– Мы в Политбюро считаем, что нет. Ты с первых дней отслеживаешь эту работу, ты по ней имеешь всю информацию – у меня вон на столе целая стопа твоих справок. Кого же нам еще искать?
– Не могу, поймите, Юрий Кузьмич, не могу! – умолял я.
– Иван Дмитриевич, ты у нас человек партийный или какой? – ударил он меня поддых. – Я ведь тебе не прогулку при луне предлагаю, я тебе про ответственное партийное поручение говорю.
– Все равно, Юрий Кузьмич, я буду звонить Михаилу Сергеевичу.
– С ним это уже согласовано.
Мне стало очень обидно за согласие Горбачева. Что, я ему иначе, чем в качестве посмешища, не нужен? (Тогда я еще не знал о способности Михаила Сергеевича согласовывать мимоходом куда как более важные вопросы.) Но не будешь же звонить Генеральному секретарю ЦК КПСС, выше власти которого в то время была только божья власть, и высказывать свои обиды.
Быстро созвали пленум «общества борьбы», единогласно проголосовали. Поздравляем, товарищ председатель!
Свадебным генералом я никогда не умел быть, считал, что уж если взялся за какую-то работу, то надо делать ее как можешь, без всяких уверток. Так же я собрался заняться и своей новой общественной нагрузкой. Занялся – и обнаружил это самое «зато».
Не сделав ничего существенного в практической сфере борьбы с пьянством и алкоголизмом, правление общества весьма преуспело в другом. Оно расположилось в старинном, специально для него отреставрированном особняке по ул. Чехова, 18. Оно обладало весьма приличным бюджетом – достаточно сказать, что каждый работающий в СССР человек отчислял один рубль в пользу этого общества. Один рубль, конечно, не деньги, но работающих-то было более 150 миллионов! Кроме того, общество финансировалось и из бюджета. Вот это халява, сказали бы раскованные граждане постсоветской России! Но самое большое открытие «зато» было еще впереди.
Как председатель, я однажды подписывал ведомости на выдачу зарплаты всем штатным работникам общества. Точнее, не ведомости персоналий, такие документы шли только по центральному правлению, а разрешения на выплату зарплаты в таких-то и таких-то размерах республиканским, краевым, областным, а кое-где и окружным отделениям, их штатным сотрудникам – председателям, заместителям, заведующим отделами, бухгалтерам – полный чиновничий перечень. Взглянув на суммы, я поинтересовался у Н. С. Черных, сколько же у нас народу в штате по стране в целом? Николай Степанович помялся, но не ответить было нельзя. Цифра меня оглушила.
– Сколько, сколько? – переспросил я.
– Семь тысяч сто пятьдесят три человека.
– И что же делает такая прорва народу?
– Ведет работу, – пояснил мне мой первый заместитель по руководству обществом. И перечислил: организуют наркологические центры, следят за соблюдением правил торговли, работают с неблагополучными семьями, занимаются художественной самодеятельностью, чтобы отвлечь людей от греха…
Газета «Известия» в 1988 году имела в стране очень мощную корреспондентскую сеть – 60 собственных корреспондентов, каждый из которых подбирал себе по 5–10 внештатников. Информация от них была всегда точной, оперативной и полной. Поэтому я знал о работе отделений общества трезвости, думаю, несколько больше, чем Н. С. Черных. Но спорить с ним не стал. Понял, что у нас возник еще один гигантский бюрократический аппарат, который, в строгом соответствии с законами Паркинсона, уже не нуждался больше в объекте приложения своих сил, будучи полностью загружен самим собой. 7153 аппаратчика уже никогда не выпустят «борьбу за здоровье народа» из своих рук.
Тем не менее я не успокоился и на очередном пленуме правления общества выступил с предложением реформировать его аппарат: создать вместо одного централизованного общества десятки, а может быть, и сотни самодеятельных, неформальных, «безаппаратных» обществ. А имеющийся сейчас громадный аппарат немедленно сократить вдвое. Попросил всех представить свои предложения и расчеты.
Но и аппарат показал, что без боя он не сдается. Пленум закончился, никаких предложений и расчетов никто не представил. Бумаги, которые вроде бы должны были обязательно попадать ко мне, «обходили» меня причудливыми путями. Никаких денежных документов мне больше не приносили, благо первый заместитель имел право подписывать их. Установилась атмосфера молчания. Я перестал ездить на ул. Чехова, 18, добившись, правда, чтобы несколько комнат в особняке было выделено команде нашего известнейшего социолога академика Т. И. Заславской. Наверное, это было самое важное, чего мне удалось добиться в деле борьбы за трезвый образ жизни.
Несколько раз я обращался к тому же Е. К. Лигачеву со слезными просьбами «отпустить душу на покаяние». Он был неумолим, да и не до меня ему уже было – противоборство в руководстве КПСС все обострялось, различие во взглядах на перестройку, в оценках ее хода становилось все более глубоким.
Выйти из дружных рядов борцов «за здоровый образ жизни» я смог только после описанного в следующей главе выдвижения на пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. В первый же день после выборов, когда М. С. Горбачев, ставший уже и президентом СССР, поздравлял меня, я стал убеждать его в том, что теперь мне ну никак нельзя возглавлять общественные организации – ни Союз журналистов СССР, ни общество борьбы против пьянства и алкоголизма. Горбачев неожиданно быстро согласился:
– Да, теперь тебе это неудобно.
Я написал соответствующие заявления, провел пленумы в обоих обществах. Все! Освободился! Не припомню другой своей деятельности, от которой я освобождался бы с такой детской радостью.
Как известно, антиалкогольная кампания дожила до 1991 года и тихо скончалась. Пить на Руси меньше не стали, культура питья не повысилась, «зеленый змий», отлежавшись в подвалах и погребах, так и остался лучшим другом советского человека. Очередная гора наших громогласных кампаний родила очередную мышь.
Глава 6. Ночной звонок
Неисповедимы пути господни… Так говорим мы о путях судьбы, о наших собственных путях. Неисповедимы…
В один из дней середины марта 1990 года (точнее бы сказать: суток), уже близко к полуночи я еще оставался на работе. Это были очень тихие, любимые мною часы. Москва, ее бесчисленные конторы замирали, устав от бурной бюрократической суеты и демонстрации деловитости, которую один из отечественных социологов метко назвал антитрудом. На домашних кухнях шло семейное обсуждение прямых телевизионных трансляций с заседаний нового парламента СССР. Замолкли мои многочисленные телефоны, и я из члена Верховного Совета СССР снова превратился в главного редактора газеты «Известия». Статус газеты государственной, близкой к высшим эшелонам власти, которую коллектив редакции сделал одной из самых крупных и, пожалуй, самой влиятельной из советских газет, привлекал к ней особое внимание как в республиках Союза ССР, так и во всем мире. Но тем больших внимания и самоотдачи она требовала от меня, заставляя просто разрываться между Верховным Советом и редакцией. В конце концов я выработал странный распорядок дня: с утра к 8.30 – в редакцию, к 10.00 – в Кремль, на сессию парламента, в 14.00, когда на сессии объявляется перерыв на обед, – снова в редакцию, в 16.00 – в Кремль, в 18.30–19.00 – опять в редакцию. С этого момента можно было уже не спешить, спокойно заняться подготовкой завтрашнего выпуска «Известий» и другими редакционными делами.
Понятно, что такой темп и такой стиль жизни изматывали до предела, не давали продохнуть, и я думал только о том, чтобы на очередном съезде народных депутатов попасть под ротацию и уступить свое место в Верховном Совете кому-нибудь другому. Пока же приходилось «сидеть на двух стульях», только так можно было более менее надежно контролировать газету и серьезно работать в парламенте, где впервые в истории нашей страны разворачивалась перед депутатами, а через телевидение – и перед всем народом многоактная драма большой политики.
Но вернусь в тот поздний мартовский вечер. Среди тринадцати телефонов правительственной, обычной городской и внутренней связи стоял белый телефон без диска – так называемый «СК», то есть «специальный коммутатор», по которому можно было практически мгновенно связаться с любым из членов высшего руководства страны, в какой бы точке земного шара он ни находился. Это была, и, наверное, остается сегодня самая защищенная система связи, по которой разрешались разговоры на темы, обозначаемые грифом «совершенно секретно». Я этим телефоном ни разу не пользовался, во-первых, потому, что, как всякий журналист, не любил секретность, а во-вторых, для любых выходов «на верха» достаточно было других систем правительственной связи.
В этот вечер я впервые услышал, как «поет» аппарат «СК» – как будто очень часто кукует кукушка. Схватил трубку: Лукьянов.
– Сейчас тебе будет звонить Михаил Сергеевич, – сказал он. – Не вздумай отказываться.
И, видимо, торопясь освободить линию, положил трубку. Я не успел его спросить, почему будет звонить Горбачев и от чего не надо отказываться.
Президент позвонил сразу же – возможно, Лукьянов разговаривал со мной из его кабинета. Поздоровались. Спросил, как идут дела, какая обстановка в редакции, как я оцениваю работу парламента. Я насторожился, понимая, что Горбачев в свойственной ему манере готовится к главному вопросу. И действительно, после нескольких «подготовительных» фраз президент сказал:
– Ты, конечно, понимаешь, что Примаков теперь должен сосредоточиться на работе в Президентском совете. Значит, ему придется уйти с поста председателя Совета Союза. Есть мнение: представить членам палаты твою кандидатуру вместо него. Как ты к этому относишься?
Существовали неписаные правила: «есть мнение». Чье? Уже обсуждено и решено, или это просто личная позиция? Спрашивать не полагалось. Не полагалось и отказываться, если «мнение» уже есть. Во всяком случае, отказываться прямо.
– Ну, конечно, как к большой чести отношусь, Михаил Сергеевич, – ответил я. – Только ведь кандидатура моя непроходная, думаю, вряд ли изберут.
– Почему?
– Многие члены Верховного Совета недовольны «Известиями». Считают, что газета уделяет мало внимания и места их выступлениям. Обижаются на критику. Вы же знаете: в Верховном Совете хватает людей, которые имеют большой зуб на прессу, хотят покомандовать ею.
– Ну а теперь ты ими покомандуешь, – пошутил президент.
– Не изберут, Михаил Сергеевич. Уверен, не изберут. Тогда мне еще труднее будет держать газету в боевой форме, защищать ее. И кроме того: я же не умею и не стану за себя агитировать, создавать в палате свое личное лобби. Там есть уже группы, которые имеют своих кандидатов. Мне-то это хорошо известно.
– Знаешь, – сказал президент. – Давай договоримся так: все, что от тебя требуется, – это не снимать свою кандидатуру. Не брать самоотвод, когда тебя выдвинут. Я тебя очень об этом прошу. Договорились?
Разговор продолжался еще несколько минут, и Горбачев в разных вариантах трижды повторил, что не надо брать самоотвод. Я пообещал ему не делать этого и задал свой вопрос, который волновал меня в тот момент более всего:
– А как же газета, Михаил Сергеевич? Что с ней-то будем делать? По-моему, она сегодня представляет столь серьезную силу, что передать ее надо в очень крепкие и надежные руки.
– Согласен. Но кто же лучше тебя знает, кому ее передать? Думай, предлагай, ищи преемника.
На этом президент закончил разговор. Разговор, в котором были предрешены два важнейших кадровых назначения, к сожалению, на мой взгляд, оба неудачные. Я очень критично оцениваю свою деятельность в роли председателя палаты Совета Союза, а газете этим разговором была уготована тяжкая доля: по нашей с Е. М. Примаковым рекомендации ее главным редактором назначили Н. И. Ефимова, которого мы давно и хорошо знали, но в котором сильно ошиблись. Впрочем, вся кадровая политика советского руководства в 1985–1991 годах была невероятно отягощена такими ошибками, отражающими труднообъяснимый, противоречивый взгляд Горбачева на подбор команды.
Через несколько минут еще раз перезвонил Лукьянов. Его интересовало содержание беседы. Он вновь повторил, что не надо отказываться, что все будет в порядке. В заключение добавил, что президент с энтузиазмом отнесся к моей кандидатуре, очень ценит меня и полностью доверяет.
С этого разговора начались для меня кошмарные дни. Выборы шли исключительно трудно. Голосовали, наверное, раз пять. В списке кандидатов было и семь, и пять и три фамилии. И хотя я шел, как говорится, с большим отрывом от других, набрать 50 процентов плюс 1 голос членов палаты никак не удавалось. Очень хотелось выскочить на трибуну и снять свою кандидатуру, но обещание, данное Горбачеву, не позволяло это сделать. Потом я узнал, что все дело, оказывается… в парламентских корреспондентах «Известий» – редакционный коллектив не хотел моего ухода из газеты, и аккредитованные в Кремле известинцы с детской непосредственностью уговаривали депутатов не голосовать за меня. Пожалуй, это было единственное приятное открытие тех выборов нового председателя Совета Союза.
Но действия моих подчиненных создавали совершенно фальшивую ситуацию: выходит, пообещав президенту не отказываться, я на деле организую отказ в другой форме – попробуй докажи, что ты не знаешь об агитации своих парламентских корреспондентов.
Тогда всю их работу координировал В. И. Щепоткин, заместитель редактора отдела советского строительства. Вечером, вернувшись в редакцию, я вызвал его и, пересказав разговор с Горбачевым, попросил устраниться от выборов, пусть идет все само собой. Слава огорченно сказал:
– Ну тогда уж точно изберут! И зачем вам это надо…
На следующем этапе голосования, 3 апреля 1990 года, я был избран весьма солидным большинством. 4 апреля в печати появилось:
Постановление
Совета Союза Верховного Совета СССР
«Об избрании Председателя Совета Союза»
Совет Союза постановляет:
Избрать Председателем Совета Союза Лаптева Ивана Дмитриевича – народного депутата СССР от Коммунистической партии Советского Союза.
Заместитель Председателя Совета Союза
А. Мокану.
Москва, Кремль,
3 апреля 1990 г.
В этот же день, то есть сразу после голосования, я приступил к новой работе. По ранее утвержденному распределению обязанностей между двумя председателями палат, мне достались международные связи парламента и социально-экономическое, в первую очередь гуманитарное, законодательство. Первый блок вопросов особых проблем не сулил, я к этому времени имел уже солидный опыт международных контактов на самых различных уровнях – от встреч со своими коллегами из десятков стран до серьезных переговоров с главами государств и правительств. Так что здесь я ступал на знакомую почву. Куда как сложнее была задача не просто участия, а руководства, координации законодательного процесса. Тем более что многие гуманитарные законы принимались впервые в советской истории, опыта их подготовки не имели даже самые заслуженные юристы. Такие законы, как о печати и других средствах массовой информации, об общественных объединениях, о свободе совести и религиозных организациях, о профсоюзах, о въездах и выездах, о местном самоуправлении, десятки и десятки других правовых актов были своего рода открытием для страны. Мы, народные депутаты, верили и надеялись, что они станут главными регуляторами построения правового государства и гражданского общества.
Вокруг каждого закона возникала жаркая схватка. И не только потому, что народные избранники были слабо подготовлены к скрупулезной, часто очень нудной работе написания юридических документов и каждый делал это на свой лад, яростно отстаивал именно свой вариант, хотя такой дилетантизм сильно мешал делу. Главным было другое: власть в СССР десятилетиями регулировала свою деятельность не законами, а постановлениями, не правом, а политической целесообразностью, как она ее понимала. Естественно, что центр власти – Коммунистическая партия не могла легко уступить присвоенную ею роль единственного настоящего «законодателя» советской жизни. Да и не просто уступить – самой стать не над законом, а под ним.
Ситуации, возникавшие вокруг новых законов, сегодня кажутся смешными, но тогда нам было не до смеха. Почти 30 (!) лет в СССР не могли принять Закон о печати. Помню, когда я был направлен после учебы в Академии общественных наук на работу в Отдел пропаганды ЦК КПСС и только-только успел познакомиться с его работниками, заведующий сектором газет И. А. Зубков под большим секретом, «как бывшему газетчику», показал мне один из вариантов этого закона. Над ним начали работать еще в хрущевские времена, приход каждого нового генерального секретаря вызывал переделку текста, но этот закон так и не вышел из стен отдела пропаганды. Только новый Верховный Совет СССР в 1990 году смог создать и принять Закон о печати и других средствах массовой информации. Считаю, что могу гордиться тем, что именно мне выпала удача курировать работу над его проектом, главную роль в которой сыграли три депутата: К. Д. Лубенченко, А. Е. Себенцов и Н. В. Федоров при непосредственном участии Ю. Х. Калмыкова. Шума и разных интриг вокруг закона было много, откуда-то все время появлялись альтернативные проекты, их публиковали газеты, это вызывало депутатские запросы, порождало подозрения, что закон могут «подменить», но в конце концов он был принят и стал первым за время советской власти законом, утверждающим свободу печати.[12]12
Могут возразить: а как же ленинский Декрет о печати, принятый на третий день после революции 10.11.1917 г.? Но это все-таки декрет. Вообще же законов о печати в отечественной истории было два: в 1882 г. (не столько о печати, сколько о цензуре) и от 27.04.1917 г., принятый Временным правительством Керенского.
[Закрыть] Оттолкнувшись от него, российский парламент примерно через год примет еще более прогрессивный Закон о средствах массовой информации Российской Федерации, который, слава богу, неплохо работает и сегодня, хотя уже и нуждается в дальнейшем развитии.
Но самым большим уроком и испытанием стала для меня работа над проектом Закона о порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР. Этот проект стал законом и вступил в силу 20 мая 1991 года и до сих пор определяет возможности личного взаимодействия с остальным миром граждан многих республик бывшего Советского Союза, хотя, конечно, каждая из них немного переделала его «под себя».
В принципе я, пожалуй, был готов к работе над этим законопроектом – еще с 1985 года, став депутатом старого Верховного Совета СССР, я постоянно занимался проблемой так называемых «отказников» – соотечественников, получавших отказ на выезд из СССР. Мотивы отказа были самые разные, но в основном абсурдные – человек, например, 15 лет тому назад работал в режимном институте, а все еще считался носителем государственных секретов – воистину наши секреты никогда не старели. А так как меня – дескать, молодой депутат да еще редактор «Известий» – постоянно выводили на работу с американскими парламентариями, то мне они и вручали списки этих «отказников». Замечу, кстати, что ни одного такого списка от нашего КГБ я ни разу не получил, проблемы для него, видимо, не существовало. А американцы знали точно адрес, место работы, возраст, национальность каждого «отказника» и причины отказа на выезд. Они привозили с собой длиннейшие списки – первый был на 213 фамилий, вручали их мне со всякого рода заявлениями. Я писал по каждой фамилии письма в КГБ, в Генеральную прокуратуру, в МИД, встречался с самими «отказниками» – если бы можно было пересказать, что пришлось услышать и пережить! – список постепенно сокращался. Огромную роль в этом сыграл И. П. Абрамов, генерал КГБ, работавший заместителем Генерального прокурора СССР. Уверен, он прекрасно понимал, что многие «отказники» – жертвы ведомственного произвола, но сам выступить против него не мог, таковы были «правила игры». А вот официальные обращения депутата Верховного Совета да еще редактора «Известий» помогали ему занять четкую позицию. В результате получилось так: если в первом списке, врученном мне в 1985 году сенатором США Деконсини, было 213 фамилий, то в последнем, перед самым принятием закона привезенном заместителем государственного секретаря США Ричардом Шифтером, – 7! Наши бывшие соотечественники, ставшие теперь в Израиле, в США, в Канаде, в других странах известными и влиятельными политическими фигурами, и не подозревают, какие споры разворачивались вокруг разрешений на их выезд и кто в этих спорах какую позицию занимал. И слава богу!
Поучительной была и работа с американскими парламентариями напрямую. Люди старшего поколения, уверен, помнят телемосты между Верховным Советом СССР и конгрессом Соединенных Штатов Америки. Вместе с нашим выдающимся международником, тогда заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС, В. В. Загладиным я участвовал во втором таком телемосте. И первый раз испытал на себе приемы открытой, публичной, хотя, по сути, хамской, политической схватки, которую с первых слов навязали нам сенатор Мойнихэн и конгрессмен Хойер. Мы прилично разругались с ними, и тем большим было мое удивление, когда я получил благодарственную телеграмму от Мойнихена. Хойер же сам приезжал ко мне трижды.
Уже тогда в крестьянской моей душе зародилась мысль: что-то не так в нашем общении с «братьями» по ту сторону Атлантики. Я начал наблюдать за этим с особым вниманием. А вскоре встретил и стал сопровождать конгрессменов Д. Фэссела и У. Брумфилда – демократа и республиканца. Фэссел возглавлял тогда в Конгрессе комитет по международным делам, причем возглавлял много лет. Брумфилд же слыл ярым противником разоружения и переговоров на эту тему.
А Советский Союз именно эта тема больше всего интересовала. Заканчивался срок нашего одностороннего моратория на ядерные испытания, надо было точно знать позицию американской стороны: поддержат они продолжение запрета на взрывы или же будут продолжать свои испытания, как раньше, не оставляя нам иного выбора.
Американская «пара» прилетела, как обычно, с женами, на компактном, но очень комфортабельном и «дальнелетном» самолете – Атлантический океан он мог перекрыть без посадки в оба конца. На нем мы улетели в Ленинград, где в гостинице «Балтийская» я и получил ответ на вопрос о моратории. Картина была, конечно, достойна кисти больших художников.
…Четыре часа утра. Жены конгрессменов давно спят. За столом в «штабном» номере четыре человека – два американца, переводчик и ваш покорный слуга. Охранники, прилетевшие с конгрессменами, заботливо подливают виски, достают из холодильника лед и содовую. Я в десятый раз пытаюсь объяснить, что для Америки продление нашего моратория – колоссальный шанс. Кое-что смысля в глобальной экологии, читаю короткую лекцию о том, что ядерное оружие не нуждается в ракетной транспортировке, его можно взорвать в любом месте, результат все равно будет планетарным. Просто одни погибнут раньше и сразу, другие – позже и в муках. Какой тогда смысл Америке гнать свои испытания? Вот шанс: мы продлеваем мораторий на них, вы к нему присоединяетесь. Логично? Политически целесообразно?