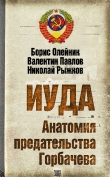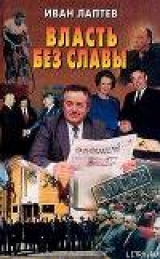
Текст книги "Власть без славы"
Автор книги: Иван Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
28 марта открывается 3-й Съезд народных депутатов РСФСР. Учреждается пост президента РСФСР, и Б. Н. Ельцин еще до выборов получает от Съезда сверхпрезидентские полномочия. Через день после начала съезда Россия и 11 других союзных республик подписывают с президентом СССР «Соглашение Союза ССР и республик по вопросам реформы розничных цен и социальной защиты населения» (от РСФСР подписал Р. И. Хасбулатов). Вроде бы все согласовано, никто не возражает, что реформа розничных цен необходима, премьер-министр СССР В. С. Павлов уже дважды обращался с этими предложениями в Верховный Совет СССР, обсуждались они и в республиканских парламентах. Можно только порадоваться, что соглашение достигнуто.
Но борьба продолжается, принимая все более острые и порой просто неприличные формы. 10 апреля следует очередной удар. «Демократическая Россия», контролируемая окружением Ельцина, выступает с заявлением, которое я привожу полностью как пример того нового стиля, который стал утверждаться в нашей политике в начале 90-х годов и получил весьма широкое распространение сегодня.
Держи вора!
Граждане России!
Второго апреля 1991 года совершен грабеж, крупнейший за все советские годы. Ограблена ВАША семья, похищены ВАШИ трудовые сбережения. Так называемой реформой цен правительство Павлова в один день понизило свою задолженность народу на сотни миллиардов рублей. У вас были сбережения – теперь семье из четырех человек будет не хватать 300–450 рублей в месяц. Как теперь прожить рядовому гражданину? На этот вопрос премьер не считает нужным отвечать. Пресловутая компенсация – жалкая дымовая завеса для выворачивания карманов: плеснули ковшиком – черпают ведром! Весь народ, каждую трудовую семью делают заложником прогнившей государственной экономики! В который раз многострадальный люд России вынуждают из своих скудных доходов выкупать банкротов партократии.
Второе апреля – день похорон Горбачева как государственного деятеля. Он много раз клятвенно заверял, что не допустит нового ограбления. «Предложения на этот счет будут вынесены на всестороннее обсуждение народа», – обещал он нам в 1988 году.
«Советские люди должны быть уверены, что без них такие решения приниматься не будут», – внушал он нам в 1989 году. Единожды солгавший, кто тебе поверит? А здесь ложь многократная, ложь как способ общения с людьми. У кого и оставались крупицы веры в доброго Президента, те второго апреля расстались с этой верой.
Народ обманут, разгневан – и этот праведный гнев партийная номенклатура хочет пустить по ложному следу. Причина, мол, в рынке. Виноваты, дескать, демократы. Источник беды – в «Демократической России», в Российском парламенте, в Ельцине… И снова – ложь! Утроенные цены на хлеб, масло, мясо не помогут ни колхозу, ни фермеру. Демократическое движение прямо заявило, что рост цен сам по себе не добавит товаров, но уровень жизни резко понизит. В России появятся десятки миллионов нищих. Отказавшись платить долги народу, грабительский Центр кричит, показывая на парламент Ельцина: «Держи вора!» Мы утверждаем: за новое ограбление народа несет полную ответственность правительство Горбачева – Павлова. Покрытие дефицита вздутыми ценами – последняя соломинка, за которую хватается тонущая партократия. Мертвый хватает живого: ради содержания КГБ, роскошных госдач и потайных привилегий Центр отнимает кусок хлеба у ветерана, чашку молока у ребенка.
Хватит быть добренькими в мире за счет своих сограждан! Нет – поддержке военно-промышленного комплекса за счет народа!
Хватит спасать убыточные колхозы и совхозы – надо спасать народ! Не допустим голода на Российской земле! Долой политику народного ограбления! Дайте людям самим заработать на жизнь, народу – самому накормить себя!
Не может быть веры правительству, отнимающему хлеб. Требуем правительства народного доверия!
Заявление координационного совета движения «Демократическая Россия».
Еще через десять дней подает голос оплот консерватизма в Верховном Совете СССР – депутатская группа «Союз». Наименовав себя «Всесоюзным депутатским объединением», она собрала 21 апреля съезд и в стиле приведенного выше заявления «Демократической России» потребовала срочного созыва внеочередного съезда народных депутатов СССР, отчета на нем президента СССР и введения в стране чрезвычайного положения. Звучали и предложения дать поручение Генеральной прокуратуре СССР подготовить обвинительное заключение на инициаторов перестройки. Что касается нового Союзного договора, то, по мнению участников этого сборища, он совсем не нужен, так как хорош и старый.
Вот как характеризовал эти действия в своих «Записках президента» Б. Н. Ельцин, который тоже успел в этот период отмежеваться от позиции и политики Горбачева и выступить за его немедленную отставку: «…Консерваторы в Верховном Совете, которым руководил хитроумный Лукьянов, в правительстве, в ЦК КПСС, в силовых структурах имели четко сформулированную радикальную идеологию. Идеологию «национального спасения». Кризис в экономике, национальные конфликты на Кавказе они использовали в своих интересах, шаг за шагом разрабатывая модель чрезвычайного положения, а по сути – схему будущего государственного переворота.
В этой ситуации маневрировать между правыми и левыми было уже невозможно.
Горбачев стоял перед ужасной необходимостью выбора».[26]26
Ельцин Б. Записки президента. С. 39–40.
[Закрыть]
Напомню еще раз, что все это происходит на фоне сотрясающих страну шахтерских забастовок. Экономический кризис усугубляется не только простоями шахт, но и тем, что союзное правительство вынуждено платить многомиллионные штрафы за срыв шахтерами договоров поставки. Ельцин, конечно, обходит вниманием это обстоятельство. С плохо скрытым сожалением он замечает: «Загнанный в угол различными политическими силами, он (Горбачев. – Авт.) выдвинул идею нового Союзного договора. И сумел выиграть время».[27]27
Там же. С. 40.
[Закрыть]
Речь здесь идет, собственно, не о новом Союзном договоре, а о значительных уступках, которые президент СССР согласился сделать в этом документе, касающихся, разумеется, в первую очередь ослабления Центра и усиления республик. 23 апреля Горбачев собрал в Ново-Огареве руководителей девяти республик и убедил их подписать «Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса», известное как документ «9+1». Подписи под ним поставили Горбачев, Ельцин, премьер-министр Украины В. Фокин, Председатель Совета Министров Белоруссии В. Кебич, И. Каримов, Н. Назарбаев, А. Муталибов (Азербайджан), А. Акаев, К. Махкамов (Таджикистан), С. Ниязов. Время действительно было выиграно, но не только время. С этим заявлением М. С. Горбачев приехал на апрельский Пленум ЦК КПСС и в ответ на критику резко поставил вопрос о доверии ему. Пленум пошумел, А. И. Вольский организовал сбор подписей в поддержку генсека, этим все и кончилось. Выступить против Горбачева, поддержанного республиками, члены ЦК КПСС не рискнули.
Тогда же в Ново-Огареве был подписан еще один впечатляющий документ. Обратимся снова к «Запискам президента»: «В Ново-Огареве я подписал соглашение о моратории на политические забастовки. После этого (29 апреля. – Авт.) я вылетел в Кузбасс, предложив шахтерам прекратить забастовки.
Шахтеры спустились в забой».[28]28
Там же. С. 43.
[Закрыть]
Борис Николаевич в наивном упоении своим могуществом, очевидно, не сознает, что этим пассажем раскрывает всю «тайну» шахтерских забастовок, признает, что забастовки были инспирированы, что шахтеров нагло и цинично использовала маленькая группка политиканов, сыгравшая на их объективных трудностях и политической инфантильности.
Возможно, кому-то покажется, что это замечание обидно для шахтеров. Но что было, то было. Когда Б. Н. Ельцин на первомайской демонстрации в Кемерово прямо на трибуне подписал распоряжение о переводе шахт Кузбасса в российскую юрисдикцию, это было встречено сотнями тысяч людей с бурным восторгом. Спросим сегодня: какое значение имел этот перевод? Что принесла российская юрисдикция? Никакого значения и ничего не принесла шахтерам! Но многое принесла Ельцину. Именно он стал победителем на шахтерских стачках. 3 мая пресса уже характеризует его как спасителя Отечества, как подлинно народного лидера. С этого момента чиновничество, пока еще выжидавшее, чья возьмет, начинает открыто отворачиваться от Горбачева и преданно смотреть на Ельцина. Исход борьбы предрешен.
Почувствовали это и члены Верховного Совета СССР. Обсуждение проекта Союзного договора, направленного М. С. Горбачевым в парламент, как отмечалось выше, 18 июня с просьбой в июне же и обсудить его, выливается в открытое противостояние группы «Союз» и демократического крыла Верховного Совета. Текст договора почти не обсуждается, речь идет о развале страны, об игнорировании итогов референдума, об отступничестве от социализма, о предательстве и т. п. Тем не менее удалось принять постановление, в основном одобряющее проект, хотя и с большими замечаниями и рекомендацией доработать.
Но этому предшествуют несколько событий, которые в корне меняют обстановку. 7 июня Украина установила свою юрисдикцию над всеми предприятиями на ее территории. 24 мая 4-й Съезд народных депутатов РСФСР принимает поправку к Конституции республики и переводит в юрисдикцию РСФСР… Москву! 17 июня премьер-министр СССР В. С. Павлов делает в Верховном Совете СССР доклад о политическом и экономическом состоянии страны, заканчивая его требованием предоставить правительству чрезвычайные полномочия (как я уже писал, М. С. Горбачев об этом в известность не был поставлен). И наконец, 19 июля на 5-м внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР проходит пышная инаугурация первого президента России Б. Н. Ельцина. Ситуация явно идет вразнос.
В этих экстремальных условиях М. С. Горбачев проявляет потрясающую волю. Все замечания парламентов получены, обобщены. 23 июля он собирает руководителей практически всех республик, как союзных, так и автономных, в Ново-Огареве.
Я не участвовал в повседневной работе над проектом Союзного договора и не ездил до этого в Ново-Огарево. Но 23-го предполагалось окончательно согласовать документ, обсудить все спорные позиции, и Лукьянов, сославшись на Горбачева, сказал, что мне надо быть. Прибыло туда и почти все остальное союзное руководство – Павлов, Лукьянов, Нишанов, Язов, А. А. Бессмертных – министр иностранных дел СССР, В. П. Щербаков – председатель Конфедерации профсоюзов СССР. За отдельным столом, чуть в стороне и сзади председателя, сидел В. И. Болдин, как всегда нахмуренный и молчаливый. Я поздоровался со всеми приехавшими на заседание, незнакомых тут не было, и сел к небольшому столику у окна. С другой стороны на этот столик выкладывал свои бумаги академик В. Н. Кудрявцев – один из крупнейших наших юристов.
Спорных вопросов было немало, но главными оказались все те же: собственность, Верховный Совет, Конституционный суд, бюджет и налоги, членство в Союзе. Особенно последние два. Рабочим текстом служил документ, представленный президентом СССР в союзный парламент 17 июня. Он включал преамбулу, главы «Основные принципы», «Устройство Союза» (11 статей), «Органы Союза» (8 статей) и «Заключительные положения» (7 статей).
Преамбулу и «Основные принципы» прошли быстро, внесена была только маленькая редакционная поправка. На первой же статье главы «Устройство Союза» застряли прочно и надолго, главным образом на третьей части этой статьи. В проекте она была сформулирована так: «Отношения между государствами, одно из которых входит в состав другого, регулируются договором между ними и конституцией государства, в которое оно входит».
Понятно, что, в первую очередь, это положение затрагивало бывшие автономии – они входили в состав союзных республик, конституции которых и становились для них главенствующими. Автономии были с этим категорически не согласны, у них ведь имелись и свои конституции. Масштаб вопроса станет ясным, если вспомнить, что СССР включал в себя 53 национально-государственных образования, то есть 53 государства со своими гербами, флагами, правительствами и, конечно, конституциями. Автономные республики, понаблюдав за время перестройки за действиями союзных, решительно выступали за то, чтобы все межреспубликанские споры и проблемы регулировались Конституцией СССР. Союзные республики столь же решительно возражали. По несколько раз выступают В. Г. Ардзинба (Абхазия), М. Ш. Шаймиев (Татарстан), М. Г. Рахимов (Башкирия), М. Е. Николаев (Якутия-Саха), Д. Г. Завгаев (Чечено-Ингушетия). Им возражают А. Т. Асатиани (Грузия не желала участвовать в подписании договора, но представителя своего прислала), Б. Н. Ельцин. Президенты Казахстана и Узбекистана Н. А. Назарбаев и И. А. Каримов, всегда определенно выступавшие за Союзный договор, пытаются найти примиряющую всех формулировку, тоже выступают неоднократно. В конце концов В. Г. Ардзинба не выдерживает и обращается с громкой просьбой принять хоть какую-то формулу и двигаться дальше. Прошло уже несколько часов.
Наконец, записываем, выделяя особую позицию России, в которую входят 16 автономий: «Отношения между государствами, одно из которых входит в состав другого, регулируются договорами между ними, Конституцией государства, в которое оно входит, и Конституцией СССР. В РСФСР – федеративным или иным договором, Конституцией СССР». Ельцин соглашается, не замечая, очевидно, что куда-то исчезла Конституция РСФСР. Но все уже слишком устали от этого вопроса, чтобы обращать внимание российского президента на явное упущение.
Переходим к другому, столь же высокому и коварному барьеру. Статья 9 – «Союзные налоги и сборы». Суть спора: будет ли Союз иметь право собирать федеральный налог непосредственно или же все налоги будет взимать республика и выделит Центру определенную часть собранных сумм. М. С. Горбачев отстаивал первую позицию, Б. Н. Ельцин скалой стоял на второй. Назарбаев и Каримов здесь активно поддерживали Горбачева: возглавляя дотационные республики, они могли надеяться на дальнейшую финансовую поддержку только в том случае, если у Центра будут деньги. И. Плющ, представлявший Украину, подыгрывал президенту России. Спорили около трех часов, дважды Горбачев объявлял перерыв, чтобы подумать. Потом Назарбаев с Ельциным уединились и предложили решение, с которым согласились все: единые союзные налоги устанавливались, но «в фиксированных процентных ставках, определяемых по согласованию с республиками, на основе представленных Союзом статей расходов. Контроль за расходами союзного бюджета осуществляется участниками договора». Ясно, что победила республиканская позиция, но хоть какие-то гарантии союзному бюджету были записаны.
Остальные спорные пункты прошли и уточнили очень быстро. Да и то – время шло к полуночи.
Президент СССР, держа в руках доработанный текст Союзного договора, медленно пошел вдоль стола, за которым сидели участники совещания:
– Ну а как подписывать будем?
А. И. Лукьянов встал и предложил провести процедуру подписания «важнейшего документа в жизни страны» только на Съезде народных депутатов СССР. Против такого предложения трудно было возражать, и все как-то неловко молчали. Молчал и Горбачев.
Я вспомнил только что завершившуюся сессию Верховного Совета СССР, обсуждавшую проект Союзного договора, представил себе, что может произойти на съезде, и дернулся встать. Михаил Сергеевич заметил это, подошел поближе.
– Нам не удастся подписать договор на съезде, – несколько громче, чем следовало, сказал я. – Нам просто не дадут открыть съезд. А если дадут, то сразу превратят его в судилище над президентом – вы же знаете, что заявляет группа «Союз». Если же этого не пройдет, то развернется обсуждение проекта договора, и он будет так раскритикован, что потеряет в глазах общественности всякое значение. Надо подписывать его в каком-то другом, лучше рабочем порядке.
Президент подумал.
– Давайте подумаем, еще раз проработаем этот вопрос, – сказал он после паузы. – А сейчас приглашаю всех к столу. Мы работали целый день, перекусим немного.
Все встали. Назарбаев подошел и дружески пихнул меня в бок.
Спустились на первый этаж, в столовую. И только здесь поняли, что многомесячная работа завершена, и даже поздравили друг друга. По правую руку от Горбачева сел Ельцин, слева – Лукьянов. Президент распорядился подать напитки, официанты принесли водку и коньяк, мы подняли бокалы за окончание исторического (вот где лучше всего подходит горбачевское «судьбоносного») дела. За столом царила атмосфера согласия, все выглядели довольными и счастливыми, а Горбачев – больше всех. Уже за полночь мы отправились по домам. Помню, что шел очень сильный дождь, охрана сопровождала нас к машинам под зонтами, почти все вспоминали о народной примете: дождь – к богатству и урожаю.
Затем несколько дней проект еще выверялся юристами, но никаких изменений в него внесено не было. Кроме одного. В статье 5 «Сфера ведения Союза ССР», в части, касающейся вопросов безопасности, к словам «координация деятельности органов безопасности республик» председатель КГБ СССР В. А. Крючков добавил два слова: «руководство и…» Стало звучать: «руководство и координация…» Крючков сам согласовал эту поправку с руководителями республик, о чем в тексте договора была сделана специальная запись-сноска. В начале августа проект Союзного договора под шапкой «Согласовано 23 июля 1991 г.» был разослан по всем республикам для представления в парламенты.
Не знаю, как было в других республиках, но в РСФСР сразу начались некоторые странности. Сначала чуть не две недели текст в российском парламенте не появляется. Только десятого числа Б. Н. Ельцин направляет туда документ.
Верховный Совет РСФСР
В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 5 июля 1991 года № 1548-1 представляю проект Договора о Союзе Суверенных Государств, который будет открыт для подписания 20 августа 1991 г.
Б. Ельцин
10 августа 1991 г.
Документ поступает в Верховный Совет России 12 августа. В это время большинство депутатов на каникулах, сессии не проводятся. В отпуске и Р. И. Хасбулатов. На хозяйстве – заместитель председателя Верховного Совета Б. Н. Исаев. Вместе с председателем палаты Совет республики В. Б. Исаковым они посылают телеграмму Хасбулатову. Ответ: размножить документ, раздать депутатам, больше ничего не предпринимать. Депутаты начинают возмущаться, некоторые срочно возвращаются из отпусков.
Назревает скандал. 15 августа Ельцин направляет в Верховный Совет еще одно письмо, в котором объясняет, что доработанный проект соответствует интересам Российской Федерации. Депутаты тем не менее не успокаиваются. Всех оскорбляет то, что договор одобряется и подписывается в обход парламента, по единоличному решению Ельцина.[29]29
См.: Исаков В. Председатель Совета Республики. С. 315–317.
[Закрыть]
Параллельно развивается другой информационный процесс. 8 августа, еще до представления проекта договора в парламент, «Независимая газета» публикует обращение к президенту России:
«Широко объявлено, что 20 августа Вы собираетесь от имени России подписать новый Союзный договор, призванный на необозримо длительный срок предопределить судьбу народов нашей страны. Между тем текст договора в той редакции, в которой он будет подписан, неизвестен населению России. Прежний же текст, готовившийся в тайне и не подвергнутый до сих пор сколь-нибудь обстоятельному обсуждению ни в печати, ни на сессии Верховного Совета, неудовлетворителен. Он заключает в себе много неясностей, недомолвок и противоречий, недопустимых в документе, требующем абсолютно однозначного толкования…
Мы считаем, что, не познакомив с окончательной редакцией население Российской Федерации и не представив ему убедительного ответа на все эти вопросы, Президент РСФСР не может подписывать Союзный договор. Более того, никто не вправе на десятилетия вперед решать судьбу народов, не получив их ясно выраженного согласия на это. Кардинальные условия, на которых Россия готова будет вступить в новый Союз, должны быть, по нашему мнению, вынесены на всероссийский референдум.
Ю. Афанасьев, Л. Тимофеев, Л. Баткин,
В. Иванова, Ю. Буртин, В. Библер, Е. Боннэр».
Позвольте, скажет читатель, но ведь референдум уже был и народы России весьма ясно высказались по поводу Союза. Но, на мой взгляд, более интересны другие моменты. Во-первых, текст договора еще не опубликован и даже не представлен в парламент, а уже если не отвергается, то ставится под сомнение. Во-вторых, к президенту России обращаются люди, многим из которых для этого вовсе не требуются услуги прессы, – они имеют прямой доступ «к телу».
15 августа текст договора публикуется в печати. 17-го к президенту обращается уже группа народных депутатов:
«Мы ознакомились с представленным 10 августа Президентом РСФСР проектом Договора о Союзе Суверенных Государств. Считаем, что его нельзя подписывать 20 августа…
Перед подписанием и вступлением в силу договор должен быть одобрен высшим органом государственной власти – Съездом народных депутатов РСФСР…
Е. Басин, Е. Лахова, С. Филатов,
О. Качанов и др.»[30]30
Там же. С. 318.
[Закрыть]
Перед Ельциным маячит призрак ситуации Горбачева – двусторонняя ловушка. С одной стороны, непримиримая общественность, с другой – осмелевшие депутаты из числа самых близких к нему. Впереди два сценария: либо отмахнуться от всех и подписать договор, либо занять позицию: я-то «за», я-то готов, но против общественности и народных депутатов пойти не могу…
Уверен, что Борис Ельцин избрал бы второй сценарий. Но 19 августа путч избавил его от необходимости делать выбор. И Ельцин использовал подаренную ему судьбой и группой политических авантюристов ситуацию на всю тысячу процентов.