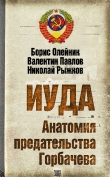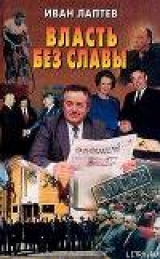
Текст книги "Власть без славы"
Автор книги: Иван Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Глава 5. Изгнание «зеленого змия»
Всенародной любви к «вождям» в Советском Союзе не было никогда. Демонстрация ее – да, была: на лицемерие верхушки народ умело отвечал своим лицемерием. Хотя были и фанатики «начальстволюбия», но их хватает во всех странах и во все времена.
Не пользовался всенародным обожанием и Михаил Сергеевич Горбачев. И не мог пользоваться, достаточно вспомнить про семнадцатимиллионный отряд советской бюрократии, по определению сопротивляющейся любым переменам и соответственно воспринимающей реформаторов. Режим Л. И. Брежнева, пресловутый застой, потому и был столь прочен, что никогда ничем не грозил чиновничеству, не считая, может быть, 1965–1967 годов – времени неудавшихся реформ А. Н. Косыгина. Горбачев же, сразу заявивший ни много, ни мало о перестройке, с первых дней своего генсекства вызывал смутную тревогу, прежде всего, у аппарата. Эта тревога трансформировалась не в добродушные анекдоты брежневских времен, а сначала в скрытую неприязнь, а потом и в открытую злобу.
Она питала всякого рода кликушество – «пришел антихрист», порождала прозвища – «ускоритель», «говорун», «перестройщик». Наиболее широкое распространение получила кличка «меченый», с которой в слухах и сплетнях связывалось наступление черных дней и вселенских катаклизмов.
Судьба действительно как бы предостерегала и Горбачева, и страну. Уходит на дно Черного моря судно «Адмирал Нахимов». Пытаясь пройти несудоходным пролетом одного из мостов на Волге, сносит верхние палубы пассажирский теплоход «Александр Суворов». Горят в газовом факеле два встречных пассажирских поезда около Уфы. Под Арзамасом взлетают на воздух вагоны с взрывчаткой, уничтожая все вокруг. Чернобыльская катастрофа на десятилетия, а то и на века, образует огромную зону смерти. Садится на Красную площадь самолет М. Руста. Гибнет подводная лодка «Комсомолец». Страшное землетрясение в Армении сравнивает с землей город Спитак и окружающие поселки. Целая серия аварий на шахтах. Что происходило с нашей страной и с нашей Землей в середине 80-х годов XX столетия? Укладывается ли это в какие-то закономерности, или действительно кончилось терпение Господа Бога и он отвернулся от гигантского советского пространства, как оно отвернулось от него когда-то…
Похоже, что и в людях происходили глубинные перемены. Думаю, не отдельные прозорливцы, а все мы начинали осознавать, что ненадежное, слабое, но живое, чувствующее боль и сострадание сердце в груди все же лучше «пламенного мотора».[11]11
Имеется ввиду популярная в 30-е годы песня, звучавшая в разных вариантах. Я запомнил такой: «Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор…»
[Закрыть] Что пусть не самая оригинальная, но собственная, незаемная мысль стократ ценнее всей суммы затверженных цитат. Что носители высоких истин могут быть вовсе не связаны с высшими должностями. Что «идеальное государство» Платона, в котором «философы будут царствовать, а цари – философствовать» для нашего времени – невыносимый обман, лицензия «царям» на право искоренения любого не одобренного ими, неугодного им миросозерцания. Но все-таки и «моторы» продолжали еще рычать в нашей груди, а привитое нам чевенгурское мировоззрение все еще гнало нас рыть и рыть единый для всех котлован.
Справедливости ради, необходимо оговориться, что во всех случаях стихийных и рукотворных бед, упомянутых выше, М. С. Горбачев вел себя мужественно и умело. Я могу утверждать это уверенно, поскольку наблюдал непосредственно, участвуя в каждом совещании, которые проводились либо на Старой площади, либо в Кремле в связи с такими происшествиями специально для того, чтобы проинформировать главных редакторов основных газет, теле– и радиопрограмм о принятых мерах, о сроках их реализации, об ответственных за исполнение.
Но было в те дни одно яркое деяние чевенгурцев, рукотворное бедствие, в котором Михаил Сергеевич не разобрался, свершению которого сам способствовал. Это – знаменитая кампания борьбы за трезвый образ жизни, комедия и трагедия одновременно. Сегодня ее нельзя расценить иначе, как один из тяжелейших ударов по слабеющей, перенапряженной, сверх всякой меры милитаризированной экономике страны. Этот удар принес не только тысячи смертей людям, не имеющим сил противиться извечной нашей привычке «дерябнуть». Он окончательно разгромил прилавки советской торговли, показав, что за рядами водочных бутылок на этих прилавках ничего нет. Он, по сути дела, разрушил и без того еле-еле поддерживаемое денежное обращение, чуть ли не ополовинил бюджет страны, вынудив ее активизировать политику внешних займов, распродажу золотовалютных резервов. Ошибки в политике не только хуже преступления. Они часто оборачиваются некой бомбой замедленного действия, которая может сработать и через год, и через век.
Самым главным результатом этой разудалой кампании стало, я считаю, возникновение мощной и теперь уже, наверное, на десятилетия неискоренимой системы теневого производства спиртосодержащих напитков. Проще говоря, вечно живое на Руси самогоноварение получило космическое ускорение. Синие пахучие дымки взвились над тысячами поселков и деревень, ушлые горожане продумали новые уникальные технологии и аппараты, перед которыми Остап Бендер позеленел бы от зависти со своей «табуретовкой», – и отдающие сивухой реки потекли по бескрайним нашим просторам. А те несчастные обалдуи, которые не могли отовариться поллитровкой у «бабушки Маши (Нюры, Дарьи, Ульяны)», научились нюхать всякую гадость, глушить себя таблетками, формируясь в передовой отряд наркомании и СПИДа.
Для государства это означало, прежде всего, то, что десятки миллиардов тогда еще весомых рублей превращаются, как теперь говорят, в «черный нал», нигде не учитываемый, никакими налогами не регулируемый, затаившийся, чтобы через несколько лет обернуться финансовой силой теневой экономики, подкормкой коррупции, мощным рычагом дестабилизации торговли и всего народного хозяйства.
Как, почему Горбачев согласился на эту безумную кампанию – ответить может только он сам. Нет, начиналось все, как обычно, с благих пожеланий, с намерений в очередной раз осчастливить народ. Видимо, партработник в те поры сидел в Горбачеве настолько прочнее, чем хозяйственник, что политическая демагогия, которой сопровождалась идея «оздоровления и отрезвления» трудящихся, увлекла его, показалась ему убедительнее экономических расчетов. Да ведь и расчетов-то никаких не было, одна «политическая воля»! Помнится, только три человека из окружения генсека ЦК КПСС пытались что-то объяснить на языке цифр: прежде всего, Н. И. Рыжков, В. И. Болдин, тогда еще помощник Горбачева, и поддерживающий их А. Н. Яковлев. Остальные либо молчали, либо соглашались с Е. К. Лигачевым, который буквально пылал этой затеей. Да и то сказать: возражать тогда Егору Кузьмичу мало кто рисковал – он был не просто на коне – на белом коне. Приведу малоизвестный факт: отказавшийся визировать проект постановления ЦК КПСС министр финансов Гарбузов, чуть ли не со сталинских времен занимавший свой пост, немедленно отправился в отставку, первый заместитель председателя Госплана СССР, вздумавший спорить по поводу того же постановления, чуть не расстался с партбилетом.
Надо же было так случиться, на роду, что ли, написано, но я оказался у самых истоков антиалкогольной кампании. Один из самых тонких и талантливых известинцев Руслан Армеев принес мне материалы новосибирского клуба «Трезвость», подготовленные группой ученых – членов этого клуба, возникшего в научном городке. Материалы отражали страшную картину, а изменения в наследственности под влиянием массового алкоголизма выглядели поистине убийственно. Были рассчитаны проценты рождения дебилов, детей с замедленным развитием, просто уродов, показаны уровень гибели мужчин в самом дееспособном – от 35 до 45 лет – возрасте, нарастание алкоголизма среди женщин и т. д. Называя вещи своими именами, следует признать, что в этих материалах был показан процесс вырождения и деградации нации.
На основе новосибирских материалов Армеев написал большую статью, озаглавив ее парафразом гамлетовского вопроса: «Быть или пить?» Из статьи явствовало, что если пить так, как пьют соотечественники, то уже никак не быть. Я прочел гранку, вычеркнул часть цифр, не имеющих, на мой взгляд, достаточного обоснования, попросил Руслана сделать к статье развернутое примечание авторов исследования и поставил ее в номер. Я бы и сегодня напечатал эту статью, ибо проблема никуда не исчезла, опасность не уменьшилась. Наоборот, опасность возросла, усугубилась теми политическими и экономическими катаклизмами, которые в 1991 году взорвали страну и еще больше ослабили и так-то некрепкую нашу способность внутренней самозащиты, самоконтроля при общении с «зеленым змием».
Публикуя статью, я рассчитывал, прежде всего, на общественный резонанс, как на это рассчитывает каждый редактор или издатель. Думал о возможности повлиять на настроения людей, вызвать обсуждение проблемы в семьях, причем обсуждение массовое – «Известия» тогда имели около семи миллионов подписчиков, а значит, газета приходила примерно к стольким же семьям, ведомственная подписка у нас никогда не превышала полутора миллионов экземпляров. Безусловно, это должно было вызвать мощную обратную реакцию (и она была – в виде доброго миллиона писем от читателей), по которой следовало спланировать дальнейшие шаги. Даже при первом прикосновении к задаче противодействия алкоголизму, беспробудному пьянству становилось ясно, что задача эта особая, сверхсложная и масштабная, что, пока в ее решение не включатся семья, сам любитель выпивки, пока общество не начнет воспринимать злоупотребление алкоголем как болезнь, а не забаву, не потеху вечно неспокойной русской души, ничего не получится. Опыт других стран убеждал: где-где, а уж здесь-то требовалось самое осторожное, глубоко продуманное вмешательство по принципу «семь раз отмерь прежде, чем один раз отрезать».
На следующий день после публикации статьи Р. Армеева мне позвонил Е. К. Лигачев. В свойственной ему эмоциональной манере он охарактеризовал статью как «настоящее открытие», как сугубо своевременное выступление «государственного значения».
– Будем готовить этот вопрос на секретариат (на заседание Секретариата ЦК КПСС. – Авт.), – сказал он. – Ты тоже готовься, думаю, тебе следует выступить. Необходимо начать решительную борьбу, а то мы это зло не преодолеем. Надо навалиться всем миром! Спасибо «Известиям» за публикацию. Но теперь прошу тебя: в каждом номере газеты эта тема должна присутствовать! Тут, может быть, даже закон требуется. Надо поднимать народ!
Мы довольно пренебрежительно относимся к своей истории, раз за разом пытаемся выбросить из нее тот или иной период, и не помним, что каждый генсек, теперь то же можно сказать о президентах, стремился начать свою деятельность чем-то запоминающимся, чем-то особо важным, а еще лучше – подлинно народным. Л. И. Брежнев менее чем через месяц после своего избрания на главный в партии пост заявил о необходимости усиления материальных стимулов труда, то есть о повышении его оплаты и об увеличении производства потребительских товаров. Ю. В. Андропов начал с милой народному сердцу борьбы за укрепление порядка, дисциплины, за искоренение коррупции. Первый указ президента Б. Н. Ельцина был, как известно, о могучем развитии образования. Указ был, правда, сразу забыт, но это, вероятно, потому, что у Ельцина не было своего Лигачева, вице-президент А. В. Руцкой на эту роль явно не подходил. Свои «увертюры» были и у Н. С. Хрущева, и у К. У. Черненко, и даже у «отца народов» И. В. Сталина. Для М. С. Горбачева придумали вселенское отрезвление. Именно здесь надо искать главный стимул борьбы за трезвый образ жизни в форме еще одной попытки вразумить неразумных, воспитать невоспитанных, излечить неизлечимых. Здесь же, считаю, лежат и причины его согласия на антиалкогольную кампанию.
Примерно через неделю после нашего разговора с Лигачевым заседание Секретариата ЦК КПСС, посвященное развороту этой кампании, действительно состоялось. Горбачева не было, Егор Кузьмич вел секретариат. Он просто парил над столом, активно поддерживаемый членом Политбюро ЦК КПСС, председателем Комитета партийного контроля М. С. Соломенцевым.
Вопрос был поставлен широко, по-нашенски. Производство водки и всякого рода крепленых вин, получивших в народе название «бормотухи», уменьшить наполовину, а затем и совсем прекратить. Поддержать выпуск сухих вин. Высвобождающиеся на ликеро-водочных заводах мощности переориентировать на разлив соков и безалкогольных напитков. Лозу винных сортов на виноградниках Азербайджана, Грузии и Молдавии заменить лозой столовых сортов, что означало: выкорчевать и засадить заново сотни и сотни тысяч гектаров виноградников. Организовать Всесоюзное общество борьбы за трезвый образ жизни, рекомендовать его председателем академика Ю. А. Овчинникова и открыть ему финансирование. Дать соответствующие указания всем партийным организациям страны. Секретарям – под личную ответственность! И т. д. и т. п.
Попытки премьер-министра Н. И. Рыжкова огласить цифры грядущих экономических потерь, долю «пьяных» денег в бюджете, сказать, что компенсировать сокращение выпуска водки и крепленых вин безалкогольными напитками с точки зрения финансовой не удастся – дело, дескать, непростое, нескорое, да и вложения тут потребуются большие, – эти попытки Лигачев пресек небрежным взмахом руки:
– Николай Иванович, да трезвые люди тебе вдвое, втрое наработают. Садись!
Посадил главу правительства, кстати, тоже члена Политбюро, на место, как школьника, и обрушил на нас великолепную политическую трескотню: мы-де должны, «как и всегда делала наша партия», прежде всего, думать о здоровье людей, а уж потом обо всем прочем, в том числе и «о твоей, Николай Иванович, экономической целесообразности». Трезвый народ нам все наши расчеты в десять раз перекроет! И далее:
– Мы уже обсудили эту проблему с Михаилом Сергеевичем Горбачевым – он считает ее решение общепартийной, общенародной задачей. Речь ведь идет, товарищи, не только о нынешнем поколении. Речь идет о будущих гражданах нашей страны. Вон, прочитайте в «Известиях» – какова статистика на этот счет! Надо немедленно, безотлагательно и самым решительным образом объявлять пьянству и алкоголизму беспощадный бой! Надо утверждать повсеместно здоровый, трезвый образ жизни. Люди нам только спасибо скажут!
После полутора часов такого «глубокого» анализа и обсуждения проекта постановления ЦК КПСС он был принят. Вернее, его еще предстояло вынести на заседание Политбюро, но там его будут утверждать те же люди, что сидят сейчас за столом секретариата. Важнейшее для страны решение было проголосовано так, словно речь шла о чем-то элементарном. Его приняли, как принимали тысячи решений до и после: если Генеральный секретарь считает, что это важно, значит, так и есть. Сложности, трудности? Но нет же крепостей, которые не взяли бы большевики!
Сидя на этом заседании секретариата, я подумал о том, как же это решение напоминает о другом, казалось бы, совершенно несхожем решении: начать строительство Байкало-Амурской магистрали. Тогда оно тоже было продиктовано заботой… о молодежи, которой нужны новые рубежи, новые задачи и героические свершения. И в речь Л. И. Брежнева, которую он произносил, если мне не изменяет память, на церемонии вручения Золотой Звезды городу-герою Туле, был вписан абзац о необходимости пробить эту дорогу, сопровождающийся, естественно, выражением уверенности, что советская молодежь, Ленинский комсомол с этой великой стройкой справятся. Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть! Не было также никаких серьезных расчетов, не обновились еще сделанные десятилетия назад проекты, не существовало никакой инфраструктуры, а десятки тысяч юношей и девушек, не имеющих никаких специальностей, с рюкзаком за спиной и гитарой в руках, в одежде, совершенно непригодной для жизни и работы в условиях Сибири и Севера, уже ехали на БАМ, чтобы, замерзая в палатках, построить магистраль, о которой страна теперь и не вспоминает, так как возить по ней нечего. Эта стройка, шедшая два десятилетия и только совсем недавно, когда удалось пробить Северо-Муйский тоннель, подошедшая к завершению, разоряла советскую казну. Но еще больше разорила ее кампания борьбы за трезвый образ жизни.
Боже мой, что началось! КПСС обладала огромным опытом борьбы за что угодно, но почему-то эта борьба часто превращалась в средневековую «охоту на ведьм». Стоило человеку выйти из гостей вечерком чуть-чуть навеселе – хватали, тащили, проверяли, позорили. Если это был член КПСС, он расставался с партийным билетом или, в лучшем случае, получал «строгача», строгий выговор. Если был при должности – слетал с должности, некоторые директора городских предприятий были сняты с занимаемых постов за «запах» – перегаром несло по утрам. В одной из областей, по-моему, в Курганской, жертвой «борьбы» стал даже секретарь райкома партии!
Отчеты о таких успешных охотах гнали в Центр порой фельдсвязью. Газеты получали упреки за то, что мало освещают крутые методы оздоровления трудящихся. С трибун звучали ссылки на народные, более всего женские, благодарности партии и правительству, зачитывались трогательные телеграммы типа: «муж вернулся в семью нормальным мужиком».
Среди чудес, созданных нашей партийно-советской системой, было чудо неизбежного явления людей, готовых перевыполнить, перекрыть любой почин, даже самый идиотский. Наверное, поэтому «враги народа» были найдены в таком несметном количестве – благодаря деятельности таких пере-пере. Явились ударники перевыполнения и в антиалкогольной кампании. Если в постановлении было записано: искоренить крепленые вина за два года – срок явно нереальный, – то они брали встречные обязательства – за год! Любовь к водке кое-где преодолевалась сразу – запретом ее продавать. Постановление пощадило шампанские и сухие вина, пиво, но самые ретивые виноборцы сочли это недоработкой ЦК и провозгласили в своих отдельно взятых населенных пунктах полный сухой закон.
Руководство партии, прежде всего Секретариат ЦК КПСС, как ее рабочий орган, бдительно следило за освещением кампании в прессе. Стоило мне опубликовать заметку «Брызги шампанского» о высоком качестве азербайджанских шампанских вин, как я был сурово осужден М. С. Соломенцевым, сообщившим мне, что именно с шампанского и начинается алкоголизм, а я подрываю важнейшее дело. Негативную информацию о том, что бурными темпами растет самогоноварение, что все шире распространяется токсикомания, давать в печать тоже было очень трудно: если ее и пропускала цензура, то Егор Кузьмич все замечал и упрекал за раздувание «временных издержек», которые-де если и имеют место, то только из-за пассивности милиции и недооценки «борьбы» со стороны местных партийных кадров. Одновременно нас, редакторов, просили направлять в ЦК КПСС все письма читателей, в которых выражаются поддержка кампании и благодарность за нее М. С. Горбачеву. Такие письма в почте на первых порах были нередкими, иногда в них содержались анекдоты, частушки, довольно скабрезные. Их оглашали на Секретариате и Политбюро – вот, мол, самые глубины народной жизни затронули и отзвук получили. Но постепенно таких писем становилось все меньше и меньше, и скоро их перестали писать даже настрадавшиеся от пьяных мужей женщины.
Между тем фронт борьбы все ширился и потери на нем все возрастали. Останавливались не только ликеро-водочные заводы, но и заводы, производящие сухие вина. Некуда стало сдавать виноград, тысячи тонн его гнили под солнцем южных республик. Может быть, где-то в Сибири или на Урале быстро раскупили бы виноград и винных сортов, да никто не позаботился о том, как его туда доставить. Виноградарские хозяйства остались без денег. Было принято решение выплатить им компенсацию за упущенную выгоду из и без того разрушенного союзного бюджета.
По коллективному письму своих избирателей я, тогда депутат Верховного Совета СССР от трех районов Азербайджана, полетел в республику. Объехал несколько винодельческих заводов. То, что там происходило, выглядело всеобщим сумасшествием. Огромные самосвалы с виноградных плантаций шли колоннами. Они сваливали виноград в бункеры-приемники и мчались под новую загрузку. Виноград давили высокопроизводительные прессы, полученный сок разливался в хорошо знакомые всем трехлитровые стеклянные баллоны, другой тары не было, упаковку, в которой мы покупаем соки сегодня, тогда еще даже не знали. Выжимки вывозили и сваливали на пустырях, недалеко от заводов. Пробовали добавлять их в корм скоту, но коровы от этого дурели, как куры деда Щукаря. Но самой главной бедой оказались баллоны с соком. Холодильники при таких заводах не предусматривались, на скорую руку собрали склады, напоминающие ангары, разместили там сотни тысяч этих стеклянных банок, укрыли от солнца. Не помогло. В южной жаре сок начинал быстро бродить, баллоны взрывались с грохотом, как бомбы, сотрясая склад. Все заводские дворы были усыпаны битым стеклом, из-под стен, из-под дверей складов растекалась мутно-розовая жидкость, от нее шел тошнотворный кислый запах. Люди плакали. Они еще помнили, как Л. И. Брежнев «лично» попросил республику Азербайджан увеличить, сколько можно, производство винограда и вин. Сами азербайджанцы вина не пьют, Коран, как известно, запрещает это, но они пошли навстречу брежневскому указанию и создали самый крупный в СССР виноградарский массив – более двух миллионов гектаров. Среди них были и плантации экспортных сортов, каждый год несколько железнодорожных составов подавалось под отгрузку только «Ркацители». Понятно, какого труда это стоило населению республики. А теперь что-то невозможное, непонятное происходило с результатами многолетних усилий.
Но и это было еще не все. Настоящая беда началась, когда на виноградники Молдавии, Грузии, Азербайджана да и Крыма обрушился топор. Никаких послаблений, никаких исключений! Сохранился ли сейчас в Крыму уникальный сорт «Черный доктор», плантация которого и составляла-то всего 44 гектара, не знаю. Но когда зашла речь о том, что и он должен быть уничтожен, не выдержав надругательства над делом своей жизни, покончил самоубийством крупнейший винодел Крыма…
Первых секретарей ЦК компартий союзных республик К. М. Багирова – Азербайджан, Д. И. Патиашвили – Грузия, С. К. Гроссу – Молдавия «вытаскивали» на Секретариат ЦК КПСС неоднократно. Правительства республик, как обычно, в расчет не принимались. Перед секретарями ставился один и тот же вопрос: «До каких пор винные сорта винограда будут преобладать у вас над столовыми?» Напрасно секретари пытались объяснить, что виноградная лоза – это не картошка, которую весной посадишь, а осенью урожай выкапывай, что лоза – растение капризное, чуткое, с ней надо работать десятилетиями, делать то-то и то-то. Все равно: до каких пор? Секретари придумали ход: выкорчевывать старую, винную, лозу и сажать новую, столовую, – дело страшно трудоемкое, нужны большие средства. (Замечу, что и такого количества саженцев столовых сортов в стране не было.) Средства? Ну, надо так надо. Николай Иванович, изыскивайте! Бедный Н. И. Рыжков стал говорить, что денег нет, но вновь не был принят во внимание – Е. К. Лигачев летел к победе над пьянством и алкоголизмом.
Спустя две-три недели, на очередном заседании секретариата ЦК КПСС было выделено, если я правильно записал, 170 миллионов рублей. Большая часть пошла Азербайджану, солидно получила Грузия, 30 миллионов досталось Молдавии. Да еще выговор С. К. Гроссу, даже строгий, за то, что первый молдавский секретарь в очередной раз начал ныть – какие, дескать, редкие сорта произрастают в его республике, как их еще Кантемир откуда-то привозил, какая это ценность. Ах, ценность? Вот тебе выговор – и все под корень! О деньгах тоже не сожалели. Чего там 170 миллионов, если уже по первому году борьбы за здоровой образ жизни потери от нее оценивались в 70–80 миллиардов рублей! Потери для авторитета М. С. Горбачева надо оценивать в таких же пропорциях.
Осенью 1985 года Михаил Сергеевич отправился в отпуск в Крым, на дачу № 1. Сопровождавший его помощник В. В. Шарапов сказал, что неплохо бы и мне поехать в Крым, что там надо будет писать какие-то бумаги и потребуется моя помощь. Я поехал, мы с Шараповым поселились в санатории «Нижняя Ореанда», от которого дача № 1 была буквально в двух шагах. Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной иногда вечером приходили даже погулять на территорию санатория, хотя предпочитали «царскую», или солнечную, тропу, известную всем, кто хоть раз отдыхал в Крыму. Мы с Виктором тогда были еще в приличной физической форме, каждый день в 6 часов утра устраивали длительные, по 8–12 километров, пробежки по этой тропе. Потом она нам надоела, и мы решили «сбегать» в Ялту – это по набережной тоже всего 14–15 километров в оба конца. Дождавшись воскресенья, когда Горбачев работал меньше, чем в будние дни, – он очень активно занимался делами и в отпуске, – мы надели шорты, натянули кроссовки и «ударили» пробегом по набережной.
Ялта была переполнена отдыхающими. Ни вино, ни водку, конечно, никому легально не продавали, кроме иностранцев. Они сидели на открытой веранде ресторана в центре города, столы были заставлены бутылками шампанского, туземцы ходили вокруг, скрипя зубами. Мы зашли в несколько магазинов – ни прохладительных напитков, ни соков, ни тем более вин. Пусто. Проверили установленные вдоль пляжей автоматы для продажи газированной воды и соков. Автоматы были заправлены, но ни одного стакана мы не нашли. О бумажных стаканчиках, как водится, никто не побеспокоился. На площадке возле одной батареи автоматов нас остановила группа отдыхающих, как потом мы выяснили, это были шахтеры из Воркуты. Обратив внимание на наш уже загорелый вид и, наверное, сочтя нас ялтинскими старожилами, они начали осторожно расспрашивать, где тут можно достать хоть какой-нибудь горилки. Мы сказали, что тоже ищем. Это сблизило нас, шахтеры перестали осторожничать и, поминая «бога, душу, мать», заговорили, что это полное издевательство, что жили же раньше нормально, пока не пришел этот… что гнуться и мерзнуть под землей целый год и не расслабиться хоть две-три недели – это вообще… Мы посочувствовали друг другу, потому что и в санатории, где люди рангом ниже союзного министра или первого секретаря ЦК республиканской компартии появлялись лишь в порядке исключения, тоже был сухой закон и любой, попавшийся на выпивке, мог запросто отправиться домой.
На обратном пути мы договорились, что Виктор доложит обо всем генсеку. Ну, обо всем, думаю, он не доложил из-за своей деликатности, которая для генерала КГБ всегда была удивительной, но общую картину передал. Горбачев поручил ему же срочно связаться с председателем Ялтинского горисполкома и передать распоряжение: сухими винами и шампанским торговать, автоматы посудой обеспечить, на набережных и пляжах организовывать торговлю с лотков прохладительными напитками. Уверен, что председатель был счастлив. В тот же вечер, как по мановению волшебной палочки, шампанское появилось и в буфетах «Нижней Ореанды».
Но каждому председателю исполкома ни генсек, ни его помощники распоряжений отдать не могли, постановление ЦК КПСС никто не отменял, кавалерийская атака на пьянство и алкоголизм продолжалась, принимая порой совершенно анекдотические формы.
Весной 1986 года, докладывая на Секретариате ЦК КПСС о подготовке очередного выпуска из военных академий и традиционного приема в честь выпускников в Кремле, один из заместителей министра обороны СССР, генерал армии, обратился к партийному руководству с просьбой разрешить на приеме налить будущим полковникам и генералам по бокалу сухого вина. Реакция была из тех, что «умри, поэт, – лучше не придумаешь»:
– Ты в какое положение нас ставишь? – как-то нервно похихикивая, спросил генерала Е. К. Лигачев, который вел заседание. – Мы разрешим тебе, а дальше что? Да тут у нас очередь будет за разрешениями налить!
В это время все стали смотреть на М. С. Соломенцева, лицо которого наливалось кровью. И по мере того как краснел Соломенцев, бледнел генерал.
– Развели, понимаешь ли, пьянство! – рявкнул Соломенцев. – Еще и разрешить вам?! Мы по-другому поступим: мы разберемся, как у вас там пьют!
– Вот видишь, – развел руками Лигачев. – Не можем мы тебе разрешить. И никому не разрешим! Либо мы занимаем позицию, либо мы не занимаем позиции. Тут ты, товарищ генерал, непонимание проявляешь. Садись!
Еще более впечатляющими были успехи антиалкогольной кампании в сфере международных отношений. Неуемный Егор Кузьмич не мог оставить без внимания дипломатические приемы, визиты, фуршеты и обеды. Исходя из вечного убеждения, что «Земля начинается с Кремля» и весь мир будет счастлив равняться на Москву, он обнародовал не знаю уж кем рожденную выдающуюся концепцию: все, кто к нам приезжает, должны уважать наши принципы. Дескать, мы же, когда едем с визитами, живем по законам принимающих стран. Ну и они пусть, когда пересекают наши границы, живут по нашим законам. Эта концепция несла в себе поистине «исторический» смысл, ибо подразумевала глав прибывающих в СССР официальных делегаций, визиты президентов, других высших руководителей, в те годы, первые годы перестройки, косяками летевших в Москву.
По иронии судьбы, первой жертвой этой концепции стал президент страны, лидирующей в мире по количеству потребления вина на душу населения, страны, где без вина за стол вообще не садятся (хотя, если перевести на абсолютный алкоголь, – куда им до нас!), француз Миттеран, прибывший в СССР с официальным визитом. М. С. Горбачев устраивал в его честь прием в Грановитой палате Кремля.
Стол был накрыт по обычному стандарту таких обедов, на которых мне часто приходилось бывать всю вторую половину 80-х годов: 5–6 наборов ножей и вилок по числу подаваемых блюд, 5 хрустальных «емкостей» – маленькая рюмка для водки, две рюмки побольше – для белого и красного вина, высокий тонкий бокал для шампанского, фужер для воды. Официанты в штатском разливали в рюмки вместо белого вина – виноградный сок, вместо красного – томатный. Идиотизм ситуации усиливался тем, что сок разливали из винных бутылок!
Обед начался с речи М. С. Горбачева, в конце которой он провозгласил тост за здоровье высокого гостя и поднял рюмку с томатным соком. Франсуа Миттеран тоже поднял томатный сок.
Я сидел метрах в пяти от него, немного наискосок, и отчетливо видел сухое, туго обтянутое кожей – Миттеран уже был тяжело болен – лицо президента Франции. У него чуть дрогнули брови, когда он пригубил «красное вино». Официант мгновенно долил его рюмку все тем же соком.