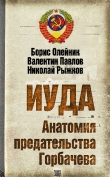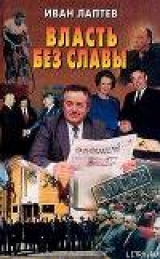
Текст книги "Власть без славы"
Автор книги: Иван Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Симферопольский трек не годится для гонок за лидером – слишком мал радиус виражей, центробежная сила на скорости просто расплющивает тебя. Поэтому тренироваться приходилось в основном на шоссе, без лидера, конечно. Я привез с собой чертежную доску, в перерывах между тренировками чертил и обсчитывал проект универсальной дорожной машины, которую придумал, – гибрид автогрейдера, дорожной фрезы и вертикального смесителя битумно-гравийной смеси. Машина получалась интересной, но типовые двигатели, использовавшиеся в СССР на дорожно-строительной технике, были для нее слабы. Оптимального решения так и не нашел, отложил проект до дипломных дней, потом я его все-таки выполнил.
Но скоро все заслонилось тем обстоятельством, что я «поймал ход» – длительные тренировки как бы суммировались, и я поехал по-настоящему. Стал побеждать. А заканчивая институт, выиграл и в Омске, и в России все соревнования, в которых участвовал. Россия заявила меня на первенство СССР в Харькове.
Был 1960 год. С Олимпийских игр, по-моему, из Рима, вернулась сборная СССР. Виктор Капитонов привез первое олимпийское золото. Соревнования были злыми, трековики, ничего не добившись на Олимпиаде, доказывали дома, что ездили туда по праву. Это сказалось и на гонках за лидером, хотя наш вид на играх не был представлен.
Предварительные заезды я выиграл. Было невероятное ощущение легкости и полета, позже, даже когда я уже стал мастистым гонщиком, выигрывал медали, входил в сборную страны, никогда больше не приходило такое ощущение неиссякаемой силы и свободы. Но финал я проиграл, остался вторым. Потому что лопухи мы были – и я, и мой лидер – мотоциклист Сеня Комаров: две армейские пары шли в совершенно одинаковой экипировке, на одинаковых мотоциклах и велосипедах. Номеров на старте почему-то не выдали. И мы, обойдя одного из армейцев на 2 круга, решили, что обошли на круг обоих – сначала одного, потом другого. Гонки к тому же были вечером, я вообще впервые шел при искусственном освещении. Короче говоря, деревня – она и есть деревня. Когда сообразили и бросились в погоню, гонка уже подходила к концу. Еще бы два круга – и мы, скорей всего, обошли бы первого, скорости были очень разными. Но дистанция кончилась. Серебряная медаль.
Во время защиты дипломных проектов в институте дирекция приняла решение оставить меня на преподавательской работе. Я вернулся с соревнований и начал осваивать еще одну новую профессию – шестую или седьмую. Вроде бы получалось. Но выступление в Харькове уже погнало свои волны. В Омск начались звонки – из Тулы, из Ленинграда, из Москвы. Для тренеров не было секретом, что у меня ни кола, ни двора, что живу в студенческом общежитии, да еще, став преподавателем, вынужден переехать вообще в какую-то кладовку, очень холодную. Тула предлагала двухкомнатную квартиру, к ее предложениям присоединилась Россия – тогда на всесоюзных спартакиадах Россия, Москва и Ленинград выступали отдельными командами. Ленинград прелагал однокомнатную квартиру. Но настойчивее всех была Москва. Клуб ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии, и уговаривал – жилье и прописка в Москве гарантированы, и угрожал – ты же офицер запаса, не поедешь к нам – восстановим в кадрах, загоним куда-нибудь подальше, все равно выступать не дадим. Я отговаривался, но однажды ночью, когда мои волосы во время сна примерзли к какой-то трубе, проходившей через кладовку, я решился. В конце концов что я терял…
Весь мой скарб, с которым я явился в столицу, умещался в рюкзаке – спортивная форма, пара рубашек, несколько книг. Костюм у меня был один – он был на мне, пальто – одно, тоже на мне, ботинки резервные, вспоминаю, были. Так вот 29 декабря 1960 года я и объявился на Казанском вокзале. Армейцы встретили меня и, надо сказать, выполнили все свои обещания – тогдашний министр обороны маршал Малиновский из своего лимита выделил мне и прописку и комнату. Я превратился в профессионального спортсмена.
Тренировки стали очень объемными. Зимой – лыжи, через день 50–70 километров, вечером – баскетбол или штанга. Летом – с утра шоссе 120–180 километров, вечером – трек, скоростные тренировки, уж никак не меньше 50 верст намотаешь. После таких нагрузок не то что читать, шевелиться не хочется. Но постепенно втянулся, заставил себя, снова стал «глотать» книжки.
В Москве я наконец научился читать системно, оценивать прочитанное достаточно профессионально, а не по правилу «интересно – не интересно». Один мой спортивный приятель пригласил однажды к себе домой, жили они тогда на Смоленской площади, в доме, где находится знаменитый на всю Москву «Гастроном». Познакомил с отцом, братом, матерью, с двумя громадными собаками – боксерами, точнее, боксершами. Его мать немедленно завела со мной беседу о… Шекспире.
Прекрасный человек была Евгения Яковлевна Домбровская! В ее семье я надолго нашел свой второй дом, дневал и ночевал там. Трехкомнатная квартира, весьма по нынешним меркам тесная, была забита шкафами с книгами. Филолог, доцент педагогического института, Евгения Яковлевна, видимо, нашла во мне благодарную аудиторию. По сути дела, я прослушал у нее несколько курсов западной литературы – она прекрасно знала английскую, австралийскую, американскую – и США, и Канады – литературу да и немцев с французами не обходила вниманием. Оба ее сына, Сережа и Валерий, не пошли по ее стопам, стали инженерами, поэтому она весь свой просветительский дар обратила на меня да еще разрешила брать из шкафов любую книгу. Когда же оказалось, что я все основное освоил, Евгения Яковлевна пригласила Ольгу Штейнберг, переводчицу, лингвиста, и я получил доступ к еще одной библиотеке – отец Ольги, профессор МГУ Штейнберг, собирал ее всю жизнь. Там я впервые прочел Н. Гумилева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, дивные антологии отечественной поэзии 20-х годов, П. Элюара, Э. Верхарна, нашего М. Волошина, познакомился с философией В. Соловьева и от книг Тейлора о первобытных религиях перебрался к Фрейду. Там же я совершил личное открытие «самиздата», посмотрел на московскую литературную тусовку, собиравшуюся в квартире Штейнбергов на улице Семашко. Значение моих знакомств, как книжных, так и личных, станет понятнее, если отметить, что шел 1962 год, хрущевская «оттепель» закончилась, никто уже не читал стихов ночами у памятника Маяковскому, вечера поэзии во Дворце спорта и в Политехническом музее еще проводились, но скоро прекратились и они. Да и самому Никите Сергеевичу оставалось недолго ждать октября 1964 года.
Евгения Яковлевна продолжала опекать меня. Будучи не очень высокого мнения о спорте, она старалась пристроить меня на преподавательскую работу в какой-нибудь технический вуз. Но я думал уже о другом. Вон он – рукой подать – Московский университет. Пойти туда на факультет журналистики было моей давней тайной мечтой. Тайной, потому что никаких возможностей реализовать ее я не видел. Нужно было еще открыть для себя этот мир, примериться к нему, понять, можешь ты там что-то сделать или это просто обычное российское «вот если бы». Теперь можно было попробовать.
На факультете Ясен Николаевич Засурский, многолетний его декан, а тогда, в 1963 году, – заместитель декана, объяснил мне, что он-то со всей душой, тем более что поступать я хочу на вечернее отделение, но инструкция не позволяет: человеку, имеющему одно высшее образование, для получения второго требовалось разрешение министерства. Хорошо хоть российского, а не союзного. Я отправился в министерство, ходил туда недели две, наверное. Дошел до министра, им тогда был Лебедев, имя, отчество, жаль, не знаю. Он разрешил, но при условии поступления сразу на второй курс. За первый надо было сдать все экзамены.
Вот где пригодилась моя память! Я просто просмотрел учебники за первый курс – и за месяц сдал все экзамены. Затем по инерции начал сдавать за второй, кое-что за третий, а кое-что даже и за четвертый. Через год у меня уже были в зачетке пять семестров и много экзаменов, сданных с опережением. Можно было сдать и больше, но больно уж канительной была процедура организации экзаменов, преподаватели всякое такое действо вне графика не жаловали.
Я пару раз выступил за факультет в лыжных соревнованиях и быстро приобрел много друзей. Стал знакомиться со студенческой средой журфака, с будущими «золотыми перьями», слушать, как они представляют себе работу в газете – а ни о чем другом я не думал, – как судят о жизни, что о ней знают. Меня ожидал колоссальный удар. Я вдруг понял, что дело вовсе не в том, умеешь ты написать статью или не умеешь, – это по форме осваивается быстро, а по сути с этим надо родиться. Главное другое: есть у тебя что сказать от себя, свое, или ты будешь повторять прочитанное, услышанное. Открытие, понимаю, элементарное, но именно элементарные открытия составляют основу нашего бытия. Как сказал однажды А. И. Герцен: «До простых истин человечество дорабатывается тысячелетиями, а сложных хватало во все времена».
Опять надо было определяться во времени и пространстве. Махнув рукой на учебу, я стал знакомиться с редакциями газет. Выступил в «Московской правде» – получил предложение перейти в штат. Согласился, но оказалось, что я перебегаю дорогу одному нашему студенту, которому это место было обещано раньше. Ушел. От кого-то узнал, что «Советской России» требуется литсотрудник. Обратился к В. А. Цареву, который возглавлял в газете отдел партийной жизни. Он пригласил меня на встречу «после подписания номера» – это значит, после 10 вечера. Послушал меня и сказал:
– В штат я тебя взять не могу – опыта работы нет, в центральную газету так не попадешь. Но место литсотрудника у меня вакантно, на два месяца зачислим при условии, что если найдем работника, то ты сразу уходишь. Согласен? Ну, тогда выходи завтра на работу.
Вышел. Это было 22 января 1965 года.
Возвращаясь немного назад, должен сказать, что из ЦСКА я к этому времени ушел. С трудом, но ушел. Спортивные мои успехи оставались еще значительными, к первой медали я добавил еще шесть, две серебряные, четыре золотые за чемпионаты и рекорды СССР. Выступал на первенстве мира – неудачно, на многих других международных соревнованиях – чаще с успехом. В 1964 году даже «отбирался» на участие в Олимпийских играх в шоссейных гонках. Но время мое в спорте истекало, я пришел туда слишком поздно. Поэтому в 1964 году, выиграв очередные соревнования, я поставил велосипед к барьеру трека, раздал все накопившиеся у меня комплекты спортивной формы, запчасти к велосипедам, шины юниорам, ушел с трека и лет пять не разрешал себе зайти туда даже зрителем, боялся, что не выдержу. Спорт ведь действительно забирает к себе человека целиком, он – как наркотик. А если еще успешный спорт, то оторваться от него почти невозможно. Я имею в виду, конечно, тот спорт, который у нас стыдливо называли спортом «высоких достижений», а во всем мире – профессиональным.
Итак, газета. Через три дня после начала работы Царев послал меня в командировку. «Советская Россия» тогда раскручивала компанию «Как вести агитацию», нужно было привезти материал под эту рубрику. Не кокетничая, скажу: теперь, при всем своем опыте, я материал на такую тему не смог бы сотворить. Тогда сотворил. Просто рассказал об одной бригаде с тульского завода «Штамп», конкретно – о мастере этой бригады, который был там и мастером, и наставником, и защитником, и агитатором. Материал сразу напечатали. В этот же день в газету позвонил М. А. Суслов, наш «вечно живой» идеолог, всесильный член Политбюро, и сказал главному редактору, что вот так и надо освещать, как вести агитацию. В. П. Московский, возглавлявший тогда «Советскую Россию», немедленно, даже не поставив в известность, зачислил меня на постоянную работу.
Ну а дальше уже не очень интересно. Через год я стал специальным корреспондентом – самая лучшая должность для журналиста. В 1967 году был приглашен на работу в журнал «Коммунист», об этом упоминалось в главе «Вожди». В 1970-м ушел в Академию общественных наук, писал диссертацию по проблемам взаимодействия общества и природы; развивая эту тему, позже защитил и докторскую. 13 марта 1970 году меня отозвали из академии, где я уже готовился к преподавательской работе, еще на 2-м курсе получив предложение остаться на кафедре. Вместо этого оказался лектором отдела пропаганды ЦК КПСС, а через год – консультантом, работа которого описана в первых главах книги. С приходом к руководству отделом Е. М. Тяжельникова ушел в «Правду», сначала членом редколлегии, потом был утвержден заместителем главного редактора. К этому времени я уже написал несколько книг по вопросам экологии, много статей в различные журналы, пробовал силы в художественной литературе, опубликовал две повести, несколько рассказов. Собрал, думаю, самый большой в стране архив по глобальным проблемам, начал работать над книгой «Экология и политика». Но «Известия», редактором которых я был утвержден в 1984 году, забрали мое время и сердце полностью.
Перестройка, участие в борьбе за гласность, Горбачев, Верховный Совет, путч – все это уже представлено читателю. Мне остается коснуться только того, что было потом, после развала СССР.
Концерн «Известия» – единый комплекс, объединяющий редакции, типографию, издательство, всю инфраструктуру, мне создать не удалось. Мои друзья – руководители редакций, в первую очередь редакции газеты «Известия», и издательства усмотрели в моих планах опасность для своего положения и, поддерживаемые незаметно выросшей вокруг них челядью, заблокировали создание концерна – он остался крошечным ТОО с громким названием. Хотя кое-что и удалось сделать: создать по России около 30 рекламных агентств, доходы которых в 1992–1993 годах направлялись на поддержку газеты; помочь ей в 1992 году решить спорные вопросы с издательством по поводу цен на бумагу; поддержать редакцию в ее споре с руководством Верховного Совета РСФСР в 1993 году, в частности, и тем, что я категорически отказался от предложений российского парламента создать параллельные «Известия», перетянуть в них лучших журналистов газеты и таким путем задушить ее.
В это же время я предпринимал попытки построить пресс-бизнес-центр «Известия», был уже проект, турецкая фирма «Аларко» провела необходимые подготовительные работы, договорилась о кредитах, условия были весьма благоприятные для нас. Не получилось, опять же из-за позиции издательства. Начал работу с немецким агентством экономической информации, по-русски его название звучит как «Фау-ВД», создали его филиал в Москве, отработали уникальную систему связи, написали оригинальные компьютерные программы, но не выдержали конкуренции с агентством Рейтер, которое к этому времени уже доминировало на российском рынке экономической информации, поступающей потребителю в режиме реального времени. Организовал в Москве отделение мощного швейцарского рекламного холдинга «Публицитас», слава богу, это отделение нормально работает и по сей день.
Что касается политических игр, то после ухода из Кремля я отказался от них навсегда, особенно от членства в каких-либо партиях. Ни «Движение демократических реформ», ни «Гражданский союз», в создании которых я принимал участие, не преодолели этого зарока – как только в них начинали проявляться тенденции партийного строительства, мне приходилось оставлять их ряды. Точно так же расстался я и с клубом «Реалисты», в числе учредителей которого был: мой давний товарищ Ю. В. Петров взялся за создание партии «Реалисты», и я выскочил «из тележки». Я вообще не верю, что сейчас в России может возникнуть, завоевать авторитет и получить массовую поддержку качественная политическая партия. Прежде всего, потому, что нет идеи, которую бы такая партия предложила обществу, нет примера, тиражирование которого привлекло бы к ней внимание масс, а им показало, куда их зовут. Все те партии, которые толкутся сегодня на политической сцене, это что угодно – только не партии. Даже КПРФ, многое сохранившая из опыта КПСС, не является тут исключением, хотя бы потому, что стремится второй раз войти в ту же реку. А уж «Единство», «ОВР», «СПС» и тому подобные – это образования, существующие, пока их кто-то финансирует, поглощенные самими собой. Народ, очевидно, должен крепко забыть ту часть своей жизни, которая определялась КПСС и была связана с нею, чтобы возжелать снова стать в какие-нибудь стройные ряды. Это плохо, очень плохо, но такова ситуация.
26 июля 1996 года меня назначили председателем Государственного комитета Российской Федерации по печати. Я снова оказался на государственной службе, хотя уже давно перестал даже предполагать, что вернусь туда. Комитет занимался периодической печатью, книгоизданием, полиграфическими предприятиями, распространением и пропагандой книги и всем, что связано с этими направлениями деятельности. Телевидение и радио находились в ведении Федеральной службы телевидения и радио (ФСТР). Теперь эти ведомства слиты в единое министерство.
Все, что связано с печатью в России, или почти все, держится пока еще на старом, советском капитале. Доживают свой век печатные машины, остались островки прежней системы распространения периодики, большинство книжных магазинов перепрофилировано, газеты и журналы уже второй, а то и третий раз меняют собственника. Тиражи упали в десятки раз, цены сделали печатную продукцию малодоступной. Люди в издательствах, в типографиях потеряли ощущение важности и абсолютной необходимости своей работы. Отрасль разваливалась, занятое политическими интригами руководство страны не обращало на нее внимания, не выделяло средств на развитие. Дотации на книгоиздание были такими, что их не хватало, чтобы поддержать хотя бы детскую литературу.
Не стану заниматься здесь самоотчетом, скажу только, что нам удалось остановить падение и развал отрасли. Нам – это прежде всего директорам полиграфических предприятий, издательств, магазинов, оптовых баз и фирм, работникам комитета. Мы не стали делиться на начальников и подчиненных – любой директор любой отраслевой структуры был для меня самым желанным гостем. Экономика предприятий стала самым важным и интересным для нас занятием. Мы прекратили также деление на своих и чужих, на частные и государственные доли в книгоиздании, стали налаживать работу с «частниками» так же, как с подведомственными предприятиями. Задача была одна: постараться помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и принимает ее. Помочь всем, чем только можем, – от заступничества перед губернаторами до пробивания законодательных льгот, от просьб в банке до поручительств в таможне.
Жизнь моя словно совершила огромный круг и еще раз подарила мне счастье того же рода, что я испытывал, сидя на верхних ступенях стремянки у книжного стеллажа в закрытой библиотеке ремесленного училища № 7 (речников).
Я как бы старался хоть чем-то отплатить вечной моей любви и постоянной наставнице, которая вывела меня из исчезнувшей ныне деревни Сладкое и всю жизнь была мне ангелом-хранителем и движущей силой. Понятно, что я говорю о книге.
Когда сегодня я слышу о том, что развитие компьютеризации, все большее опутывание мира различными «паутинами» типа Интернета сделают книгу ненужной, вытеснят ее из образования, науки, повседневной жизни, я не волнуюсь и не переживаю. Человечество слышало такие прогнозы и обещания много раз. Но всегда оказывалось, что, поработав с новыми средствами информации, человек обращается снова к книге. Видимо, есть какое-то неразгаданное волшебство в этой белой бумаге, покрытой мелкими знаками. Она говорит с нами совсем не так, как компьютер. Ее речь всегда остается живой, ее образы многогранны, ее характер ясен, чаще всего добр. Она – как рука друга, протянутая не только из прошлого и настоящего, но и из будущего. Протянутая и ожидающая, когда ты на эту руку обопрешься, когда ее пожмешь, ощутишь ее силу и тепло. На что же еще можно опереться в наших расколотых днях, напоминающих наши судьбы, в нашем театре, где власть непрерывно играет главного героя, в нашем утраченном прошлом и не найденном будущем…
Заключение
Ни одно общество не может жить без власти, без определенных правил, регулирующих повседневность. Иначе – хаос, конфликты, распад. Люди осознали это давно и создали государство, как институт управления и систему власти. Но не сумели решить проблему своего контроля власти. Поэтому она всегда стремится приобрести самодостаточный характер и сама взять контроль над обществом.
Чаще всего и легче всего такой контроль рождается в борьбе против… контроля, в борьбе за демократию. Вспомним, ведь мы же недавно это пережили: всеобщий подъем, крики, вера в то, что свобода у нас уже совершенно безопасно разгуливает по городам и весям. Потом стало выясняться, что одни хотят ее любить и защищать больше, чем другие. Появляются претенденты в хозяева свободы. Претензии звучат все громче – и вот уже о самой свободе никто не вспоминает, речь только о правах и желаниях ею управлять. То есть, речь о власти.
И тут у тех, кто, может быть, больше других мог бы быть защитником свободы, не выдерживают нервы: кому-то надоело, кто-то обиделся, кто-то совсем не так себе все представлял. Хлопнув дверью, они гордо удаляются. Иногда успевают предупредить: берегитесь – идут генералы… демократы… консерваторы. Мы начинаем пугаться и кричать на весь мир о надвигающейся диктатуре, обнаруживаем десятки кандидатов в диктаторы, требуем то десоветизации, то деполитизации, то демилитаризации. Демократические и консервативные оркестры на полную мощность ревут реквием – или по ушедшим демократам, или по ушедшим консерваторам, каждый – свой. Объявляется тревога: генерал Макашов выступил. Ах, не выступил? Все равно тревога. И шуму, шуму побольше.
Чем больше шума, тем позднее замечаются перемены в глубине политической сцены, перегруппировка сил власти. Тем оглушительнее перекрывает все крики, лозунги, заявления и речи государственная боевая труба. И подчиняясь ей, начинают послушно маршировать претенденты и оппоненты, демократы и реакционеры, правые и левые, политики и теоретики, стратеги и тактики. И только потом, почесав российский затылок, мы начинаем сознавать, что диктаторы – это не те, кто вертится на виду, они всегда в тени, в серых одеждах. Они подождут, пока свободолюбцы сорвут голоса в бесполезном крике, а потом выйдут вперед, знающие и правых и виноватых, и сильных и слабых, настроенных так и этак, и провозгласят неоспоримое право на свободу. Для себя. То есть – право на власть. Какие мелочи, что власть без славы! Пройдет время, все забудется, добудем и славу.
И только народ все верит, недоумевает, надеется и молчит. Выходит, так ему и надо!