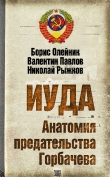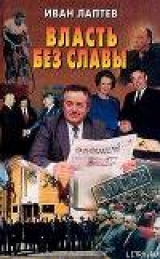
Текст книги "Власть без славы"
Автор книги: Иван Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Постепенно Ельцин начинает готовиться к полной ликвидации системы, которая привела его к власти. Он делает «открытие», что «нельзя управлять страной при помощи говорящего собрания», начинает намекать на силовое разрешение конфликта с народными депутатами, культивирует слухи о введении чрезвычайного положения, используя их как средство устрашения. По его просьбе даются утечки информации о встречах с генералитетом Минобороны, дескать, президент готовится к жестким действиям. Напомню еще раз: к действиям против законно избранного парламента. Подготовка к этому идет полным ходом – в марте Ельцин подписывает Указ о защите свободы средств массовой информации, завоевывая поддержку журналистского сообщества. В марте же вступает в действие план пропагандистских мероприятий его администрации, направленность которого не требует комментариев. Ельцин отрабатывает разные варианты своих выступлений и заявлений. Он не говорит об обнищании людей, о безудержном росте цен, о расстройстве финансов, подъеме преступности, нарастании сепаратистских тенденций, нет. Это ему посылают обращения по таким вопросам. Сам же он озабочен «демонстрацией скрытой силы», начинает зондаж реакции западных стран на возможность введения в России чрезвычайного положения, просит отнестись к этому «с пониманием». На дворе еще только март 1993 года.
7 марта открылся 8-й Съезд народных депутатов РСФСР. Ельцин настаивает на референдуме и снова угрожает: «Если не будут приняты высказанные мной предложения, то президенту придется искать еще какие-нибудь дополнительные меры для того, чтобы обеспечить стабильность». Увидев, что депутаты не согласились с ним, он покидает съезд. «Больше я на этот съезд не вернусь, скажите об этом депутатам», – с такими словами он уезжает в Барвиху.
Потрясающе реагируют на внутрироссийскую политическую борьбу власти США. «Нью-Йорк таймс», цитируя представителя администрации Клинтона, сообщает: «Вашингтон не будет протестовать против решения Ельцина приостановить деятельность его парламента или отменить Конституцию, принятую в советское время… Вашингтон не перестанет оказывать мощную поддержку Ельцину, если он возьмет на себя чрезвычайные полномочия… Если Ельцин приостановит деятельность антидемократического парламента, это вовсе не обязательно будет антидемократическим актом».[66]66
См. там же. С. 285.
[Закрыть] В этой цитате видится исток многих заявлений, прозвучавших осенью из уст наших политиков и обслуживающей их интеллигенции.
Съезд фактически запретил референдум. Ну, что ж, обойдемся без съезда. 20 марта Ельцин обращается к народу и обвиняет съезд в том, что тот запустил «маховик антиконституционного переворота», что в этих условиях президент «вынужден взять на себя ответственность за судьбу страны» и подписал уже указ об особом порядке управления. Референдум назначается на 25 апреля 1993 года.
Народные депутаты ответили попыткой импичмента. 28 марта уже 9-й съезд провел тайное голосование по вопросу отрешения президента от власти. Ельцин по телефону получал результаты голосования раньше счетной комиссии (работала служба безопасности) и складывал их на чистом листе бумаги в два столбика – «за» и «против».
Это, вроде, понятно: переживал, волновался. На деле же никакого значения этим результатам гарант Конституции не придавал: на случай неблагоприятного исхода в Кремле была уже организована телестудия, чтобы президент мог срочно обратиться к народу. Предполагалось, что он объявит о роспуске съезда, депутатов при этом должны были заблокировать в Большом Кремлевском дворце. Но импичмент не прошел, Ельцин отправился на Васильевский спуск, где шел митинг в его поддержку, и объявил: «Коммунистический переворот не состоялся».
Конечно же, съезд был не более коммунистичен, чем сам Ельцин, за год-полтора депутаты «покраснеть» никак не могли. Да и остатки разбежавшейся и разгромленной КПСС, собиравшиеся под знамена КПРФ, совершенно не готовы были взять власть, как не готовы они к этому и сейчас, положение оппозиции их устраивает куда больше, чем правление на руинах страны. Но в ельцинской политике годилось все, особенно против вчерашних друзей, объявленных врагами.
Референдум помнят все по лукавым «да – да – нет – да». Но далеко не все понимали, что это – рубежная черта борьбы за власть и за собственность в России. Трудно сказать, как подсчитывали результаты – бюллетени были уничтожены почти сразу же, – но народ в очередной раз поддержал Ельцина. Теперь можно было обращать еще меньше внимания на социально-экономические проблемы, открывалась возможность помахать кулаками. Ельцин начал готовиться к этому.
Чисто по-российски он «забывает», что является председателем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов, и формирует параллельную комиссию из «своих» юристов, собирает Конституционное совещание в Кремле. В зале подавляющее большинство сторонников президента. Работа идет в ускоренном темпе. Главное – побольше полномочий президенту, все остальное как бы вторично. В рядах народных депутатов начинается раскол, который Ельцин и его команда всячески поддерживают, привлекая к себе даже самых яростных недавних противников, не исключая и коммунистов. Но подготовка к решительным действиям продолжается все лето. Ельцин не забывает главной цели.
12 августа он проводит встречу с руководителями средств массовой информации и объявляет о начале осеннего политического наступления. На кого? На Верховный Совет. Август он определяет как время артподготовки. Его окружение, которое не устает уверять страну, что Президент настроен на примирение, на компромисс, уже ясно сознает, что Ельцин готов даже выйти за рамки конституционного поля. Конечно, все обосновывается необходимостью резко двинуть реформы вперед. Чтобы обезоружить возможных противников, с ведома Ельцина принимаются упреждающие меры: вице-президент Руцкой и генеральный прокурор Степанков обвинены в коррупции. 19 августа президент на пресс-конференции говорит, что он оказался перед выбором: либо проводить в жизнь волю народа, который высказался в поддержку проведения реформ, либо, вопреки этой воле, позволять Верховному Совету игнорировать мнение народа и разрушать российскую государственность. Он называет Верховный Совет оплотом сил реванша, а его деятельность – антинародной. Вопрос о том, как проводятся реформы, подменен утверждением, что кто-то якобы отвергает их вообще.
31 августа – опять демонстрация силы. Ельцин едет в Таманскую и Кантемировскую дивизии, наблюдает стрельбу из танковых пушек, выброс десанта. Телевидение многократно передает заверения военных о полной поддержке своего главнокомандующего. Становится ясным, что ни на какую мировую с Верховным Советом он и не собирался идти. А чтобы ему не мешали «законники», распоряжается лишить председателя Конституционного суда В. Д. Зорькина автомобиля со спецсвязью, служебной дачи и снять охрану здания суда и судей. Хотя это и выглядит мелковато, но – чтобы «не возникали».
Положение в стране в это время такое, что только 2 процента населения полностью удовлетворены работой президента, в основном удовлетворены – 21 процент, не удовлетворены – 70 процентов. Больше всего беспокоили людей экономические проблемы (70 %), рост преступности (11 %), политические проблемы (10 %), в том числе кризис власти (6 %). То есть страна смотрела совсем на другие задачи, чем ее президент.[67]67
См. там же. С. 353–354.
[Закрыть]
На Ельцина эти данные не производят никакого впечатления. Во многом сам создав кризис, он теперь сам его и разрешает.
21 сентября он записывает очередное обращение к народу и рассылает Указ № 1400, в котором, переложив, естественно, ответственность на Верховный Совет, точно так же, как раньше на Горбачева, прекращает полномочия народных депутатов, деятельность Верховного Совета и Съезда. Переподчиняет Центробанк правительству, генпрокурора – себе, приостанавливает действие Конституции РСФСР и работу Конституционного суда. Обращение передается по Центральному телевидению в 20 часов, а в 23 уже блокируется «Белый дом». Акция вступает в силовую фазу.
Об остальном все известно, точнее – почти все, всего мы никогда не узнаем. Мы не узнаем, кто 3 апреля на Калужской площади шнырял в толпе митингующих, призывая идти к «Белому дому» и штурмовать мэрию и Останкино, на что потом купились бравые вояки Руцкой и Макашов. Не узнаем, какие это неустановленные личности в камуфляже и с автоматами участвовали в нападении на Останкино, кто пришел туда с гранатометом новейшей системы и бабахнул из него, вызвав ливень огня на толпу у телецентра. Не узнаем, откуда прилетела пуля, поразившая бойца «Альфы» у «Белого дома» и ставшая сигналом к началу штурма парламента 4 октября. Знаем только, что, по официальным данным, 123 человека убиты, 467 госпитализированы, 101 обслужены амбулаторно (какие изящные формулировки выбирались!) Логика всего этого побоища убеждает: если бы надо было положить в десять раз больше людей, чтобы сохранить свою власть, Ельцин положил бы их…
Но вот результат достигнут. Что получила Россия? Борьба двух ветвей власти воспроизвелась на прежнем уровне и опять достигла такой остроты, что в марте 1996 года Ельцин собрался повторить опыт октября 1993-го (см. главу «Нам подменили победу"). Воспроизвелась потому, что ее причины лежат вовсе не в том, хороши или плохи депутаты и в какой партии они состоят, а в реальном состоянии российской экономики, в уровне нашей жизни. А здесь от пальбы по парламенту, от новой Конституции и всевластия президента ничего не прибыло, скорее убыло. Третья ветвь власти, судебная, вся правоохранительная система были дезорганизованы, коррупция воспользовалась этим и существенно выросла. Права граждан стали еще более уязвимыми и беззащитными. Реформы никуда не двинулись, если не принимать за них систематически повторяющееся ограбление населения.
Может быть, сам Ельцин что-то приобрел в результате своих действий в 1993 году? Вряд ли. Ну, продолжил он пребывать в Кремле, менять министров и премьеров, нести чепуху в своих импровизированных речах, осуществлять «загогулины» и «рокировочки». Но реальной эффективной политики так и не смог выработать, равно как и повести Россию к понятной и желанной всем цели. Вместо этого он «повел» Россию в Чечню – там мы все захлебнулись кровью и заблудились. Хотел остаться в истории? Останется. Но Сталин и Берия тоже ведь остались. Что касается пребывания там среди благодетелей человечества, то надо, чтобы человечество признало тебя таковым. Между тем мартовский (2001 г.) опрос ВЦИОМ показал, что 83 процента населения не одобряют деятельность Ельцина на посту президента России. Уверен, дальше эта цифра будет возрастать. О Конституции все чаще говорят как о весьма несовершенной, требующей доработки. Долгая память народа заново прокручивает весь путь неистового борца с привилегиями до положения олигарха, стремительного новосела в горбачевских резиденциях до застрявшего там пенсионера. Все забудут, а это нет. Как и 1993 год.
Так что же, все только проиграли? Почти все. Кое-кто выиграл, и очень существенно. В условиях, когда не действовала старая Конституция, а новая еще не была принята, полномочия Верховного Совета прекращены, Государственная дума только должна быть выбрана, махровым цветом распустились правовой нигилизм и уверенность, что оказавшимся на стороне победителей можно все. Обворовывание, растаскивание страны пошло полным ходом. «Президенту со всех сторон в огромных количествах стали поступать проекты абсолютно незаконных документов… Воспользовавшись ситуацией, некоторые политические группировки, ведомства, региональные администрации пытались в обход закона решать свои корпоративные, ведомственные, региональные и даже личные проблемы.
Стали производиться массовые назначения «своих» людей в структуры исполнительной власти, стал непомерно раздуваться бюрократический аппарат.
Правительство приняло несколько решений о государственном финансировании и кредитовании различных структур в условиях отсутствия утвержденного бюджета…
Существовавшие «фильтры», призванные на предварительных этапах отсекать проекты заведомо незаконных решений, не справлялись, тем более что поток документов в значительной степени был пущен в обход их. Часть таких документов была подписана Ельциным без необходимых виз – во время личных встреч с тем или иным ходатаем».
Эта большая цитата принадлежит перу одного из помощников бывшего президента России.[68]68
См. там же. С. 370–371.
[Закрыть] Так что выигравшие, как видим, были. Получали субсидии, кредиты, льготы, присваивали громадные куски бывшей общенародной собственности. Шум по поводу приватизации стих, она пошла таким темпом и в таких формах, что и шуметь было некогда. Власть в ельцинском понимании и исполнении всегда была специфической формой собственности. Долями этой собственности он рассчитывался за верную службу и личную преданность. А там уж дело техники – трансформировать власть в обычную собственность. Вот почему шла такая беспощадная борьба за власть. Она всегда приносит победителям золотые плоды.
Народ вроде бы простил Ельцину побоище 1993 года в центре столицы на потеху всему миру, как прощал ему многое, чего никому бы не простил. Умение нашего первого президента казаться «своим» людям самых разных общественных слоев нельзя недооценивать, оно было уникальным, природа тут не поскупилась. Но только вряд ли стоит обольщаться таким прощением. Рано или поздно люди поймут, почувствуют теснейшую связь действий власти со своей собственной жизнью, со своим благополучием. И заново проанализируют все слова и поступки Бориса Николаевича Ельцина, сквозь постоянно обволакивающее его облако лжи рассмотрят истинный смысл его политического творчества и осознают меру своей доверчивости. И вынесут решение для истории.
Конечно, если мы будем продолжать строить, говоря словами Г. А. Явлинского, притворную демократию, довольствоваться притворным разделением властей, притворной свободой слова, тогда да, тогда фигура Ельцина будет рассматриваться как исторический гигант, осчастлививший Россию и всех «дорогих россиян». Если же нет, если мы разберемся в том, что произошло со страной и с нами за десятилетие его правления, тогда лучше ему быть как можно скорее забытым.
Глава 18. Нам подменили победу
Общественный прогресс имеет много измерителей. Можно оценивать его в тоннах стали или нефти на душу населения, в гектарах пашни или количестве танков, в километрах дорог или килограммах добытого золота. Но в конце концов обязательно возникнет вопрос: а как все это влияет на человеческую жизнь, на нашу удовлетворенность собственной судьбой, на наше миросозерцание и душевный комфорт? Такие, чаще всего трудно измеримые показатели как бы суммируются в одном – в здоровье нации, ее оптимизме, качестве жизни.
В марте 2001 года в Москве проходило общее собрание Российской академии медицинских наук, где наши уважаемые академики пытались проанализировать этот обобщенный показатель. Уверен, что многие из них испытали настоящий шок. Ну а власть, как всегда, сделала вид, что наука и реальная повседневность – всего лишь две не пересекающиеся плоскости.
Между тем плоскости-то как раз уже и пересеклись. Начиная с 1994 года численность взрослого населения России сократилась на 2 миллиона человек, детского – на 6 миллионов. Если в 1940 году, после многих лет лютых сталинских репрессий, люди тем не менее уверенно оценивали завтрашний день и не страшились рожать детей – в том году естественный прирост населения составил 12,4 процента, – то в просвещенном, демократическом и свободном 1999 году он достиг минус 6,7 процента, то есть шла мощная естественная убыль населения. А ведь все эти цифры очень сильно «исправляются» миллионными миграциями русскоязычного населения в Россию.
Продолжает снижаться средняя продолжительность жизни россиян – мужчины живут в нашем Отечестве всего 59 лет. Скоро этот показатель еще понизится, отягощенный беспримерной гибелью подрастающего поколения: число подростков, взятых на учет с диагнозом «наркомания» за последние 15 лет увеличилось в 15 раз, а смертность среди них – в 42 раза!
Эти данные ученые напрямую связывают с тем, что происходит в России, – с реформами и общественно-политической ситуацией. Поразительно, но любой социальный катаклизм немедленно ведет к резкому подъему смертности, прежде всего, среди трудоспособного населения. Такая зависимость была выявлена и после расстрела парламента в 1993 году, и после финансовой катастрофы 1998 года.[69]69
См.: Родионова И. Демографическая дыра. // Общая газета. 2001. 1–7 марта. № 9.
[Закрыть] Самая деятельная, самая ответственная часть населения восприняла эти события как крушение своих надежд, своей судьбы. По его привычкам, стереотипам поведения, системам самооценок были нанесены разрушительные удары, почва из-под ног ушла, духовная опора утратилась. Условия его стабильного существования – и как социальных индивидов, и как физических существ – были подорваны. Биологический потенциал нации в очередной раз подвергся депрессии.
Перечисленные выше примеры и показатели не оставляют камня на камне от жизнерадостных характеристик российских реформ, показывая их истинное качество. Страна деградирует по самому важному, самому трудноисправимому измерению – она ужасающе быстрыми темпами теряет свое население. Десятилетия и десятилетия потребуются, чтобы изменить направление этого процесса, да и то если государство сумеет вернуть себе доверие народа. Пока же оно только утрачивает это доверие.
Дезориентация огромной части российских граждан чудовищна. Люди и верят в то, что жизнь изменится к лучшему, и не верят. Наивные надежды заставили их одарить почти всенародным признанием, по сути дела, комичную фигуру «первого президента» – это обошлось им, как минимум, в десять лет жизни. Теперь они перенесли свои добрые чувства на преемника и, мало что зная о нем, на руках внесли его в Кремль, снова разбудив в себе старые крестьянские упования на доброго барина. Кто-то умело оживляет их советские иждивенческие настроения, непосредственно выражаемые устами российских пенсионерок, по нескольку месяцев не получающих свое скудное содержание: а что, может, он для нас чего и сделает! Прожитая ими жизнь-мука обернулась жизнью-обреченностью.
Разговоры с ними – тягостны и невероятно интересны. Вдруг начинаешь сознавать, что, пользуясь одним и тем же языком, мы вкладываем в слова принципиально разные значения. То, что виделось нам в 1990–1991 годах как исторический поворот в движении Советского Союза, они видят совершенно иначе. Да, говорят они, СССР распался или его развалили, мы в этом ничего не понимаем, вы, политики, наверное, знали, что делали. Ну а почему распались, скажем, энергетические системы? Продовольственный обмен? Транспорт? Почему вообще вся экономика была дольками разрезана? А наша общая армия? Что, дешевле содержать пятнадцать армий, чем одну? А науку, которую все вместе развивали, как и зачем поделили? А здравоохранение, образование, культуру? Где теперь великие артисты из маленьких республик, которые через всесоюзную сцену выходили ко всему миру? В заштатном театрике бедствуют? А уважать нас в других странах стали меньше или больше? А наши семейно-родственные отношения – их-то зачем искромсали десятками границ и граничек, на каждой из которых надо мзду давать? Хорошо хоть не спрашивают, куда вы нашу страну дели… Но ведь спросят.
Из тьмы вопросов, над которыми размышляют стихийные философини, вырисовывается один ответ, от которого невольно хочется увернуться: ведь все эти вопросы в тот момент, когда они вешали себе на шею образки с изображением Бориса Ельцина, не существовали для них и в самых страшных снах. Привычно, по-советски, полагая, что власть, взявшись за реконструкцию страны, уж как-нибудь и о народе вспомнит, они не связывали распад СССР с распадом всего уклада своей собственной жизни. И когда не строй, не страна, а вся устоявшая ткань их и без того беспросветного бытия расползлась на рвущиеся дальше отдельные клочки и нити, они потеряли то личностное качество, которое ученые-философы называют идентичностью. Теперь им трудно, почти невозможно соотнести себя со своим Отечеством – старого Отечества нет, а нового они не знают, не понимают, боятся. Гайдары, Чубайсы, Немцовы, Кириенки и иже с ними вызывают в глубинке вовсе не любопытство, а желание осенить себя крестным знамением от нечистой силы. Вместе с другими «отцами русской демократии» они могут, конечно, считать и провозглашать себя носителями добра реформаторства, но основная часть российского населения поместит их по другую сторону роковой черты.
Основания для этого более чем достаточны. В конце XX столетия ельцинское государство явило миру невероятные примеры бесчеловечности. Десятки миллионов людей перестали получать зарплату, труд стал практически рабски бесплатным. Все социальные гарантии, которые за 80 лет удалось вырвать у тоталитарной системы, рухнули. С 1992 по 1998 год все население России, по крайней мере, трижды лишалось своих трудовых сбережений. Доходы трудящихся, если сопоставить их с ценами, то есть посчитать в реальном выражении, по меньшей мере, на треть уступают 1989 году. Мы жили очень бедно, с этим никто не станет спорить, но определенный уровень жизни был обеспечен. Теперь же чуть ли не три четверти наших соотечественников просто рухнули в нищету. Человеческие страдания этих лет можно сопоставить только с самыми великими бедствиями в истории цивилизации.
И все это называлось «реформы»!
Но, может быть, заплатив столь высокую цену, мы действительно уверенно двинулись вперед? Может быть, тяготы и лишения, перенесенные десятками миллионов людей, оказались не напрасными?
К сожалению, невозможно ответить утвердительно на эти вопросы. Наши радикальные реформаторы, разрушившие почти все, что можно и даже чего нельзя было разрушить, и не создав практически ничего, подвели под будущее России громадную мину. Они так удивительно осуществили приватизацию, что бюджет страны нисколько «не поправился» от ее итогов. Гений будущего историка будет долго биться над загадкой, как можно было «продать» более половины собственности гигантской страны, обладательницы самых крупных в мире запасов полезных ископаемых, и оставить открытым вопрос: а где деньги? Может, не продавали, а раздавали, чтобы спешно создать «класс собственников»? Тогда на основе каких законов и принципов? Я сам не раз слушал, как на заседаниях правительства РФ Чубайс, Кох, Бойко докладывали о предполагаемых доходах от приватизации – речь шла о десятках триллионов неденоминированных рублей. Параллельно с такими доходами Россия торопливо залезала в долги западным странам и старалась увеличить свой сырьевой, прежде всего нефтяной и газовый, экспорт. Однако в экономике России странным образом ничего не прибавлялось. В ход пошел аргумент о необходимости наращивать инвестиции. Нарастили: в 2000 году инвестиции составили 20 процентов от уровня 1990 года! Какой «рост»! Нельзя не согласиться с моим давним знакомым американским политологом Стивом Коэном, у которого я взял эту цифру, что Россия при Ельцине жила во многом за счет накопленных при советской системе ресурсов, от запасов капитала до наработок в сфере образования, в то время как «реформы» только конфисковывали, перераспределяли и растаскивали ее собственность и другие блага.[70]70
См.: Коэн С. Провал крестового похода. М., 2001. С. 56.
[Закрыть]
Последние два года этот процесс был смикширован небывало высокими ценами на нефть. Сколь бы много «нефтедолларов» ни оседало в западных банках, наше государство также не остается в накладе. Оно в основном рассчиталось по старым долгам с армией, с пенсионерами, с бюджетниками, поддержало дотационные регионы. Центробанк последовательно наращивает валютные резервы. Появились новые «соловьи прогресса», которые запели о стабилизации и начале подъема. Осторожно! Какой подъем, от какого уровня? Наш валовой внутренний продукт (ВВП) составлял в 1999 году немногим больше половины ВВП начала 90-х годов. Уважаемые российские экономисты, когда им нужно, умело применяют прием своих старших советских коллег: сравним с 1913 годом – рост будет «в разы». Главное, деньги в экономику по-прежнему не идут, наши основные фонды все больше ветшают, население даже таких относительно благополучных городов, как Москва, все больше занимается натуральным хозяйством на своих 6 сотках, а это значит, что мы все еще проедаем накопленные богатства и очень мало производим сами. Любое колебание цен на нефтяных рынках бросает в дрожь наших министров, и они уже начинают предупреждать, вскоре экономический рост опять замедлится. Другими словами, разрушение советской экономики преодолеть не удается, разрыв между нами и индустриально мощными странами продолжает расти.
Представители России по десятому разу объезжают мир, приглашая западные деловые круги смелее идти в нашу страну, инвестировать капиталы в нашу экономику. Особым успехом эта теперь уже многолетняя деятельность пока не отмечена. А ведь мы помним 1986–1990 годы, когда такие предложения делали не мы, а нам! Москва была переполнена посланцами иностранных фирм и банков, которые привозили с собой самые смелые и масштабные проекты. Развернувшаяся борьба за власть, пробуксовывание перестройки, путч очень сильно сбили энтузиазм возможных инвесторов. А когда им довелось понаблюдать, как под прикрытием разговоров о демократии и рыночных реформах разные группировки наших «элит» делят экономическое наследство СССР, доходя при этом до орудийной стрельбы по собственному парламенту, они просто не захотели иметь дело с такими оголтелыми реформаторами. И не хотят, видя, что даже те, кто у нас в стране «сделал себя сам», честно работал и смог заработать, живут в постоянном страхе перед «наездами» криминала, а главное – перед государственным рэкетом, в результате которого бизнесмен лишается не только своих денег, но и свободы, и чести. Постоянно рассуждая о «классе собственников», власть разделила его на два «подкласса». С одним из них ей уже трудно справиться – это олигархи, которые в ельцинскую эпоху сами указывали власти, что ей надлежит делать. С другим – это малый и средний бизнес – можно не церемониться, здесь и законы не спешат приниматься, и проверки обгоняют одна другую. Не всякий это выдержит, не у всякого хватит характера и денег, чтобы регулярно одаривать бесчисленное алчное племя чиновников. По этим двум «подклассам» разрастается и наша коррупция, каждый действует на своем «этаже». Как все повторяется!
Президент Ельцин, начав завоевание популярности с провозглашения себя борцом против коррупции в городе Москве, не оказался таковым в России, избравшей его главой государства. Он регулярно налагал вето на закон о коррупции, менял премьеров, стоило им только заикнуться о борьбе с олигархическим разбоем. Это все больше раскалывало общество, в котором граждане оказались равными и более равными перед законом. Ельцин упустил шанс стать президентом согласия, наоборот, он стал президентом раздора. Конфронтация, умение сталкивать людей лбами были его стихией, в спокойной обстановке он работать, видимо, просто не мог.
Высшей точкой его способности к конфликтам и нашего национального позора навсегда останется, конечно же, расстрел первого в новой России парламента. Как уже отмечалось выше, его депутаты в тяжелейшей политической борьбе сделали Ельцина сначала Председателем Верховного совета РСФСР, а затем и президентом Российской Федерации. Всенародные выборы не должны здесь никого вводить в заблуждение – Верховный Совет был де-факто избирательным штабом Ельцина на первых выборах президента РФ. Борис Николаевич рассчитался со своими сподвижниками сполна. Как – видел весь мир.
Вернусь еще раз к книге, написанной помощниками и советниками президента России, «Эпоха Ельцина». Там дается подробнейшее описание действий Ельцина в период с марта по октябрь 1993 года. Анализ принятых тогда документов, сопоставление конкретных шагов, круг действующих лиц, почти все из которых мне достаточно хорошо известны, привели меня к тяжелому выводу: президент Российской Федерации намеренно обострял конфликт с парламентом. Никаких актов о согласии, о примирении он подписывать не собирался. Его задачей было, прежде всего, прекращение любых заявлений с трибуны «Белого дома» о нарушениях и злоупотреблениях в ходе приватизации и дележа госсобственности. Ссылки на одиннадцать чемоданов с компроматом политически наивного вице-президента А. В. Руцкого и не очень удачные реплики по поводу президентских слабостей со стороны Р. И. Хасбулатова – это все для простаков. Как и в случае с подготовкой проекта нового Союзного договора, описанной в главах, посвященных перипетиям вокруг этого документа, Ельцин продемонстрировал в своих отношениях с «мятежным» парламентом ту же грубую самонадеянную игру, которая и удалась-то лишь потому, что ни один здравомыслящий человек, кроме разве что кучки негодяев, не мог допустить и мысли, что президент страны решится на конституционный переворот. Ну а шумовое оформление в виде хора интеллигенции – этому мы весь мир поучим!
Система российской демократии как форма государственного устройства сложилась уже в 1991 году под определяющим влиянием горбачевской перестройки. Она включала всенародно избираемых президента, вице-президента, парламент. Нормально функционировал независимый Конституционный суд. Претензии к генеральному прокурору В. Г. Степанкову, конечно, были, но нигде нет генеральных прокуроров, которыми были бы все довольны. В целом же прокуратура работала, я считаю, лучше, чем она стала работать после октября 1993 года. Пресса освоилась с Законом «О средствах массовой информации» и могла по праву считать себя свободной. На местах были сформированы выборные законодательные органы, начало развиваться нормотворчество субъектов Федерации. Это были крупные демократические завоевания, позволяющие говорить о возникновении в России новой политической системы.
К 21 сентября 1992 года Ельцин фактически парализовал всю эту систему.[71]71
См.: Коэн С. Провал крестового похода. С. 131.
[Закрыть] Парламент был объявлен распущенным, полномочия вице-президента, Конституционного суда и генерального прокурора приостановлены. Публикация парламентских материалов прекращена, что иначе как введением цензуры не назовешь. Местным органам законодательной власти доходчиво объяснили, что они могут быть распущены, если станут на сторону парламента.
Другими словами, к 3 октября основные демократические институты России были «выведены из игры» и никогда уже больше не возникли в прежнем виде – новая Конституция сделала их зависимость от президента подавляющей. Назовем мы это диктатурой или более мягко – авторитаризмом, неважно: в Россию снова вернулась почти неограниченная власть одного лица.