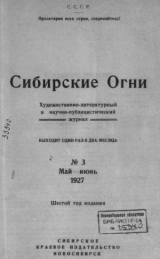
Текст книги "Сладкая полынь"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Зачем?.. Ну, зачем вы такая недоверчивая? Ведь легче становится, когда выскажешься. Я по себе знаю.
– Мне об чем говорить? – упрямо сказала Ксения. – Моя жизнь простая... Вам не к чему беспокоиться.
Она почувствовала неожиданную неприязнь к этой чужой, ласковой женщине.
Что-то непонятное пришло внезапно, что спугнуло теплую доверчивость, которая охватила ее еще с минуту назад. Она снова сделала попытку освободить свое плечо и на этот раз удачно: Вера Алексеевна поспешно убрала руку.
– Спать пора! – поднялась Ксения.
– Верно. Давайте спать... Завтра поговорим. Ведь, еще поговорим?
– Завтра мне недосуг будет. Я в Острог поеду.
– Жалко! – огорчилась Вера Алексеевна и стала раздеваться.
– Я к обедни завтра в Острог-то поеду! – неожиданно добавила Ксения. И вдруг ее охватила какая-то жалость к чему-то, вот сейчас, в это мгновенье от нее ускользающему.
Вера Алексеевна ничего не ответила и, раздевшись, легла в постель. Ксения потушила огонь.
В темноте тишина в избе стала гуще и насыщенней.
В темноте Ксения сжалась на своей постели. Без сна, полная тревожных мыслей и чувств, прислушивалась она к тому, что томило и угнетало ее. И, смутно слыша сквозь думы свои ровное дыхание учительницы, мгновеньями порывалась встать, подойти к ней, разбудить, если она спит, и снова почувствовать теплое прикосновение ее руки, снова услышать ее успокаивающий голос. Но она осталась на месте, неподвижная, усталая, тоскующая.
Утром учительница уехала своей дорогой. Прощаясь с Ксенией, она дружески пообещала:
– А я, как устроюсь в Максимовщине, выберу свободный денек и приеду к вам в гости. Можно?
– Приезжайте!
Она уезжает. Ксения долго стоит в задумчивости. Смутные мысли уводят ее куда-то далеко от действительности, далеко от земли. Вкрадчивый голос крёстной приводит ее в себя. Крёстная спрашивает:
– Ты, што ль, не поедешь? Не опоздать бы!
– Еду! – рывком, почти злобно отвечает Ксения. – Еду я!..
16.
Отец Сосипатр, острожный поп, появился здесь недавно. Где-то за Уралом сжали и утеснили тихую обитель, лавру, и пришлось братии рассыпаться по свету белому, кто куда. Сосипатр подался в Сибирь. Страна, слыхал он, неизмеренная, народ кой-где еще совесть не потерял, в бога крепко верует. Побродил отец духовный по епархиям, присмотрелся, скорбела его душа: и здесь разврат пошел, и здесь живая церковь единую, древле-апостольскую угнетает, и здесь народ отшибся от бога. Помытарился Сосипатр по разным местам и осел, наконец, в Остроге. А до него попом был тут Андрей рыжегривый, толстошеий, с крепкими, как у грузчика, руками мужчина, весельчак и пьяница. Андрей этот распустил паству, по вдовьему состоянию своему был не чист по женской части и к церковной службе рвение имел плохое. И кончил он плохо. По пьяному делу побился с мужиками об заклад, что в рекостав перебредет нагишом небольшую курью, да оступился, нахлебался жгучей студеной воды и через неделю умер в горячке. Наследство он оставил Сосипатру неважное. Когда новый трезвенный поп обосновался здесь, в первый же престольный праздник мужики потащили его по избам гулять, но он сурово отказался:
– Не вкушаю.
Мужики, даже те, что были привержены к церкви, обиделись, но среди баб новый поп прослыл праведником и о нем пошла слава, как о святом человеке.
– Виданное ли это дело? – с испуганной почтительностью толковали бабы. – Не пьет и чистоту свою соблюдает! Праведный человек!
И старухи потянулись в церковь, где Сосипатр, приученный монашеским уставом к долгим службам, томил их и доводил до головокружительного восторга бесконечными обеднями и вечернями. Но одними старухами трудно было удовлетвориться попу: старухи на закате своих дней все равно от бога не уйдут. Хорошо бы, мечтал Сосипатр, привлечь к церкви, к богу молодых, таких, которые вере православной делом могли бы послужить. А таких почти совсем и не было.
Вот почему, когда, забегая вперед Ксении, Арина Васильевна и другие старухи рассказали ему о том, что потянуло молодую женщину, которая и там-то была, и то-то делала, к богу, – вот почему обратил особое внимание на Ксению Сосипатр: он почувствовал смятенную душу.
– Нет ближе человека ко господу, чем многогрешивый и вернувшийся на истинный путь человек! – сказал он старухам и вызвал с их стороны пугливое, но почтительное недоуменье.
Первый осмотр Ксении заставил его насторожиться. Женщина держала себя несвободно, все время на-стороже. Потом, немного освоившись, она все же поведала ему о своем прошлом, немного отошла, согрелась, но к концу, заметил он, она снова сжалась и закрылась пред ним. Он учел это, сообразил и решил в следующий раз быть осторожней.
Поэтому в воскресенье после обедни, которую она выстояла вместе с Ариной Васильевной и другими старухами, Ксения, придя к Сосипатру, нашла строгого, углубленного и скупого на слова человека, которому все мирское, все мелочное чуждо и далеко.
– Ты, женщина, не лукавь! – предостерегает он ее сразу. – К господу богу надо идти с чистою душою. Будешь душою кривить, не спасешься. Не лукавь, говорю я! Если испытывать думаешь меня, то знай, что все мы грешны, а я, раб смиренный, как и другие...
Ксения смущается. Ей не понятно, к чему ведет поп. Она чувствует что-то новое в его обращении с нею. И она не знает в чем дело.
– Я без лукавства. Мне бы душе моей спокойствие найти... Сказывают, молитва помогает. Я, батюшка, за молитвой к вам... Помогите мне молиться, научите!
Единственным глазом впивается Ксения в попа. В глазе ее пылает ожидание, суровое и страстное. Сосипатр ловит ее взгляд и не опускает пред ним своих глаз; Сосипатр привык глядеть в глаза своим пасомым. И, однако, на одно мгновенье чувствует он, как трудно ему выдержать, не отвести в сторону своего взгляда.
Он сметает внутреннее свое смущенье и зажигается. Слова – вот его сила. Он знает это и обрушивается на Ксению потоком звучащих суровою и пламенною страстью слов. Он тратит ради этой простой и рядовой заблудшей женщины испытанное свое красноречие. Он гремит, обличающий, скорбящий, о суетности и заблуждениях мирских, гремит всеми привычными, пропитанными монастырской, отшельнической прилаженностью словами. Эти слова должны убедить, должны сломить последние остатки сомнения. Кажется, женщина сломлена; кажется, она подавлена и не уйдет. Наступает сосредоточенное молчание: поп устал, прикрыл глаза, он витает где-то не здесь. Женщина сжалась и вся еще под властью его слов. У женщины раскрывается душа. Вот скажет она самое заветное свое, самое затаенное. Сосипатр знает эти простые души и он, не открывая глаз, расслабленно и тихо приказывает:
– Говори!
Ксения наклоняет голову низко, низко. Голос ее слаб и приглушен волнением.
– Батюшка! Батюшка... – начинает она и вдруг умолкает. Внезапно она сознает, что ей стыдно говорить о своем самом заветном этому чужому мужчине, и ее охватывает дрожь при воспоминании, что она уже однажды раскрывала пред ним душу, отдаленные и сокрытые от других тайники своей души. Она умолкает и неподвижно застывает. Сосипатр ждет. Не дождавшись, он открывает глаза.
– Что же ты замолчала? Говори!
– Не могу! – качает головою Ксения и не смотрит на попа.
– Я – пастырь, служитель божий, меня грех стыдиться! – властно говорит поп. – От меня нельзя ничего скрывать!
– Я ничего не скрываю! – тоскливо говорит Ксения. – Я все сказала в прошлый раз.... Так это я...
– Всё! – сурово и требовательно повышает Сосипатр голос. – Все говори!.. Всякую малую мысль, каждый помысел свой поведай, если хочешь угодна быть богу и спастись.
И опять не надолго Ксения чувствует над собою силу этого властного голоса, опять готова она распахнуть пред монахом, у которого сдвинутые брови и глаза смотрят отчужденно, всю душу свою.
17.
Приходят дни, когда крёстная, Арина Васильевна, не нарадуется на Ксению. В избе после немудреной зимней домашней работы тихо и спокойно, Ксения сидит у стола с каким-нибудь рукоделием, умиротворенная и отвечает на вопросы крёстной просто и ровно, без недавней сумрачности. И лицо Ксении, хотя и грустное, но какое-то ясное. Словно отдыхает она от тяжкой ноши и не уверена, что совсем избавилась от нее.
Арина Васильевна забегает к соседкам и делится с ними своею радостью:
– Помог, ведь, батюшка-то Ксении! Совсем девка у меня выправилась!
Соседки слушают Арину Васильевну с загорающимися глазами, соглашаются с нею и несут ее слова дальше, в соседние избы. И так из избы в избу идет эта весть, увеличенная, измененная и преукрашенная молвою. И из Верхнееланского катится она во все стороны: в Могу, в Максимовщину, в другие деревни. Катится и разрастается. А вместе с нею катится и разрастается слава отца Сосипатра.
– Вот праведный да святой человек что значит! – горделиво и заносчиво говорят богомольные бабы. – Не то, что покойник Андрей-пьяница, царствие ему небесное!..
Ксения не знает об этих разговорах. Изредка в эти дни забегает та или другая баба к ней, – да для видимости, впрочем, не к ней, а к Арине Васильевне, – жадно поглядит на нее, подсмотрит воровски за нею: что, мол, поп с женщиной сделал? – и убежит, обогащенная новыми своими наблюдениями. Изредка пройдет она сама по деревне, зайдет в какую-нибудь избу, где ее встретят услужливо, с какой-то скрытой опаской, как только что выздоровевшего трудно-больного. Но ничего не доходит до нее, ничего она не слышит.
Однажды в соседской избе, где, забежав на минутку, Арина Васильевна засиделась надолго, речь зашла о свадьбах. Бабы поразобрали чей-то неудачный брак и удивлялись:
– А свадьба-то, девоньки, какая веселая была! Страсть!..
– Быват! быват!.. Пока женихаются, все милуются да целуются, а как венцы на голову – ну, беда!
– Кому какое счастье! – вздохнула одна, а за ней и другие. А после вздохов родилось неожиданно и всех поразило, как это раньше-то не придумали?
– Васильевна, а пошто бы тебе своей Ксенушке мужика не приглядеть?.. Есть вдовые да детные, что и не поглядят на обличье. Есть и такие!..
Арина Васильевна смутилась, замялась и виновато объяснила:
– Не хочет она и слышать об этом.
– Да ты когды говорила с ей? Поди раньше?!
– Раньше! – вспомнила Арина Васильевна и загорелась вот тут, вот сейчас только что выросшей и окрепнувшей надеждою. – Я об этом осенесь ей толковала. Не теперь.
– Вот видишь!.. А нонче в ей мечтанье, может, другое! Оклемалась она, очухалась.
– Ты теперь помани ее этим, она сразу побежит!
– Сразу! Что и говорить!.. Натосковались, поди!.. Павел-то ее, работник ваш, давненько, ведь, ушел!
Арину Васильевну на мгновенье укалывает острым стыдом и обидою воспоминание о Павле, но она не дает разгореться в себе этим чувствам и ухватывается за высказанное соседками предположение. Для видимости не сразу сдаваясь, она слабо сомневается:
– Не то у Ксении теперь на уме. Она больше о молитвах. Был бы монастырь, как раньше-то, так в монастырь пошла бы...
Соседки крутят головами и ухмыляются:
– И-и, девонька! Нонче разве этак-то?! Да и прежде. Монастырь для бабы, которая еще ребят таскать в силе, не сладость!..
У баб заплетаются нескончаемые рассуждения о женской доле, о путях, которые вели в монастырь, о том, что при хорошем муже ни в какой монастырь, будь он святой, распросвятой, никто никогда не уходил. Бабы в этих рассуждениях забывают даже про Ксению, но во-время спохватываются и возвращаются к ней, к ее судьбе. Они уже властно и непрошенно распоряжаются ею. Они перебирают в памяти всех вдовцов, многодетных и пожилых, со всей волости, они примеривают их к Ксении, одобряют одного, хулят другого, ищут получше, спорят об их качествах, об их зажиточности, хозяйственности, хозяйствах.
Вместе со всеми горячо и деловито спорит и горячится Арина Васильевна. Возбужденная идет она домой, когда бабы кончают, наконец, беседу. И дома молча, тая в себе внове выпестованную мысль, загадочно поглядывает на Ксению.
Ксения ничего не замечает, ничего не слышит, ни о чем не знает. Ксения пребывает в каком-то отрешенном от действительности состоянии. Ей легко, словно освободилась она от тяжелой ноши, которая давила ее и обессиливала.
Это состояние пришло к ней после того, как она, послушавшись советов Сосипатра, постаралась ни о чем не думать – и молиться. Ее молитва не была похожа на те, что произносятся в церквах и которыми полон был монах, она молилась по-своему. В каком-то болезненном экстазе останавливалась пред темною иконою и, слабо шевеля губами, что-то неслышно шептала. Так простаивала она долю, порою возбуждая в крёстной беспокойство.
Но если бы Арина Васильевна как-нибудь ночью проснулась и подошла бы к Ксении, ее беспокойство перешло бы в острую тревогу. По ночам Ксения не спала. Она лежала с открытым глазом, вся застыв, оцепенев, без вздоха, без движения. Лежала без сна, к чему-то прислушиваясь, чего-то ожидая...
18.
Сорок утренников идут отмеренной чередой. До полудня жгуч и сердит мороз. К полудню солнце набирается крепости, пылает бледным, но оживающим огнем, радостно тревожит предчувствием медленно приближающейся оттепели. На увалах, на угорах, на открытых местах снег поблескивает зернью мелких искорок: на увалах, на угорах, на открытых местах нарастает и твердеет наст.
Сорок утренников защищают отступление сдавшейся зимы. Вот уже носятся неуловимые признаки ее конца: беспокойней стал скот, уставший в тесноте дворов и стаек, насторожились, вслушиваются во что-то собаки, острым и беспричинным лаем встречающие утро. У прорубей на Белой реке дольше задерживаются в беседах сошедшиеся за водою девки и бабы. И дым над крышами не так густ и бел, как прежде.
Пожалуй, пора уж готовиться к весне. И кой-где по завозням, по поднавесам звонко стучит топор, кой-где за избами возятся с ободьями или со скатами колес хозяйственные, запасливые мужики.
Арина Васильевна щурит глаза на помолодевшее солнце и соображает:
– Неужто и нынче брать в дом работника, чужого человека?
После бабьих разговоров, после горячих советов со всех сторон запало ей прочно в голову: надо, непременно надо Ксении мужиком обзаводиться. Мысль эта томит ее, и однажды, не сдержавшись, Арина Васильевна начинает серьезный разговор с Ксенией,
– Хочу я тебе, Ксеночка, сказать... – начинает она. Ксения медленно поворачивает к ней лицо и внимательно ждет. Старуха немного теряется, но быстро сминает в себе небольшое смущение и торопится высказать:
– Обзаводилась бы ты, Ксеночка, семьей... мужиком... Вот ты теперь за ум взялась, заодно бы...
Арине Васильевне не удается кончить. Ксения встает со своего места и каким-то чужим, незнакомым крёстной голосом прерывает ее:
– Перестань!.. Слышь, крёстная, перестань об этом... Никогда не говори такого, никогда!
Все расчеты Арины Васильевны рушатся. Вся бабья городьба рассыпается. Старуха огорчена. И ее огорчение усиливается еще и от того, что после этого разговора Ксения будто просыпается от долгого сна, теряет глухое спокойствие, которое владело ею несколько дней, и становится снова тревожной, возбужденной и не находящей себе места. Она, ничего не говоря крёстной, запрягает в одно утро лошадь и уезжает, и Арина Васильевна догадывается, что едет она в Острог. Крёстная обжигается обманчивой надеждою: не образумится ли мол, баба, побывает у монаха, но Ксения возвращается к вечеру еще более смятенная и растерянная.
И совсем неожиданно, сбивая Арину Васильевну с толку и пугая ее, заявляет:
– Уйду я!..
– Куда? – недоумевает крёстная. – Куда же, Ксеночка?
Но Ксения не отвечает, не говорит, – куда же она задумала уйти.
19.
Архип сердится. До Моги дошли толки о Ксении, о том, что богомольной стала она, совсем монашкой заделалась. Могинские старухи разукрасили эти толки и пересказали, ехидно задев по пути безбожника Архипа, Василисе:
– Вот тоже, как твой-то, против белых воевать ходила, с большаками путалась где-то, а нонче совесть и ее зазрила!
Василиса пересказала Архипу, а Архип и загорелся:
– Спортили девку!.. Спортили, чтоб их язвило!
И стал порываться в Верхнееланское:
– Съезжу я, мать, дознаюсь, допытаюсь до корню!.. Ране бы надо еще понаведаться к ей, а я все моргал...
Но и на этот раз Архип все не мог собраться навестить Ксению. И вместо того, чтобы поехать к ней, сидел в своей Моге и ругался.
А тут пришло еще одно письмо из города. Васютку Коврижкин устроил в какую-то ремесленную школу, пока так, на время. «По-настоящему, – писал Пал Ефимыч, – устрою я его попозже...».
Но не в этом была главная суть письма. Главное было в другом.
Павел Ефимыч корил Архипа за его бесхозяйственность и спрашивал, когда же мужик за ум возьмется?
«– Парня мы твоего устроили, – гвоздило письмо, – об этом тебе заботы не будет. Ну, а сам волынку ты свою оставь! Примайся за дело! Пишу тебе это я, бывший товарищ твой связчик. Примайся за работу, руки у тебя есть, не гляди, что белые пули дырки в тебе накрутили! Пулями, товарищ, не отговаривайся!.. Парень твой, Василий, к делу горячий азарт имеет, куда тебе до него! И не конфузь больше товарищей своих безделием и безобразием... Берись, говорят тебе, за работу!..».
Вырвал Архип письмо из рук Аграфены, стыдно ему вдруг стало, так стыдно, что и не скажешь.
– Шутки заворачивает! – смущенно гудит он. – Шутит дружок мой, Пал Ефимыч!
Хочется ему замять неприятные слова, хочется, чтоб острозубая, веселая Аграфена ничего не знала, да как она не узнает, когда письмо-то ею вкривь и вкось просмотрено и прочитано.
Стыдно Архипу и оттого сердится он, хотя не в его обличьи сердитым быть.
И в сердцах, сгоряча удерживает он Аграфену:
– Будь столь широкодушна, Груняша, – просит он. – Пиши ответ! Закручу я ему, пушшай понимает...
Аграфена соглашается. Добыта откуда-то бумага, появляются чернила. Архип морщит лоб, ждет когда девка наладится писать.
– Готово? Ну, пиши!
Собирает свои мысли Архип. Ах, и загнет он, и покажет же Павлу Ефимычу, что не всё Архип Степаныч Ерохин, бывший партизан, кровь свою на линии проливавший, виноват! Покажет.
Аграфена лукаво ждет, притихла.
– Говори, что писать-то! – подбивает она.
– Ну вот...
И, подбирая слова поцветистей да поблагороднее, Архип начинает диктовать Аграфене длинное письмо.
Слово к слову пристраивает он, охорашивает речь свою, но ядовит и гневен смысл этих слов. Прорвало Архипа. Откуда и прыть взялась. Даже Аграфена удивленно взглядывает на него и тушит лукавый блеск в своих глазах. Василиса неодобрительно покачивает головою и пытается, но безуспешно, что-то сказать.
Слово за словом нанизывает Архип. После нежного и почтительного обращения, после уведомления, что у нас, нечего жаловаться, все благополучно, чего и вам от души желаем, после горделивого сообщения, что работенка по хозяйству не стоит и даже дровишки с дальней делянки вывезены, после всего этого сообщает о Ксении: «Попрекаете вы, Пал Ефимыч, меня, дескать, гадит мужичёнко всю компанию, дескать пулями отговариваюсь! А напрасно! Совсем про меня этак-то напрасно отписали! А про кого надо, вы и не в рассуждении. Вот обсказывал я вам еще в городу про Ксению Коненкину, про кривую, которой подлые колчаки глаз выхлестнули, обсказывал я, что с прямого трахту свернула женчина, по поповской породе стала бегать, по церквам, молитвенницей заделалась и все подобное. А правильно это? Очень даже могу подтвердить, что никакой тут правильности нету, все одно безобразие и глупость. А вы на это никакого внимания. И при вашей сознательности и партейности, рази, не могли вы на слабосильную женчину голос поиметь? И, может, все возможно, она бы, эта самая Ксения Коненкина в головокружение свое не закружилась. А теперь об ей вся волость гремит и от всей волости срам на нас наваливается. Вот где самая центра, а не во мне. Я свою линию понимаю. Даже очень правильно понимаю...».
Хмурит, морщит лоб Архип, нанизывает слова, путает Аграфену: то еле-еле выжмет из себя слово, то заторопится, так и сыплет, так и хлещет, а девка кряхтит, не успевая выводить пером его слова.
Наконец, все написано, все вытряс из себя Архип. Ушла Аграфена. Готовое письмо лежит на столе: возьми да посылай его по адресу. Глядит Василиса с опаской на готовое письмо.
– А ладно ли ты это, Степаныч? – не выдерживает она. – Ладно ли, что эдак-то Пал Ефимычу написал в письме? Как бы не рассердился?!
– Он-то?! – изумляется Архип. – Пал Ефимыч-то рассердится? Да никогда!.. Ежели я сущую правду ему отписал, пошто же он сердиться будет?!.
20.
Город кутается в рыхлом снегу. Утром тротуары покрываются ледяною корочкой. На тротуарах по утрам можно ловко прокатиться на подошвах валенок или сапог, как на коньках. Ребятишки, устремляясь в школы, пугаются под ногами у взрослых и шаркают ногами по обледенелой дороге.
Васютка со стороны поглядывает на это и идет степенно и солидно. Васютка каждое утро ходит в школу, куда его отвел Павел Ефимыч. Каждое утро окунается он с головою в городскую сутолоку и все не может еще свыкнуться с нею. Он живет покамест с Коврижкиным, и Павел Ефимыч шутит порою:
– Вот мы с тобою, Василий Архипыч, два холостяка! Некому нам рубаху заштопать или постирать. Ты бы женился, что ли! – Коврижкин, когда весел и шутит, всегда называет его по имени-отчеству, как Архип.
Васютка надувает губы и отмалчивается. Но он знает, что Павел Ефимыч подшучивает над ним беззлобно, любя. Он чувствует скрытую ласку в голосе, в обращении к нему со стороны Коврижкина. И сам он начинает питать к Павлу Ефимычу теплое и нежное, но стыдливое чувство.
В школе парнишка приглядывается ко всему, все впитывает в себя. Хозяйственно оглядел, ощупал он в первый же день парты, классную доску, сравнил с тем, что видел в Максимовщине когда-то. Вытаращив глаза, побродил он украдкою по мастерским, загляделся на станки, прислушался к гуденью приводов.
Ко всему присматривается, обо всем хочет узнать Васютка. Коврижкин замечает это за ним и довольно ухмыляется. И товарищам, которые советуют устроить парнишку куда-нибудь в хороший детдом, он, потрясая кулаком, втолковывает с горячностью:
– Это замечательный парень! С ним овчинка выделки стоит повозиться!
Парнишка не прихотлив, не надоедает Павлу Ефимычу, ничего не клянчит, а соблазнов для ребячьей души в городе хоть отбавляй. Только в одном он упорен, об одном просит время от времени:
– Пал Ефимыч, напишем тятьке письмо. Я покеда еще по письму не знаю... Напишите!
– Я, выходит, к тебе в секретари нанялся, что ли?! – шутит Коврижкин, но никогда не отказывает, садится и под Васюткину диктовку, прибавляя и от себя, пишет послание Архипу. К последнему письму он делает большую приписку. Он много наслушался от скупого на разговоры парнишки о хозяйстве Архипа, ему прежде и не приходило в голову, что мужик так распустил себя, стал таким, по его мнению, лодырем. Поэтому насел он в приписке этой на Архипа и прикрикнул: не конфузь!
Но городская жизнь и городские всякие дела оставляют ему мало времени для разговоров, для бесед с Васюткой. Урывками, пред сном и в обеденное время, да и то не всегда, бывает он вместе с парнишкой. Мало ему времени и о бывших старых товарищах подумать: кружит и закруживает его работа. И ему самому порою удивительно, как это он все-таки выбрался о судьбе Архипова сынишки подумать? Просто фарт такой вышел, что урвался он в отпуск. А то так бы и прособирался и ничего не сделал.
Теперь у него на душе стало легче. Парнишка, который украдкой поглядывает на него теплым взглядом, живое доказательство, что он, Коврижкин, Павел Ефимыч, не забыл старого, не потерял живой связи со своими партизанами.
Но приходит письмо от Архипа, и Павел Ефимыч темнеет.
– Чорт! – ругается он в пространство. – Какая же тому причина? Ведь баба-то такая разумная была!..
Огорчение Коврижкина не ускользает от внимания Васютки. Парень молча поглядывает на Павла Ефимыча. Поглядывает и затихает еще больше, чем всегда.
Меряя комнату из угла в угол, Павел Ефимыч думает. Что-то, пожалуй, следует предпринять. Написать разве Ксении? – Но он сам усмехается над вздорностью этого плана. Поехать самому? – Нельзя, работа не пустит работа общественная, а тут дело идет всего-на-всего об одном человеке. Что-то надо придумать. Вот разве Вера Алексеевна, она там поблизости учительствует, он уже говорил ей об этой женщине, может быть, она уже встречалась с Ксенией, – разве ей написать, ей поручить повидаться с Ксенией, которая, видно, немного свихнулась без хорошей поддержки?
Коврижкин обрывает свое шатание по комнате. Коврижкин напал на верную мысль. Он веселеет. Заметив, что Васютка присмирел и сжался и притаился, он шагает к нему, кладет широкую ладонь на его голову, наклоняется:
– Ничего, Василий Архипыч! Не так страшен чорт, как его малютки! Мы еще посмотрим!..
21.
Егор Никанорыч придумывает умную штуку. Кресткомские ребята могут сесть ему на шею, об этом он сам догадывается да секретарь, бывалый человек, об этом же ему все время твердит. Разговоры с коноводами пока что не привели ни к чему: то ли не понимают ребята, чего от них хочет председатель, то ли по хитрости дурачками прикидываются. И вот Егор Никанорыч придумывает умную, как ему кажется, штуку.
О необычайном обороте в судьбе Ксении ему стало известно, конечно, сразу же. Вначале он не обратил на это никакого внимания: что ж, мол, дело пустое, отсырела баба, молельщицей стала, ее это забота, больше ничья. Но когда подходцы к мужикам, которые забирали силу в кресткоме, прошли впустую, он вспомнил о Ксении.
– Ведь, не зря же тогда ее комиссар приезжий в этот самый крестком совал! А что если вот теперь ее туда пристроить!? Нонче она стала богомолкой, можно на нее не с той, так с этой стороны нажать!
Секретарь, с которым Егор Никанорыч поделился своим планом, не отверг его:
– Для пробы почему и не испытать. Для пробы можно.
И, не откладывая дела, под горячую руку вызвал Егор Никанорыч к себе Ксению.
А когда Ксения пришла, Егор Никанорыч выставил из присутствия Афанасия Косолапыча.
– Ступай-ка ты, Афанасий, в свою каморку! У нас тут дело серьезное и секретное... Ступай!
– Сурье-езное! – пренебрежительно протянул Афанасий и ушел прочь: а ну вас, однако, к лешему!
Ксении было не до бесед, не до деловых разговоров. Она была на тысячу верст от всяких крестьянских, мирских дел. Голова ее была занята другим. Но все-таки изумило ее то, что послали за нею из сельсовета. И ее больше изумили ласковые ухватки и льстивый голос, с каким обратился к ней Егор Никанорыч.
– Так что, Ксения, по делу по маленькому скликал я тебя... Надумал я, зачем, дескать, чтоб у нас Коненкина зря околачивалась, коли занятье ей имеется? Да к тому же и из городу мне намеки на это самое делали... Вот, прямо, без виляния тебе говорю: поступай, Ксения, в крестком. У тебя вся твоя положения подходяща. И сама себе дело сделаешь, да обществу послужишь. Слыхала, небось, какие горлопаны туда затесались! Ну, ты и поработай. Тогда-то знакомый твой коммунист шибко старался, чтоб тебе у дела, у занятья быть... Согласна ты?
Ксения вслушалась в смысл председателевских слов. Откуда-то издалека, сквозь толщу ее невеселых мыслей донеслись они до ее сознания и хлестнули горькими воспоминаниями. Она тяжело задышала. Волнение, которое внезапно подступило к ее горлу, задерживало слова на устах. Егор Никанорыч подумал, что она раздумывает и колеблется, подошел к ней и ободряюще и снисходительно сказал:
– Да ты не бойся! Коли в чем у тебя силы нехватит, я тебе завсегда помогу! Обязательно!
Переборов свое волнение, Ксения повернула лицо и взглянула на Егора Никанорыча злым и горячим взглядом. Одинокий взгляд на бледном обезображенном ее лице засверкал пугающе.
– Спасибо тебе! – гневно крикнула она председателю. – Ладно ты сделал!.. Сперва утеснил, петлю на шею захлестнул, а теперь добрым стал!?.. Спасибо!.. Не хочу я с тобою и толковать-то!.. Не знаю, к чему ты речи свои гнешь, а все равно не хочу!..
Злая и возбужденная вышла Ксения из сельсовета, оставив Егора Никанорыча встревоженным и сконфуженным.
– Чортова уродина! – сквозь зубы послал он ей вслед, когда она скрылась за дверью.
22.
Проруби на Белой реке были широкие. От прорубей по угору к улице вели бурные исхоженные скотом и истоптанные людьми дороги. У прорубей по утрам ледяной звон стоял: бабы, а порою, когда мороз был крепкий, и мужики, пешнями и кайлами пробивали твердую корку льда, затянувшего отверстие за ночь. Над прорубями в лютые морозы белый пар вился.
Ксения выходила за водою по утрам раньше всех. Она зачерпывала оба ведра, отставляла их на лед и молча стояла подолгу и глядела в зияющее жерло реки. Она ни о чем не думала. Холодное оцепенение охватывало ее, и она трогалась с места и уходила от проруби только тогда, когда звон ведер и скрип шагов давали знать, что кто-то еще другой подходит за водою.
Она пристрастилась к этому бездумному стоянию над полой водою недавно. Всего несколько дней назад она побывала еще раз в Остроге. И там с ней случилось что-то непонятное. Простояв томительную службу в церкви в обществе нескольких старух, она намеревалась зайти к Сосипатру. Она уже перешла снежный двор и взялась за крюк двери поповской каморки, как ей послышалось, что кто-то ее окликнул:
– Ксения! – тихо, но внятно позвал откуда-то со стороны знакомый голос.
Она обмерла и опустила руку: голос проник ей в сердце. Она узнала его. Голос Павла трудно ей забыть и не узнать! Обернувшись, она стала искать позвавшего ее, но нигде никого не увидала. Недоумение навалилось на нее, недоуменье и испуг. Она съежилась и стала ждать. И снова тихо и ясно донеслось до нее откуда-то:
– Ксения!..
Ксеньин испуг увеличился, она вздрогнула, ухватилась опять за дверную скобку, хотела рвануть дверь, войти к Сосипатру, скрыться у него от этого бесплотного голоса, но не смогла. Тяжелая оторопь напала на нее и лишила сил. Она с ужасом и с неожиданно прилившим к сердцу мучительным желанием стала ждать, не повторится ли этот зов, идущий неизвестно откуда. Она ждала, сама не зная, почему. Но кругом все было безмолвно. Где-то вдали прозвучали чьи-то голоса. Это не было то, чего она ждала. Рука ее крепче сжала скобку, рука дернулась, и дверь пред нею раскрылась.
Она вошла к попу.
В этот раз она пробыла у Сосипатра совсем недолго. Монах заметил ее смущенье, стал добиваться от нее его причины. Но Ксения не рассказала ему о том, что случилось с нею у дверей. Она утаила свой сладостный и почти радостный испуг, который пережила она так недавно. И, выйдя от Сосипатра, Ксения ощутила, что ни за что в жизни не смогла бы она ему рассказать об этом.
А дома, в Верхнееланском, потянуло ее с этого мгновенья к морозному тихому одиночеству, потянуло из тесных и жарких стен избы. И стала она останавливаться среди двора, прислушиваться к чему-то, чего не слышала, или утрами, ранними зимними утрами задерживалась у прорубей, над дымящейся ледяной водою.







