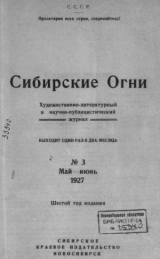
Текст книги "Сладкая полынь"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
О многом вспомнилось. О многих, кого уже нет в живых. Вдруг Коврижкин произнес имя Ксении. Архип очнулся. Сразу вернулась действительность, сразу отодвинулось прошлое.
– Ах, язви тебя, я и забыл совсем сказать тебе, товарищ! – возбужденно вскричал он: – Затес ей в голову попал, бабе! К попам, в церковь потянуло!
– Ксению? Коненкину? – не поверил Коврижкин.
– Ее самую! Вот утресь я ее в Остроге встретил, при мне и от обедни пришла. Совсем ничего, никаких толков и слушать не хотит...
– Здорово! – со злобным огорчением протянул Павел Ефимыч и покачал головой.
Вдруг он весь как-то подобрался, закрылся. Встал на ноги, прошелся по комнате, еще раз сказал:
– Здорово!
И неожиданно решил:
– Ну, ладно! давай спать! Хватит на сегодня разговоров.
Когда они оба улеглись и лампочка потухла, на мгновенье протрепетав внутри красной свернутой ниточкой, Павел Ефимыч в темноте глухо проговорил:
– Вот, значит, опять недоглядели... промашку дали!
9.
Ксения входит в сторожку при церкви, где живет теперь поп. Поповский дом, высокий, шестиоконный, под железной крышей, несет на своем карнизе маленькую вывесочку: «Изба-читальня». Ксения проходит мимо дома, не подымая глаз.
Сухой, чернобородый монах встречает ее на пороге и, внимательно разглядывая, пропускает в низенькую горенку. В полусвете, рассеянном кругом, видит Ксения мельком голые стены с киотом в красном углу, узенькую лежанку, простой, ничем не покрытый стол и табуретку возле него.
– Садись, дочь моя! – торжественно говорит монах. – Слыхал я, что о душевном у тебя есть желание побеседовать. Слыхал.
У Ксении сердце замирает в тоске и жалости какой-то. Она отвечает не сразу. И глух и неуверен ее голос в этом ответе:
– Да, батюшка...
Монах еще раз внимательно разглядывает. Он слышит тревогу и замкнутость в голосе пришедшей к нему женщины, он чувствует ее смятение, но он уверен в себе, он знает по многолетнему опыту эти замкнутые и недоверчивые души, приходящие за духовной помощью, и есть у него для них большой запас давнишних, привычных слов. Он уверен в себе и в силе своих утешений. И, полон непоколебимого, но смиренного превосходства над этой заблудшей душою, он ободряет ее:
– Не бойся, дочь моя... Я не мирской, мне можно все поведать. Садись и все расскажи, все, что смущает дух твой. Господь тебе, через меня, недостойного, поможет.
Как во сне, побуждаемая чужою волею, опускается Ксения на табуретку, складывает руки на коленях, наклоняет голову и тихо вздыхает.
– Не знаю я... Я, батюшка, от бога давно откачнулась... А теперь не знаю, куда мне стукнуться. Люди говорят, молитва помогает...
– Молитва, если с чистым сердцем да с верою приступить к ней, всегда поможет. Господь милостив.
Ксения снова вздыхает и умолкает.
– Ты все, все, как на духу, расскажи про себя! – подходит к ней монах ближе и в его глазах, устремленных на Ксению, горит настойчивость: – Если утешения в вере ищешь, ничего не скрывай!
И в мирной тишине суровой, с показаной монашескою убогостью горенки начинает неуверенно, но с возрастающей страстностью звучать сдержанный женский голос. Начинают нанизываться слова, сначала сбивчиво и тревожно, но, чем дальше, тем все слаженней и смелее. Полузакрыв глаз и уйдя вся в себя, Ксения начинает обнажать пред чужим, но внимательно, как бы подстерегая ее, слушающим человеком самое свое тайное, самое сокровенное свое.
Монах, черный и тонкий, стоит возле нее и опирается рукою о стол, и костлявые пальцы его неподвижно лежат на свежей желтизне дерева. Он слушает и не прерывает женщину. Лицо его бесстрастно, глаза чуть-чуть поблескивают. Он молчит, ибо по давнему опыту знает, что женщина и так скажет все. Он бесстрастен, потому что знает, что он праведной, примерной жизни человек и не пристало ему проявлять суетные чувства.
Ксения рассказывает все. С каким-то отчаяньем она говорит о том, о чем не говорила никому. О своем случайном уходе с партизанами, о своей жизни у них среди боевой опасности, о первой крови, которую увидела, о первой крови, которую сама пролила. О том, как ее ранили, и об ужасе, который охватил ее, когда очнулась она и узнала о своей беде. О годах скрываемой боли и стыда. И, наконец, о возвращении домой и мелькнувшей на мгновение радости. Почти ничего не утаивает Ксения. Монах дослушивает ее до конца молча. И он хранит еще некоторое время молчание даже тогда, когда Ксения умолкает и наклоняется ниже, роняя на колени слезы.
– Многогрешна ты пред богом, – жестоко и властно прерывает молчание монах. – Ох, как многогрешна! Покаяться тебе надо. Искупить свои заблуждения...
Все еще не подымая голову, впитывает Ксения суровую и обличающую речь монаха. Слышит его голос, его гневные слова и чувствует, как вздрагивает ее сердце, как странное успокоение входит в нее от этих слов. Но голос монаха незаметно становится проще, мягче, теряет торжественность и обличительную суровость, и житейское, суетливое, слегка трусливое вплетается в него, и с внезапным изумлением слышит Ксения, приходя в себя, это житейское и суетливое.
– Вот еще я слыхал про тебя, что ты совсем недавно хулителей господа бога привечала, бесят комсомольских... Православные, истинно-верующие и на порог их не пустили, а ты приют им дала. А они с богомерзкими речами выступали, кощунственные картины развозили на соблазн христианам... Грех это, великий грех!..
Ксения приподымает голову. Слезы быстро сохнут на ее щеках, губы плотно сжаты. Почему он заговорил об этом? Разве это ей нужно? Вот пусть бы продолжал так, как начал, пусть сурово и огненно, опаляюще говорил бы о чем-то далеком, не здешнем! Зачем он заговорил о маленьком, ничтожном, что не трогает ее души?
Ксения не говорит этих слов вслух, они, может быть, и не так слагаются в ее сознании, но она так чувствует. И вот поэтому-то тихие слезы перестают скатываться на колени и смутное, неуловимое сожаление о чем-то, сейчас вспугнутом, приливает к ее сердцу.
А монах ничего не замечает и говорит. Теперь, когда он из ее уст услыхал о ее заблуждениях и о ее жизни, он с большей подробностью перечисляет все житейское и повседневное, в чем согрешила она против его законов, против незыблемых устоев его бытия. И в этих прегрешениях узнает она то, к чему уже крепко привыкла, что незаметно стало новым законом новой жизни, к которой за последние годы она приобщилась.
– Нет брака, – поучает он, – кроме брака, освященного церковью. Все остальное блуд и прелюбодеяние... Вот, женщина, оттого и не крепка жизнь твоя была с мужчиной, с которым была ты в греховной связи... Покаяться тебе нужно, омыть себя молитвой и подвигом согрешение.
Она слышит эти слова и внутри нее нарастает недоумение и протест: ведь она сама так хорошо знает, что, если б не ее уродство, то нашел бы в себе Павел силы противостоять неприязни деревни, отстоял бы и ее и себя и не ушел. Не в грехе здесь дело, чувствует она. Но смятенны ее чувства, тянется слабеющая воля к чужой поддержке: может быть, поддержит вот этот, может быть, он вольет в нее новые силы?..
Монах осеняет себя широким крестом. Он кончил, видимо, беседу.
– Наложу я на тебя эпитимию, женщина, – говорит он: – потрудишься молитвою. А потом погляжу...
Ксения уходит от него подавленная. Смятение, с которым пришла она сюда, не рассеялось, не исчезло, она уносит его с собою обратно.
В Верхнееланское едет она вместе с крёстной невеселая. Бегут заснеженные поля, бегут укутанные белым придорожные сосенки, бегут версты. Арина Васильевна возбужденно говорит о чем-то, о чем-то рассказывает, но все проходит мимо Ксении, ничего она не слушает, ничего не слышит...
10.
Афанасий Косолапыч ходит по деревне и хвастается:
– Зарочит подхея у начальства! Из волости бумага председателю, а его карежит! Вострая бумага! Приказывают бедноту собирать на сходку, чтоб самосильно оборачивалась... Ну, Егору Никанорычу в кишке прищемило! Он какой – беднота? у его изба пятистенная, заимка в паях с братом, скотишко завидное... Ступайте седни опосля обеду в присутствие, забирайте свои права!..
Захудалые мужики, которых обходит Афанасий Косолапыч, досадливо слушают его. Они настроены недоверчиво:
– Сколькой раз только и делов, что поманут, а толку никакого!
– А вы крепче горла-то дерите! – учит их Афанасий. – Нажмите на начальству на нашу, она сдаст!
После обеда оповещенные начинают лениво собираться в сельсовете. Они держатся немного растерянно, помалкивают и ожесточенно сосут трубки. Сизый горький дым окутывает их. В дыму этом они понемногу смелеют; завязываются беседы, вспыхивает громкий спор, прорывается крик: сплетается и крепнет все то, из чего вырастает шумная, галдежная, страстная деревенская сходка. И когда Егор Никанорыч, оглядев собравшихся, находит, что пришли уже почти все, он криком призывает к тишине и порядку, и сходка начинается.
Секретарь как-то брезгливо и нехотя читает бумагу. Мужики слушают внимательно, но понимают, видимо, плохо.
– Постой! – несется из примолкнувшей толпы озабоченный крик: – Пошто ты, как пономарь? Непонятно, незнатко этак-то! Ты пореже, поятней!..
– Пореже!? – фыркает секретарь и начинает читать медленнее.
Полотнища самосадочного, едучего дыма подплясывают над головами, говор и волнение взметаются к потолку: секретарь кончил читать, а председатель откашлялся и, глядя куда-то вбок, обиженно сказал:
– Теперь, ребята, гражданы, согласно инструкции, зачинайте свое заседание и заводите этот самый крескон. Прошу только в присутствии никаких безобразиев не делать и вообще понимать свою ответственность...
Беднота остается одна, без начальства. Мужики с непривычки теряются, смущены.
– Вот, видали! – ликующе кричит Афанасий и сразу возбуждает толпу. – Закарежило их!..
Словно прорывается долго сдержанная сила: самые захудалые мужики, с гнилого угла деревни, ободранные, испитые и закорузлые в недостатках и в мелком пропое, вылезают вперед, неуклюже размахивают руками, стараются перекричать других. И в шуме и бестолковщине долго нельзя ничего разобрать и никто никого не слушает, и гомон стоит, как на самой свирепой сходке, когда делят покосы или наряжают гоньбовую очередь. Но в этой сутолоке выделяется несколько мужиков потолковее и сдержаннее, они урезонивают других, они расталкивают крикунов, одергивают их, толкуют им резонное и убедительное:
– Да тише вы, горлопаны!.. Этак прокричите без толку, а надо дело делать!.. Тише, говорят вам!..
И им удается установить порядок, а когда в сельсовете становится спокойно и толпа утихает, мужики жадно принимаются за дело. Неумело и сбивчиво облаживают они это дело, ощупью и беспомощно, но нутром и догадкой постигают они суть его. И, чувствуя свою неподготовленность, кто-то из мужиков в сердцах говорит:
– Ну и люди, едри их капалку! Ни писарь, ни председатель, ни одна собака не осталась людям подмогу сделать!
И так как он выражает общее чувство, то сразу со всех сторон прорывается и летит:
– По-омо-огут!.. Доржись крепче, чтоб тебе помогли!.. Кажный для себя смотрит!..
– И волостны тоже умные: чем бы послать кого помозговитей, а они бума-агу! А с ей, с бумагой тут и разбирайся...
Самосадочный, едучий дым треплется над головами рваными полотнищами. Дух в сельсовете навивается крепкий, непроворотный. Мужики потеют, мужики обламывают собственное, кровное дело.
Афанасий Косолапыч трется в самой гуще. Лохмы его трепещутся, как в вихре, его всего так и дергает от возбуждения, каждая жилка в нем ходуном ходит: у Афанасия Косолапыча словно праздник годовой: шутка ли? Каверза-то какая против его начальства завинчивается!.. Афанасий Косолапыч проталкивается к толковым мужикам, которые облепили стол и возятся с бумагой, шикают на нетерпеливых и беспокойных, руководят собранием и впитывают в себя и в себе преображают в законченный порядок суматошную и текучую волю окружающих. Вплотную притиснулся Афанасий Косолапыч к президиуму и непрошенно подает свой голос. От него отмахиваются, как от гудящего комара, его не слушают, но он упорен и неутомим. Он лезет со своими указаниями, со своими советами, он кипит и радостно волнуется.
– Я, – наседает он, – обчесгвенный человек! Я всякую казенную повадку знаю! Вы меня послухайте!..
А его не слушают, и непривычное дело, скрипя и застревая на каждом шагу, медленно и верно идет вперед.
Один только раз Афонькины слова ненадолго задерживают внимание мужиков. Насмешливо скривив лицо, он вдруг по какому-то поводу вспоминает:
– Пошто-же это я одноглазую-то, Ксению не оповестил? А ее онодысь проезжающий, камунист-то в самый этот трескон натокал! Верный, грит, она человек! Хо!..
– Зря не оповестил, – укорил кто-то Афанасия Косолапыча: – Баба малосильная да возле людей терлась, гляди – и польза от ей была бы!
– Кака от бабы польза?
– Да она, Ксения-то, от людей в стороне, прячется...
– Скиснительная, значит! Совестится.
– Чего совеситься? Мы понимаем! Не звери!
В президиуме застучали по столу:
– Гражданы! Оставьте об этих пустяках языки трепать! Займовайтесь делом! Начинаем на голоса ставить, кого в комитет для ведения руководства и прочего!
Имя Ксения тонет в деловом шуме, в мужичьей незлобной, но гомонливой перепалке.
11.
Переночевав в городе, Архип прощается с сынишкой и отправляется домой. При расставаньи с Васюткой у мужика начинает немного подергиваться нос, и, скрывая предательское волнение, он с напускной суровостью наказывает:
– Доржись, Василей Архипыч! не сдавай! Пал Ефимыча пуще родителей слушайся! Выходи правильным и сурьезным человеком! Вот!..
Васютка отворачивается от отца и угрюмо – а за угрюмостью приглушенная ребячья робость! – обрывает:
– Поезжай!.. Ладно!.. Ты там поленницу-то с елани вывези. А то забудешь...
Уезжает Архип. Дорогой, в переполненном вагоне переваривает в себе все, что услыхал от Коврижкина. Ноет душа у него: скучно будет без парнишки, скучно будет без ворчливо-незлобливых окриков. Скучно. Но пусть, пусть идет парень по новой дороге, пусть выцарапывается в настоящие люди!
От Павла Ефимыча много корявых, занозистых слов наслушался Архип. Вечернее, когда оба напитались воспоминаниями и опьянели от них, начисто смыто было утром. Утром Коврижкин все припомнил Архипу: что он откачнулся от всякого дела, что запустил хозяйство, что не втянулся в мирские, крестьянские заботы.
– Зачем ты тогда и партизанить ходил? Не все ли тебе этак-то равно, что Колчак, что советская власть? – прижал его напоследок Павел Ефимыч.
Отгрызнулся Архип, уел его этими словами товарищ таежный, боевой, но в самом далеком и глухом уголке сердца почувствовал: а ведь прав, истинную правду разворотил Коврижкин!
И в этих горьких словах, которыми напутствовал его тот, Архип почти забывает всю горечь, с какою Павел Ефимыч говорил о Ксении.
В Остроге Архип у свата не задерживается и на сватовой лошади катит домой.
Дома Василиса жадно расспрашивает его про сынишку. Материнское сердце все хочет знать. Бабе мало того, что ей рассказывает муж, она засыпает его вопросами, перебивает его рассказ, взволнованно и горестно или радостно, смотря по тому, что говорит Архип, всплескивает руками и качает головой. А потом тихо плачет.
– Ну, пошло! – пренебрежительно отмахивается от этих слез Архип, но почему-то отворачивается от жены...
Проходят дни. В Архиповом обиходе ничего не меняется, только на Василисины плечи взвалено большое бремя: нет маленького и старательного помощника, Васютки. Дрова на дальней делянке лежат под толстым слоем снега, зерно на мельницу (последние остатки, пожалуй!) нужно было еще на той неделе везти, да мало ли крестьянских зимних работ надо переделать? И Василиса терпеливо тащит все на себе. А Архип бродит по соседям и толкует о том, как его Василей Архипыч выйдет в люди и станет настоящим городским, знающим человеком. И соседи снисходительно слушают его да посмеиваются.
Но через неделю какой-то случайный попутный человек привозит из города коротенькое письмо. Опять Аграфена, девка услужливая, приходит разбирать написанное, опять письмо оказывается от Коврижкина, от Павла Ефимыча. И пишет он по настоянию Васютки о Васюткиных заботах: как хозяйство вертится? вывез ли тятька поленницу с елани? здоров ли Мухортка?
Архип слышит Аграфенин голос, вычитывающий слова, написанные Павлом Ефимычем, но чудится ему, что это сам Васютка, смешно пыжась и хмуря брови, отчитывает его. Он наклоняет лохматую голову и бормочет:
– Опасается Василей Архипыч! Забота его долит!..
И вечером в тот же день говорит пред сном Василисе:
– Я, мать, на свету по дрова поеду. Кабы не растаскали...
12.
Чадя прогорклым маслом, потрескивает немощный огонек пред черной иконой. Арина Васильевна чтит канун воскресный. Не столько для себя, сколько ради Ксении, старается крёстная угодить своему богу. Она наблюдает исподтишка за Ксенией, наблюдает с того радостного для нее дня, когда молодая женщина неожиданно согласилась поехать в церковь и пойти к попу. С того же дня Арина Васильевна и сама приналегла на богомолье; словно этим хотела пуще разжечь Ксеньин пыл. В вечерней тишине скупо звучат в избе редкие слова, которыми перекидываются обе женщины. У старухи легонькая тревога. Что-то смущает ее. Неуловимое и неясное.
– Я кудельки немного натрепала, – хлопотливо говорит она: – свезу сватье Фекле, у них не уродилась конопель.
– Вези! – вяло соглашается Ксения.
– А ты, нешто, не поедешь к обедне?
– Не знаю...
– Как же так? – Ты ж обещала батюшке!
– Обещала... А, может, и не поеду. – Упрямые звуки холодно звенят в голосе.
Крёстная обиженно и укорительно поджимает губы:
– Не ладно, ай, не ладно, Ксения!
Ксения молчит. Проходят томительные, настороженные минуты. Кажется, не будет ответа на горький возглас старухи. Но неожиданно в страстном порыве Ксения говорит и голос ее звенит, как туго натянутая тетива:
– Да ведь я для души!.. Душа моя томится!.. Так неужто я против себя пойду? Меня, может, не тянет сегодня туда?.. Зачем я себя ломать стану?! Зачем?..
Голос обрывается, и снова Ксения умолкает. Но Арина Васильевна, всегда такая покладистая, уступчивая и робкая, теперь вскипает. На морщинистом лице ее недоуменье, досада и гнев.
– Неразумная ты! – почти кричит она. – Как дите малое, то тебе это не ладно, то того подавай!.. Только бог дал тебе радость, обратил тебя к себе, а ты, эвон как, опять за старое! Совсем ты запуталась.
– Верно, крёстная, – покорно соглашается Ксения, – верно, запуталась я... Сама знаю свое горюшко...
В избе висит напряженное молчание. Женщины – старая и молодая – уходят одна от другой. Обе сумрачные и обиженные.
Вечер густеет. На деревне покой. Собаки притихли. Стынет мглистый воздух: мороз набирается сил к утру. Утром освирепеет он, обожжет, упруго застынет.
За остывшими стенами, со двора несется лай Пестрого. Женщины прислушиваются к лаю: кто-то старается попасть во двор.
Ксения выходит на крыльцо.
– Арина Васильевна! – кричит из-за ворот соседка. – Тут твою спрашивают, Ксению.
– Кто это? – недовольно осведомляется Ксения.
– Ну, вот она и сама! – услужливо рокочет голос за воротами. – Проходите! – У ворот Ксения сталкивается с закутанной женщиной.
– Здравствуйте! Это вы – Ксения Коненкина? – весело спрашивает пришедшая. Голос ее не знаком Ксении.
– Я самая. А вы зачем?
– От Павла Ефимыча я, от Коврижкина.
Они входят в избу. Приезжая распутывает с себя шаль, сбрасывает шубу, топает у дверей обутыми в валенки ногами, чтоб снег отстал. Ксения разглядывает ее. Видит незнакомое молодое лицо с гладко зачесанными темно-русыми волосами, крепкую грудь, мягко перекатывающуюся под темной, простого покроя кофточкой; замечает упорный, но ласковый взгляд карих глаз.
– Здравствуйте! – еще раз говорит женщина, раздевшись и проходя на средину избы. – Озябла я! Как с подводы слезла, так и пошла искать вас!
Ксения с крёстной выжидающе глядят на нее. Они не спрашивают словами, но вопрос слишком неприкрыто светится на их лицах; приезжая видит это и охотно объясняет:
– Я в Максимовщину учительницей еду. Из города. Павел Ефимыч узнал, что мимо вас проезжать буду, велел зайти поклон передать. А я и думаю: не пустят ли переночевать? Пустите?..
Ксения стряхивает с себя неприязнь и оцепенение.
– Ночуйте! – со скупою приветливостью приглашает она. – Милости просим!
Через некоторое время Арина Васильевна, разжегши самовар, сбегала на квартиру, куда заехал подводчик учительницы, и оттуда принесли ее вещи – небольшой сундук и постель. Немного позже на столе пыхтел самовар, побрякивали чашки, и три женщины, сидя вокруг стола, молчаливо пили чай
За чаем Ксения узнала, что учительницу зовут Вера Алексеевна. А после чаю, при мигающем красноватом свете лампочки, в тепле, когда за окнами крепчал мороз, медленно и сначала неуверенно и робко завязывается беседа.
13.
В спокойную жизнь Егора Никанорыча вторгнулись беспокойства и заботы. Не шевелилась, не шевелилась верхнееланская беднота, а как тронулась с места – и почувствовал председатель сельсовета конец своему мирному житию. Пошумев на первом собрании, потратив много времени по неопытности зря, маломощные мужики все же положили начало кресткому. А лиха беда начать. Появились коноводы, выделилась крепкая и напористая кучка мужиков понапористей. Зажглись желанием постоять за себя. А так как в Верхнееланском поддержки и совета неоткуда было ждать (председатель и секретарь отговаривались недосугом), то посоображали, пораскинули умом да и сгоняли ходоков, представителей в волость.
Ходоки из волости вернулись, нагруженные указаниями, советами, инструкциями и всем прочим, что сопровождает всякое мирское, общественное дело. Кроме этого, они привезли оттуда обещание, что в скором времени в Верхнееланское пошлют знающего человека, который окончательно поможет там, где надо будет.
Знающий человек действительно скоро приехал. Но когда мужики кресткомовщики взглянули на него, они разочарованно удивились:
– Вишь ты! Да это тот самый, который про бога несусветное рассказывал!?
– Он самый... Парнишка еще, молодой больно!.. Какой может быть толк?
На первом собрании, которое было созвано в присутствии приезжего, Афанасий Косолапыч первый не выдержал.
– Что жа это такое на самом деле? – заорал он, как только разглядел приезжего. – Да нам куда такие наставники, да советчики?! Да он давно ли штаны-то без мамки застегивать стал?!..
– Тише ты! – останавливали Афанасия со всех сторон, но останавливали как-то незлобиво, словно сочувствуя ему. И он, чувствуя скрытую поддержку в голосах некоторых мужиков, не унимался:
– И еще то понять надо: ведь этот обсосочек тогда с картинками сволочными приезжал!.. Тоже по-сла-ли! Комсомол проклятущий!!
Все-таки, в конце-концов, парню удалось провести собрание. Но когда оно окончилось и с приезжим остались только двое-трое из кресткомовской новоявленной головки, кто-то сказал с виноватой усмешкой:
– Диствительно, товарищ Верещагин, нашим мужикам кого постарше подавай. Отсталый у нас народ, седине да бороде больше доверяет.
Товарищ Верещагин, Митька, смотрит косо, прячет глаза: совестно ему отчего-то. Язвинский народ в этом Верхнееланском! В других местах уж привыкли к молодым, которые делами ворочают, а тут самое непроворотное затемнение умов.
– Теперь разницы нет, – говорит он: – что молодые, что старые. Молодежь-то, может, еще пять очков старичью даст!
– Все может быть! Конечно! – соглашаются собеседники. – Нонче время не старое!
И все-таки – молодой наставник, безбородый советчик, а, видно, пред отъездом из волости сюда зазубрил, заучил кое-что, и у верхнееланцев после него происходит некоторое просветление в их деле. И принимаются они за него с жаром.
От этого-то жару беспокойной становится жизнь Егор Никанорыча, председателя. Кипит в нем сердце: что же это такое? Выбирали всем миром, три целых общества голоса подавали за него, а теперь шантрапа всякая, голь бесхозяйственная нос свой начала всюду совать, то ей не так, да это!
Горячее сердце срывает председатель на Афанасии Косолапыче. Афонька и раньше-то не был воздержан на язык, а теперь после бедняцких собраний совсем зарвался. Ему сельсоветское начальство приказ какой по нехитростной службе его, а он все по-своему, рассуждает, пофыркивает. Придрался к нему за что-то Егор Никанорыч и давай отчитывать. Да и секретарь туда же.
– Ты эту моду оставь, фордыбачить! – стал орать председатель. – Ежели тебе совецкая власть распоряженье дает, ты сей минут, без оглядки сполняй его!.. На то ты и сторож. Тебе жалованье идет общественное, казенное. Ты понимай это!
– Я все понимаю! – огрызался Афанасий Косолапыч. – Я не маленькой, сам с усам!..
Распустились! – брезгливо поджимая губы, вмешивался секретарь.
– Кто распустился-то? – ехидно обнажал сохранившиеся крепкие зубы Афанасий Косолапыч. – Вот доберется до вас общество-то!..
– Но-но! – останавливали мужичонку. – Легше!..
Егор Никанорыч темнеет и думает. Не любит он беспокойства и штырни. Ему бы все потихоньку, ладком, по-семейному. А писарь, секретарь Иван Петрович учит:
– Надо бы, Егор Никанорыч, верховодов, закоперщиков ихних приручить. Помогает это. Всего делов-то пустяк какой-нибудь, а результат основательный производится.
– Попробовать можно, – задумчиво и озабоченно соглашается председатель.
– Попробуйте, попробуйте! А я в циркулярчиках пороюсь, в приказах, не может этого быть, чтоб отсюда поубавить им пылу заблаговременно нельзя было! В казенном деле не может этого быть!
– Попробую! – повторяет Егор Никанорыч и веселеет.
14.
Город под снегом, а Васютке кажется, что вовсе снегу мало. Васютка осторожно вылезает на улицу и приглядывается. У него есть еще свободное время, Павел Ефимыч сказал ему:
– Гуляй, Вася, присматривайся к городу. Занятно! Скоро я тебя пристрою к учебе, а пока сыпь во-всю!
На улицах Васютка удивляется торопливости и многолюдству прохожих. Он подолгу останавливается на углах и рассматривает трехэтажные каменные дома. Его пугают своим разнообразием и кажущимся ему неслыханным, сказочным богатством витрины магазинов. Афиши и плакаты кино ошеломляют его яркими красками. Он теряется и молчит, когда Коврижкин берет его с собою в кино, и на экране оживает настоящая жизнь. И на вопрос Павла Ефимыча:
– Нравится тебе? —
он не сразу отвечает, и ответ его застенчив и скуп:
– Нравится... Голову только закружило.
Несколько дней, предоставленный самому себе и встречаясь с Коврижкиным вечерами и за обедом в столовке, Васютка сам отыскивает в городе необычное и невиданное им раньше. И город медленно и цепко начинает овладевать им. Порою охватывает его тоска по дому, по Мухортке, по привычному, деревенскому. Но тоска стирается новыми открытиями, которые он делает здесь на каждом шагу.
Однажды Коврижкин, возвратившись домой вечером, объявляет парнишке:
– Ну, герой, завтра держись! Завтра я тебя к делу приставлю.
Васютка замирает. Что-то новое предстоит ему и это новое тревожит своей неизвестностью.
– Куда меня? – упрямо наклоняя лоб, спрашивает он. – В училищу?
– В училище, герой, да только не просто! Сам увидишь!
Плохо спит эту ночь Васютка. Томит его нетерпение. Скорей бы утро! А утро, словно издеваясь над ним, медленно и лениво вползает в высокие городские окна, затянутые тоненьким ледяным узором.
Обжигается чаем, торопится он утром, а Павел Ефимыч, как нарочно, медленно и в охотку распивает чай и искоса поглядывает смеющимися глазами на его торопливые и суетливые движения.
– Торопишься?.. Не торопись, не уйдет от тебя. Напивайся пуще чаю, кругли брюхо!
Утренне-возбужденными, точно не стряхнувшими с себя ночную дрему, улицами ведет Коврижкин Васютку. Мимо них в ту и другую сторону торопятся люди. С узелками и сумками в руках, с папками или портфелями, быстро идут они по своим делам и нет им никакого дела до Васютки, и никто не остановит их, не спросит любопытно: Куда это вы идете? У парнишки оживает на мгновенье тоска; все вокруг чужое ему, и он бессознательно жмется к единственному человеку в большом городе, на которого все-таки можно положиться, к Павлу Ефимычу.
Сворачивая с улицы на улицу, они доходят до какого-то красного каменного дома. Возле этого дома Павел Ефимыч останавливается и, берясь за ручку двери, говорит Васютке:
– Ну, вот и пришли.
Васютка краснеет. Он начинает быстро дышать, сдергивает верхонку с руки и трет ладонью под носом.
– Туто-ка? – срывающимся голосом спрашивает он.
– Видишь! – протягивает Коврижкин руку и показывает на висящую над дверью вывеску.
15.
Учительница Вера Алексеевна от чаю раскраснелась. Во время разговора о разных пустяках Ксения пригляделась к ней и гостья показалась ей красавицей. Ревнивое чувство шевельнулось в ней. Но глаза у учительницы сияли ясно и притягивающе, рот складывается в добрую и открытую улыбку, а слова были такие простые, – и Ксения отошла, внутренне чуть-чуть согрелась.
Стали укладывать гостью спать. Арина Васильевна ушла в куть и там скоро затихла. Остались вдвоем Ксения и Вера Алексеевна.
Учительница присела на постланную постель и тихо позвала:
– Идите-ка сюда поближе, Ксения... Идите!
Ксения настороженно приблизилась к ней.
– Сядьте... Милая вы моя! Я про вас многое от Коврижкина слышала... Давайте поговорим!
– Об чем говорить? – сумрачно усмехнулась Ксения, но придвинулась к Вере Алексеевне. – Вам, поди, спать надобно!
– Нет, нет! – запротестовала Вера Алексеевна. – Я хочу поговорить с вами! Я ведь женщина, я вас лучше других пойму... У меня, Ксения, горя тоже не мало было...
– У вас-то? – недоверчиво взглянула на нее Ксения.
– Я с мужем разошлась... – тихо пояснила Вера Алексеевна. – А в прошлом году у меня ребенок помер... единственный...
– Ах ты горюшко! – вырвалось у Ксении. Она придвинулась к учительнице ближе и почувствовала к ней сладкую жалость. Вера Алексеевна протянула руку и положила ее на Ксеньино плечо.
– У каждой из нас свое горе, – задушевно шепнула она. Шопот этот проник Ксении в сердце, обжег давно неиспытанным чувством; к ее горлу что– то подступило, но она пересилила себя и подавила сорвавшийся вздох.
– Мальчишечка? – осторожно спросила она.
Вера Алексеевна поняла ее вопрос.
– Нет, девочка... Три года ей было. Сгорела, как свечечка.
Рука, лежавшая на Ксеньином плече, слегка задрожала. Ксения вздохнула. Чужая женщина с ее горем стала как-то ближе ей, роднее.
– Это уж теперь все прошло... А первое время очень тяжело было.
– Горькая наша женская доля! – уронила Ксения.
– Надо бороться... Не стоит поддаваться! Всякое горе, всякое несчастье можно в себе переломить. Всякое...
– А я вот не могу! – доверчиво созналась Ксения, и сразу сжалась, сделала попытку освободить свое плечо из-под чужой ласковой руки. Но учительница почувствовала ее движение. Она наклонилась к ней близко и мягким, слегка звенящим от волнения голосом проговорила:







