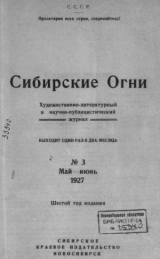
Текст книги "Сладкая полынь"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
– И ешо, девонька: парня, говорят, прикормила себе, а парень-то беззаконный, в белых войсках воевал. Таких, сказывают, всех скрозь пристреливали, а он уцелел. Нехорошо, мол, может в уезде дурная слава про наше село пойти... Не даром тот-то приезжал, который оногдысь, комиссар, от Ксенки-то откачнулся, парня ее увидав... Ох, плохо! Плохо, девка, крестница твоя поступает. Не по правилу... С миром шуметь собирается... А у мира и то сколь суеты с камунистами да с камиссарами...
– Ей бы, Васильевна, смириться бы... Отпустила бы она мужика-то, Павла. Разве не нашла бы она своей судьбы поближе где?..
– Это ничо, что лицо порченное у нее. Кои мужики есть, что и не глядят, какая баба: лишь бы хозяйка была да покорливая...
– Ну, Ксенка-то как раз и не покорливая!..
Арина Васильевна слушает, вздыхает и огорчается:
– Какая же людям забота, что девка судьбу свою приглядела? Никого-то они не трогают, никому-то поперек дороги не стоят... Ну, дали бы пай хрестьянский, пущай бы робят... Какая кому беда?..
– Беда не беда, а, вишь, говорят: зачем землю в чужие руки отдавать, когда ее своим-то в волю не хватает?
– А мы разве чужие? – негодует Арина Васильевна.
– Про вас, Васильевна, речи нет. А вот мужик-то, – он, конечно, чужой, в роде самохода.
– Он обчеству ничем не заслужил, чтоб на землю садиться.
– Он, бать, заслужит! – у Арины Васильевны вспыхивает надежда. – Он, девоньки, тихий да обходительный. Он заслужит.
– Ну, это еще когды будет!..
И кто-то постарше, мудрее других, покрывая властно и решительно бабий, старушечий говор, обрывает сомнения Арины Васильевны, крёстной:
– Ты не хлопочи зря, Васильевна. Противу всех не пойдешь. Не по нутру мужикам Ксенкина затея... Ну, а наших мужиков не переспоришь. Не хлопочи! Лучше ты скажи им, девке твоей да тому, приходящему, скажи им прямо в глаза – пущай не перечат миру! Не дело это. Нехорошо!
Арина Васильевна уходит от соседей, от подружек, от старух расслабленных, прибитая сомнениями и тревогами.
Дома застает она настороженность и тишину.
Зимний теплый уют в избе. Густыми сливками закидал мороз стекла. От печи льется густой жар. Пахнет березовыми лучинами.
В зимнем уюте хорошо бы дремотно склоняться над какой-нибудь нетрудной домашней работой. Склоняться и слушать рокот спокойной и неторопливой речи.
А вот здесь стынет молчание. Павел сжался на лавке и молча ковыряет шилом рыжие ремни, чинит сбрую. Ксения перебирается в сундуке, и оба безмолвны.
И Арина Васильевна, удрученная этим безмолвием, с деланным оживлением рассыпается словами:
– У Воробьевских мужики из волости приехали, коня привели. Хороший конь. Пофартило людям, совсем сходно выменяли... Нынче, бают, скотину на хлеб напроходь меняют... В дальних-то местах отощал народ, последний хлеб доедат...
Крёстная сыплет словами, суетится и примечает: Павел ткнул шилом гнилую разлезающуюся кожу и прислушивается к словам и, видимо, собирается что-то сказать, но не говорит; Ксения, сжав губы, перебирает тряпье и ни на кого не глядит. И, может быть, вовсе и не слушает.
Не в силах остановиться, цепляясь за что-то, пугаясь молчания, Арина Васильевна, не думая, не соображая, выпаливает:
– Вот бы, Ксена, нам бы скотинку, выменять... лошадь бы...
Павел откладывает шило и ремень. Взглядывает на Арину Васильевну и отворачивается. Ксения отходит от сундука и грубо кричит:
– Ты, крёстна, чего по-напрасну сказки рассказываешь? Откуда это, на какие-такие достатки мены устраивать? Нас, может, скоро люди отсюда со свету сживут, а ты – ло-шадь-бы!.. вы-менять!.. Не люблю побасенок!.. Слышишь, не люблю!..
Арина Васильевна ошеломленно тянется вздрагивающей рукою к головному платку: закипают слезы, мутят глаза. Не слыхала она раньше от Ксении таких слов, такого голоса. Она всхлипывает и бормочет жалостливые, обиженные слова:
– Что же это ты, Ксеночка? Уж и слова сказать разве нельзя?.. Обидно мне...
– Обидно!?.. – Ксения выходит на средину избы, опаленная, гневная. Видно, долго она сдерживала в себе то, что вот сейчас вырвется из ее сердца.
– Обидно тебе?.. А мне каково?.. Меня пошто мытарят? Меня вот душат здесь, жизни моей не хотят ходу давать... У меня вся, можно сказать, душа изныла, все сердушко изболелось... А ты про то, что у людей, да как у людей... Людям что!? Им до нас делу никакого не должно быть, а они шипят!.. Слыхала, наверно, как обо мне по деревне высказывают... Эх!..
Внезапно Ксения умолкает, поворачивается и выходит из избы.
Арина Васильевна трет углом платка заплаканные глаза. Павел прибирает недочиненную сбрую и, пряча лицо от старухи, хмуро говорит:
– Видать, самое лучшее – собирать мне монатки... Сживут. И Ксению всю изломают...
Опуская конец платка, Арина Васильевна удивленно поворачивается к Павлу:
– Как же это так?.. Неужто уйдешь?..
– Не знаю... К тому, стало быть, подходит...
30.
Железная койка скрипит. Ножки у железной койки разъехались и с трудом держат беспокойную, неустойчивую тяжесть. Под потолком мечутся и вздрагивают сизые полотнища дыма. Коврижкин расставил ноги, крепко уперся ими в протертый пол и дымит махоркой. И вместе с клубками едучего дыма выдавливает из себя корявые слова.
Коврижкин смущен и волнуется и кипятится. А тот, кто лежит на зыбкой койке, посмеивается и следит за беспокойством, за смущением, за шумным смятением Коврижкина. Следит устало и снисходительно.
– Моя голова простая! – шумит Коврижкин. – Я тонкостей не знаю... всяких деликатесов!.. По мне – был в белой – значит сволочь, дави его под ноготь! Конечно, ежли своевременно делом не смыл с себя белоту... А тут ты мне, Протасов, загадку загинаешь. У меня и кружение происходит... кутерьма. Если на твои понятия встать, так, выходит, я женщину зря обидел?
– Конечно, зря.
– Обидно!.. – рванулся Коврижкин. – Я сгоряча завел тогда тарарам... Эх!.. Простосердечный я человек! Право дело!.. Прямо с плеча рублю. А тут нужно, говоришь, выдоржку иметь?.. Та-ак...
Махорочные лохмы пляшут под потолком. Протасов со скрипом переворачивается на кровати и свертывает папироску.
– Мне, Ефимыч, – тянет он, – прямо беда с тобою. Ты своих партизан-товарищей прежних растерял. Они у тебя, как у плохой наседки, разбрелись, рассыпались. И не видать их и не слыхать. Они, как вернулись с гражданского фронта, так большей частью неприспособленные к новой жизни оказались. И деревня на них косо поглядывает. А выходило, что через них на деревню, на крестьянство действовать можно. Ошибка вышла... Авторитета у них среди крестьян никакого... Совсем плевое дело... Тут, Ефимыч, и твоей ошибки не мало. Ты зачем их всех растерял? Надо бы с теми, кто покрепче да башковитей, связь прочную держать, к делу приспособить. А ты сколько времени думал, сунулся однажды да напутал, вместо того, чтоб дело налаживать...
– Да, может, еще и не в конец напутано? – смущенно оправдывается Коврижкин. – Знаешь, люди мы простые... Ну, что было сказано... от слова-то не окривеют... Конечно, свербит у меня между ребрами: зачем я бабенку– то, Ксению, ошарашил... Да и мужики. Хитрые они. Сразу разузнали мое такое настроение. Ухайдакают они парня... Да мне его и не жалко. А по твоей идеологии выходит, что из него может толк выйти... Ох, запутал ты меня совсем, Протасов!
– Сам ты запутался! – смеется Протасов. – Рубишь сгоряча.
– Я по-большевицки! – твердо вскидывается Коврижкин. – По– боевому!
– По-большевицки, брат, это не значит, что без ума, без соображения... Ты этим не прикрывайся: нашумишь, наплетешь, а потом гордишься: я, мол, по-большевицки поступаю. За этакое и по шапке накласть можно.
– Ну, вот ты и наклал мне... уж больше некуды! – смеется Коврижкин. А смех у него невеселый, сухой и смущенный.
Протасов соскакивает с кровати, тянет со стула тужурку, застегивает ворот рубахи.
– Уходишь?
– Пора. В шесть заседание.
– Торопитесь вы все, – ворчит Коврижкин, – заседаете... Тут я еще хотел с тобой по-душам поговорить.... Мне бы работу другую. Чтоб мыслей поменьше. Пусть бы рукам натуга да маята... Не пристроен я языком орудовать. Он у меня ленивый... Да, случается, не то, что нужно, брякнет... Торопишься ты, а я до пункта хотел с тобой договориться. До самого главного пункта моей жизни...
Застегивая одной рукой пуговицы тужурки, а другой ухватывая на ходу шапку, Протасов, плохо слушая Коврижкина, говорит:
– О пунктах, Ефимыч, как-нибудь, когда посвободнее будет... Ну, поехали!..
Коврижкин лапает свою ушанку и темной тенью, разрывая дымные тенета, мечется за Протасовым.
31.
В морозном затишьи каждый звук четок и остер. За рекою лает собака, и эхо относит этот лай от стылого хребта в улицы и тревожит деревенских псов. Пестрый бежит впереди лошади, приостанавливается, вслушивается в чужой лай, ворчит, встряхивается и трусит дальше. Зябко кутаясь в дошку, Павел идет за возом. Идет и поколачивает на ходу ногой об ногу: декабрьские стыли взялись, видно, дружно и цепко.
Павел выворачивает из переулочка на широкую улицу. Пестрый с разбегу обскакивает встречного человека и коротко тявкает. Человек ковыляет неуклюже, раскорякой. Кричит на собаку, смотрит на лошадь, на воз дров, на Павла.
– Это ты, самоход?.. Хозяйству ешь?..
– Здорово! – не останавливаясь, кивает головою Павел.
– Стой!.. Куды бежишь? Я человек общественный, старый, – ты мне уваженье делай... Вишь, я проразгуляться вышел... Ломит у меня башку...
Павел останавливается, ждет. С опадающих тощих боков лошади тяжело валит пар.
– Умял скотину... Худо хозяйствуешь... Уходишь, што ли?
– Не знаю, – хмуро отвечает Павел, – не собирался... – и спохватывается, торопится.
– Ну, оставайся, Афанасий... Мне времени нет болтаться гут.
– Чудак! – сердится Афанасий. – Ты не торопись... Ты у старого человека про свою положению спроси... Ты не гордись и прямо вот шапочку долой и, мол: «низвините, Афанасий Потапыч, разгадайте мне мою положению, какому моему поступку быть?». И скажу я тебе, как обчественный человек: «уходи, собирай причиндал весь свой, бросай бабенку и айда!». Вот...
Павел понукает лошадь. Воз срывается с места, снег под полозьями скрипит и визжит. Пестрый уносится легко и бесшумно, распуская нарядный хвост, далеко вперед.
– С-сукин сын! – кричит Афанасий, оставаясь один на пустынной улице. – Самый настоящий сукин сын!.. Что б тя язвило!..
Павел слышит крики Афанасия, но не оборачивается. Он нахлестывает лошадь. Над лошадью зыблется пар. Под полозьями укутанная деревенская уличная дорога визжит и поет. Лошадь сама, без понуканья и похлестыванья, почуяв близость жилья, шагает быстрее. Пестрый врывается в полуоткрытые ворота.
Павел въезжает во двор.
Он оставляет лошадь с невыпряженным возом и входит в избу.
– Теперь, выходит, что и проходу скоро в деревне не будет! – раздраженно говорит он, сбрасывая на лавку рукавицы и доху.
Ксения выходит ему навстречу и молча подбирает неряшливо брошенную одежду. Она охлапывает рукавицы, встряхивает доху и вешает ее на деревянную спицу, торчащую в потемневшей стене.
И только, тогда, только обладив и прибрав к месту мужикову лопать, Ксения выпрямляется, становится пред Павлом и спрашивает:
– Что опять приключилось?
– Ничего! – ворчит Павел.
– Как ничего, коли ты сам сказываешь, что проходу нет?
– Да так... Все, как следует. Выживают меня из деревни... Не ужиться мне, видать...
– Не ужиться?!
Ксения хочет посмотреть Павлу в глаза, но он прячет их, отворачивается, силится стащить набухшие ичиги.
– Коли не поддадимся, – тихо и решительно продолжает Ксения, – коли сами не поддадимся, чего люди с нами смогут сделать?.. Мы в своем полном праве...
– Против людей не пойдешь!
Павел стащил ичиг с правой ноги и потрогал пальцами размягченную подошву.
– Павел! – У Ксении голос высок и туг, вот-вот сломится. – Сдаешь, Павел? Говори прямо, чего надумал? Не крути!
– Я ничего... – осторожно и крадучись увиливает Павел. – Я не кручу... Мне тебя же, Ксения, жалко... Заедят нас, не дадут ходу... Камнем я тебе на шею сяду...
– Та-ак... – приглушенно и протяжно говорит Ксения. – Надоела стало-быть?.. Что ж ты виляешь? Ты прямо говори. Ты не бойся, ты вольный человек... Прямо говори!..
– Эх, – морщится Павел и стаскивает второй ичиг. – Зачем, Ксения, говоришь, чего не следует?
Но неуверен голос у Павла, и слова выходят вялые, непрочные, трусливые.
– Вовсе я не об том. И в голове у меня такого ничего не было... А то, что не дадут нам с тобою прочную жизнь здесь складывать, это мне ясно. Куды же мы с тобою подадимся? Мне везде трудно придется, у меня документы плохие, всякий увидит: белый, в белых войсках был... Вот оно в чем дело... И жалко мне тебя, Ксения, путать в свою судьбу...
– Ты меня этак не жалей! – с горечью перебивает Ксения. – Я об своей судьбе хорошо понимаю.
– Ну, вот и рассуди: нет нам с тобою пути... Один конец – собираться мне в дорогу. Спасибо тебе за все сказать и руки тебе развязать. Пусть не гавкают...
Бледная, с внезапно запавшим глазом, Ксения перехватила, глотнула воздух и стиснула зубы. Подавив в себе внезапную, обжигающую слабость, глядит она на Павла, ранит его неотрывным взглядом.
– Уходишь, стало-быть?! Пошто прямо не говоришь? Пошто не сказываешь, что обрыдна я тебе?!.. Я тебя не держу!.. Уходи!..
Ксения поворачивается от Павла и уходит в куть.
Павел растерянно молчит. Он мнет в руках портянки, потом встряхивает их, берется за ичиги. Снова берет портянки и начинает медленно и сосредоточенно переобуваться.
В кути за перегородкой тихо. Эта тишина начинает тревожить Павла. Он прислушивается, вытягивает шею. Слушает.
За перегородкой раздается шорох. В дверях показывается Ксения. Прислонившись к перегородке, она почти спокойно, но с какой-то усталостью в голосе говорит:
– Вечером ты подсчитай... Должна я тебе за работу... Скажешь, как у нас с расчетом выходит...
– Какие долги! – вспыхивает Павел. – Ты мне ничего не должна.
– Ладно! – сурово перебивает его Ксения. – Я знаю... Ты у меня в работниках кою пору прожил... Получишь расчет...
– Ксения! – голос у Павла звенит обидою и стыдом. – Не обижай, Ксения!.. Разве я у тебя работником был?..
– В работниках! – жестко отвечает Ксения. – О прочем забудь... Утресь крёстная свезет тебя на станок... Больше тебя не держу!..
– Ксения!..
Но Ксения глядит гневно и непримиримо.
Павел нагибается к ичигам. Он прячет лицо, на котором пламенеет стыд.
32.
Утро тает. Серые светы, облепившие окна, окрепли, пролились ясным белым блеском. Солнце отразилось в снегах, синие тени стали гуще и резче. День встал крепкий, морозный, сияющий.
Ксения прислонилась к стене, бесцельно, напряженно, невидящим глазом смотрела в обледенелое окно...
Это уже все прошло.
С рассветом безмолвно и угрюмо проснулась жизнь. Павел связал свою котомку, потолокся возле лавки. Потом вышел на зов крёстной, пошел запрягать лошадь.
Потом сиротливо бурлил самовар на столе, и только одна крёстная, Арина Васильевна, обжигаясь, пьет торопливо жидкий чай.
И когда затягивал последний пояс на себе Павел, когда брался за шапку, повернулся он ко Ксении, поднял на нее глаза. Глаза вздрогнули, и вздрогнул голос:
– Ну, прощай... Спасибо тебе, Ксения... за все.
Но холоден, глух и отчужденно бесстрастен был ответ:
– Прощай...
...Это уже все прошло. Теперь в избе никого нет. Теперь никого не стыдно, не пред кем хорониться, скрываться. Теперь можно глубоко, до боли в груди вздохнуть, опуститься, опустить голову на руки и открыть сердце пред самой собою. Заплакать щедрыми, колючими, опьяняющими, обессиливающими бабьими слезами.
Сначала эти слезы холодным тугим комком стынут в груди, давят и томят грудь. Сначала нет выхода слезам. И с застывшим, с холодным, как душа ее, лицом стоит Ксения посреди избы, и мудрое затишье избяное не тревожит, видимо, ее, и острая скорбь ее молчит. Но какое-то мимолетное, какое-то внезапное воспоминание окатывает ее жаром. Она прислушивается к чему-то, она беспокойно оглядывается, ее грудь тяжело вздымается от глубокого вздоха. Этот вздох содрогает ее, она слепо, покачиваясь, идет к лавке, обессиленная опускается на нее, заламывает руки, и вопль, острый и освобожденный, вырывается из ее трепещущих губ.
И слезы приходят бурно, неудержимо, дико.
Когда первые слезы отпускают ее, Ксения подходит к двери, закладывает ее на крюк, а потом бросается на постель – и вволю, досыта, безудержно плачет.
Она плачет долго. Устав от плача, она приподнимается, вытирает заплаканное лицо, тупо отдыхает. Потом снова плачет и снова вытирает лицо. И так несколько раз.
Позже, взглянув на окна, в которые светился яркий зимний день, она решительно встряхивается, вытирает в последний раз слезы и идет к рукомойнику, который, серебряно позвякивая, роняет тусклые капли в темную лохань. Она подставляет заплаканное, горячее лицо под жидкую струю ледяной воды. Тщательно, долго и старательно смывает она с себя слезы.
Позже, когда крёстная возвращается домой, Ксения домовито и бодро уходит прибрать лошадь. Во дворе она задерживается дольше, чем надо. Во дворе вокруг нее весело двигается Пестрый. Она останавливается среди двора, опустив руки, стоит недвижно, глядит поверх забора, слушает. А слушать-то и нечего: над деревней стылой пеленою в тишине и задумчивости протянулся солнечный мороз над крышами; сверля эту пелену, вьются дымные спирали; над тихими домами беззвучно пляшут бесчисленные искры изморози.
И только легкое взвизгиванье Пестрого, который урчит от радости, от умиления, от преданности, – рвет прочную уютную, ласкающую тишину.
Ксения возвращается в избу.
Крёстная развязывает покупки, сделанные на станции, и, не глядя на Ксению, говорит:
– Павел-то такой уж сумный был... всю дорогу... На последях говорит: пущай Ксения на меня, говорит, сердца не доржит... Виноватый я пред ей, сознаю...
– Ладно! Будет! – перебивает Ксения. – Это дело уже прошедшее. Этому делу, крёстная, возврату нет... А что про вину... так незнаемое, кто виноватей... Моя бабья глупость... Сама знаю...
Часть вторая
1.
Архип получает в своей Моге письмо. Письмо идет из города, плутает в волости, из волости с попутным мужиком попадает в Могу. В Моге попутный мужик мнет его в кисете и, обвалянное в крупном крошеве самосадки, измызганное и мятое, приходит оно в Архипову избу.
Архип взволнованно и торжественно берет письмо, оглядывает его, вертит в руках. В неуклюжих пальцах Архиповых мятый конверт беспомощно и нелепо дрожит и бьется из стороны в сторону, как испуганная, пойманная птица.
– От кого бы? – недоумевает Архип и удивленно и застенчиво усмехается: – Кака-така оказия?
Василиса встревоженно молчит: откуда письмо? с добром ли?
Протягивает Архип письмо неожиданное мальчёнке и заискивающе спрашивает:
– Можешь, Василей Архипыч? по этаким буквам можешь читать?..
Василий вытянул из пальцев отца конверт. Он вцепился глазами в строчки. На лбу его, над белесыми бровями набухли шишечки, нос сморщился. В бережном молчании пошевелил Василий губами, повертел конверт и досадливо и обидчиво прошелестел:
– Тута-ка не по книжке... Ишь, какие завитушки накорябали!.. Не умею я этак-то!
– Ах, беда! – конфузливо отвернулся от паренька Архип: – Плохая твоя образования, Василей Архипыч...
– Плохая!?.. – У Василия румянец полыхает на обветренных щеках и серые глаза посверкивают суровостью: – Я, рази, училищу кончил?.. Я зиму только бегал... Учили бы, я и не этакое тебе прочитал бы!
– Ну... – Архип проглатывает огорчение и глядит на письмо, которое Василий кладет на стол. – Ну, об чем толковать... Такая мешанина была, об учении ли было думать?
Василиса схватывает шубенку:
– Пойду попрошу Аграфену. Она письмецо-то разберет.
Аграфена, девка веселая и некуражливая, приходит. Срывает конверт, вытаскивает кругом исписанный листок.
– Гляди-ка, сколько написано тут!
Аграфена медленно и затрудненно, останавливаясь и путаясь в словах, читает письмо.
Архип, Василиса и забившийся в угол паренек слушают. До них доходят кудрявые и не всегда понятные слова. Слова эти то пропадают бесследно, как пустой шелест сухих трав, то остаются остро в памяти и вызывают тревогу. До самого конца, до последних строчек письмо поит их всех, особенно самого Архипа, недоуменьем. И только тогда, когда Аграфенин голос звонко и размеренно читает конец, Архип шумно подымается с лавки, ерзает и треплет в воздухе кудлатыми патлами, широко в смехе, в радостном смехе разевает рот и густо рокочет:
– Ух! язви его!... Дак это вот кто он!? Это – Пал Ефимыч!
И просит девку прочитать письмо еще раз, с самого начала до конца:
– Чтоб крепче упомнить!
Из дважды прочитанного письма выползает и цепко запоминается:
«...Парня, сына, мальчёнка спроворь сюда. Мы из него полного человека наукой сделаем. Довольно, как отцы, в темноте ходить. Пущай поколение будет в культуре. А тебе, товарищ боевой, партизан Ерохин, довольно стыдно в бездельи и лодырем в родной деревне быть. Не для этого кровь проливалась горячая. Цельных три года в спокое живешь, и не надумал обчественным делом заняться. Жизни нашей цельных три года проспал, прохряпал! А тут тебе и сельсовет, и крестком, и всякое другое неотложное советское положение...».
Дважды прочитав письмо, отдала Аграфена листок Архипу. Архип подобрал его бережно вместе с лоскутьями конверта. Весело обернулась к парнишке, к Василию:
– Ну, вот, Васютка, в город тебя устраивают!.. Когды поедешь?
Василий отлип от угла, боком вылез поближе к людям, наклонил упрямый лоб, не смотрит:
– Дак я куды?.. Я на кого хозяйство брошу?.. коня?..
Василий говорит солидные слова, пыжится, как большой, а в голосе слезы дрожат, вот-вот брызнут:
– Про науку... а от кого я в город-то поеду?..
Аграфена весело всплескивает руками и задорно смеется:
– Ой, мужичок!.. ой, глядите-ка, люди, да он всамделе мужик!
Архип вертит головой, жует волосатым ртом, смущенно мнет письмо и тихо говорит. И когда говорит, – затихает Аграфенин звонкий, беззлобный смех:
– Это... ты, Василей Архипыч, не печалься... Про хозяйство... Будет, натер ты себе холку.... О коне тоже... Как-набудь управимся... Вот со старухой... Тебе к Пал Ефимычу обязательно поехать надо. Обязательно!
На мгновенье Архип умолкает, лицо его темнеет, в глазах разгорается тревожный свет. Он крепко собирает заскорузлые пальцы в корявый, шишковатый кулак, выпрямляется и неожиданно кричит:
– Правильно!.. Совершенная истина! Цельных три года прохряпали!.. И неизвестно, к чему!..
Василиса сжимает тонкие бледные губы и, сдерживая вздох, успокаивает мужа:
– Ну, пошто ты, Степаныч, кричишь-то!? Известное дело, управимся. Об этом заботы нечего брать. Только боюсь я. В чужих людях будет ли Васютке сладко? Не обидел бы...
– Пал Ефимыч!?.. – Архип озаряется улыбкой, улыбка ширит его лицо, раздувает рот: – Это он-то, товарищ мой, Пал Ефимыч, обидит!? Да он глотку за Василея Архипыча кому ни-на есть перервет!.. Он!.. Ты в этом понятии, старуха, не опасайся! Тут без обману.
– Может, и так, Степаныч, – вздыхает Василиса, – да все сумнение у меня. Дите безответно, долго ли утеснить.
Василий, у которого от письма, от этих разговоров разгорелись глаза и взлохмачены светлые путанные волосенки, оборачивается к матери:
– Я не махонький! Пошто, ты, мамка, нюнишь? Не люблю этого!..
Аграфена, поблескивая зубами, уходит.
2.
На святках из волости, из села Острожного приезжают в кошеве, словно гости веселые и обычные, молодые ребята, комсомольцы.
У сельсоветского крыльца они весело топчутся, охлапываются, разбрызгивая свеженаметенный снег, и, весело переговариваясь, вместе с белым паром, вместе с морозом вторгаются в присутствие.
Афанасий, хмуро озабоченный похмельем, нудливо ворчит им навстречу и топает ногами:
– Кыш вы! Валитесь обратно! валитесь!.. Каки по святошному времю занятья!? Во середу приезжайте.
– Не кыркай! – добродушно покрикивает в ответ один из приезжих. – Что у вас тут за мода – праздники?
– Два дня полагается отдыхать, а у вас цельные святки отдых, што ли?
– Где председатель?
– Сторонись, сторонись, товарищ!..
Афанасия смывают с порога, ватага весело проникает в сельсовет. В сельсовете сразу становится шумно и крикливо.
Ребята стряхивают с себя снег, распоясываются, сбрасывают полушубки. Они не обращают внимания на Афанасия. И сторож, наливаясь тревогой, тушит в себе задорный жар и озабоченно и примирительно спрашивает:
– Да вы зачем?
– Мы в комсомол! – горделиво и вызывающе отвечают ему.
– Будем мы тут у вас лекцию читать. И насчет религии просвещать...
– Лекцию? – криво наставляет Афанасий заросшее шерстью ухо под непривычное слово. – Это к чему жа?.. А?..
– А там увидишь.
– Против бога!
– Охальничать опять!.. – снова закипает Афанасий: – Как лонись?.. Носит вас...
Но ребята уже не слушают его. Они устраиваются удобно за столом. Из холщевой сумки вытаскивают книжки, разбирают их, говорят о чем-то своем. Один из них, накинув на себя полушубок, выходит:
– Пойду к председателю.
А через час, когда побывал в сельсовете председатель и досадливо и несговорчиво побеседовал с приезжими, ребята рассыпались по деревне, пошли по избам, стали сбивать мужиков и баб пожаловать на беседу.
Позже они приносят в сельсовет скамьи, табуретки, доски, налаживают места для сиденья. Разворачивают с хрустом и звонким шелестом раскрашенные плакаты, прибивают их к стенам.
Афанасий обидчиво и сумрачно поглядывает на хозяйничающих в сельсовете комсомольцев. Боком протискивается он к картинкам, облепившим стены. Разглядывает их. Видит: волосатые, толстобрюхие попы, высоко вздымая полы ряс, отплясывают пьяно и озорно среди священной утвари и икон. Старый бог-отец, в очках, смешной и лукавый, пялит свои глазки и метет пышной и холеной бородой дородное брюхо свое. Худая, носатая богородица прижимает к своей груди щекастого младенца, а вокруг них хороводом вьются монахи, купцы, генералы, господа.
Под картинками выведены какие-то подписи. Афанасий разглядывает, не понимая, эти подписи и догадывается:
– Галятся над богом, язви их в душу!..
И когда лениво, опасливо и поодиночке начинают сходиться на беседу мужики, бабы и ребятишки, Афанасий тащит их к плакатам, тычет в глумливые картинки черным грязным пальцем и бубнит:
– Ето што? А?.. Глядите-ка, православные, ето кака хреновина, прости господи, про иконы, про бога накручена!?.
Мужики молча глядят на плакаты, бабы испуганно переговариваются.
Афанасий кипит, ковыляет между лавками, по проходам, фыркает, хватает вновь приходящих и влечет их к плакатам.
Скамьи заполняются. Под низким потолком собирается гул и табачный дым. Приезжие ребята расположились за отодвинутым к самой стенке председателевым столом и совещаются о чем-то. Посовещавшись, затихают они, смотрят на народ, и один из них, чернявый и скуластый, встает, трет голый безбородый подбородок и кричит собравшимся:
– Граждане, крестьяне и товарищи! Сейчас товарищ Верещагин, член нашей ячейки, сделает вам доклад, то-есть прочтет лекцию: есть бог или нет!.. Прошу тишину!..
В шуме и движении толпы на смену чернявому встает за столом товарищ Верещагин, и когда он встает, с передней скамейки остро звенит бабий вскрик:
– Матушки!.. да это Митька сватьи Дарьи!..
Товарищ Верещагин, Митька, сконфуженно усмехается, перебирает на столе тоненькие книжечки, откашливается. Начинает доклад о боге.
В топоте, в кашле, во вскриках и переговорах тонет и неуклюже ползет этот доклад. Несколько раз останавливается товарищ Верещагин и ребята из-за стола кричат:
– Тиш-ше!.. Товарищи! Граждане женщины, тише!.. Не мешайте порядку!..
Несколько раз не надолго затихают слушатели, но не выдерживают и снова бурлят и грохочут. И вместе с другими, озлобленней и яростней иных, грохочет и бурлит Афанасий...
Вспотев и отдуваясь, кончает свое дело товарищ Верещагин, Митька. Чернявый, скуластый снова встает и, покрывая усилившийся шум и говор, звонко предлагает:
– Граждане, которые желают, могут вполне свободно задавать вопросы. Кому что непонятно.
Пылающий возбуждением, шумный и неуклюжий, протискивается меж скамьями Афанасий и широко размахивает руками:
– Давай я спрошу!
– Ну, спрашивай.
Не глядя на ребят, ни на чернявого, ни на оратора Митьку, Афанасий оборачивается к своим, к мужикам и бабам:
– Хочу загануть я вопрос! – кричит он восторженно и гневно.
– Вали!.. Сыпь, Косолапыч!..
– Хочу поспрошать – пошто этих сукиных сынов матери рожали, утробы свои надрывали? на кой ляд?!.
Пляшет прокуренный сельсовет в хохоте, гневе, реве и шуме. Пляшут полуизодранные плакаты на гулких стенах. Вокруг Афанасия свивается клубок, ребята напрасно призывают к порядку, к спокойствию, к тишине. Порядка, спокойствия и тишины нет.
3.
Крёстная, Арина Васильевна, приходит из сельсовета сердитая, ругаясь:
– Черти охальные! Над богом галились, чисто татары, аль жиды!.. Страсти какие, Ксеночка, – бога, говорят, нету, бога, мол, попы придумали!.. Да разрази их богородица, изгальщиков этаких!
Ксения хмуро слушает и не сочувствует крёстной. Ксения думает о своем и нет ей дела до старухиных забот. Но Арина Васильевна, распаленно, разгневанно воодушевленная, многословно рассказывает о том, что было в сельсовете, – и нехотя, лениво и бесстрастно втягивается Ксения в разговор.
– Афанасий-то что разорялся? – усмехается она: – Ведь, он лет двадцать, поди, в церкви не бывал.
– А это нипочем! Он, может, и без церкви бога в душе держит!..
– Пьяница он... бездельник. Ни во что не верит. Сам он изгальщик хороший. И с ребятами этими штырился он так, из озорства... Поперечный он.
– Напрасно ты, – вскидывается крёстная. – Правильно он этих дурней лаял. Совесть они потеряли, а он их по душевности и обличил... Кака беда ежели он в церкву молиться не ходит? он, бать, веру-то в душе сохранят!?
– Пустой мужик! – лениво повторяет Ксения.
Арина Васильевна обиженно умолкает. Арина Васильевна молча таит в себе свою догадку: Ксеночка-то отшиблась сама от бога, с партизанами да в чужих местах там, где-то, мыкаясь.
Догадка эта остро буравит ее позже, в тот же день, когда во двор въезжают непрошенные гости, когда, откричавшись от Пестрого, в избу заходят трое, те самые, которые совсем недавно над богом галились в сельсовете.
Ребята входят в избу, окутанные морозным паром, останавливаются у дверей, здороваются. От дверей спрашивают:
– Ночевать, хозяюшки, не пустите ли?
Крёстная сразу узнает вошедших. Крёстная напитана обидою и торопится ответить:
– Женски тут. Мужиков нету... Ищите у соседей ночлегу.
Мнутся парни у порога. Значит, поворачивать надо. Но из-за спины крёстной, Арины Васильевны, выходит Ксения, ловит старухины слова, вглядывается в гостей непрошенных.
– Вы к нам-то сюды сразу али еще где просились, – поняв что-то, спрашивает она.







