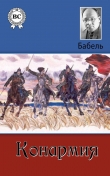Текст книги "Том 4. Письма. Семь лет с Бабелем (А. Н. Пирожкова)"
Автор книги: Исаак Бабель
Соавторы: Антонина Пирожкова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Такой же обостренный был у Бабеля слух, он мог услышать тихий шепот, различить тишайшие звуки.
Запахи он воспринимал также обостренно, он не нюхал, как все люди, а как бы впитывал в себя запахи. И не только приятные, но и отвратительные. Его осязание тоже было необычным. Он трогал что-нибудь как-то особенно долго и с сосредоточенным выражением лица и переставал трогать, только поняв что-то про себя. Я несколько раз наблюдала за ним, когда он трогал материю и, особенно, тельце ребенка.
Может быть, от этой остроты чувств рождались его метафоры.
С такими свойствами всех чувств, в сочетании с могучим талантом, Бабель не мог быть писателем, кому-то подражавшим, у кого-то обучающимся. Он был самобытен, таких, как он, больше не было. И вряд ли будут!
Бабель был очень целомудренным человеком. Несмотря на то, что в его «Конармии» он описывает много всяких жизненных ситуаций, ни одного нецензурного слова или фразы в этом произведении нет. В молодости он писал, как говорили, эротические рассказы, хотя я их эротическими не считаю; он никогда не произносил ни дома, ни в гостях нескромных слов или ругательств. В то время, как, впрочем, и сейчас, в писательской и актерской среде в выражениях не стеснялись, это было принято и даже модно. Бабель никогда этого не одобрял.
И если кто-нибудь из наших гостей позволял себе рассказать фривольный анекдот, Бабель морщился и мог сказать ему: «Ваши анекдоты не поднимаются выше бельэтажа человеческого тела».
И когда такую фразу скажет Бабель, человек запомнит ее надолго потому, что такие фразы Бабеля быстро распространялись среди его окружения и даже вне его.
С утра он был ежедневно побрит, одет в домашнюю куртку и брюки и не любил ходить дома в халате или пижаме, а тем более работать не вполне одетым.
Бабель называл себя суеверным человеком, но я не могла бы точно сказать, был ли он по-настоящему суеверным или только любил играть суеверного человека. Дома на перилах лестницы всегда висела подкова на счастье, многие рассказывали мне, что он сейчас же возвратится домой, если черная кошка перебежит ему дорогу или кто-нибудь из домашних спросит, куда он идет. Свидетельницей таких возвращений я не была.
В декабре 33-го года Бабель написал мне из Кабардино-Балкарии, что он человек суеверный и хотел бы Новый год встретить вместе со мной, он пригласил меня приехать к нему в Донбасс, в Горловку, 31 декабря. Об этой встрече Нового года я написала в своих воспоминаниях.
В марте 1934 года я поступила на работу в Метропроект, и поэтому мне не полагался отпуск ни летом, ни осенью, а только зимой, в декабре. Бабель достал мне путевку в дом отдыха работников искусств (РАБИС) под Москвой, проводил меня на поезде до железнодорожной станции, от которой я на лошади в санях добралась к месту назначения вместе с другими приехавшими отдыхать. Меня поселили в комнате вместе с молодой милой женщиной, которая оказалась дочерью профессора, историка искусства.
Я и она познакомились с нашими соседями по столу и образовали компанию, чтобы вместе проводить время. Когда настал день 31 декабря, ничего не обещавший мне заранее Бабель совершенно неожиданно приехал ко мне, нагруженный шампанским, конфетами и апельсинами.
Мы встречали Новый год в нашей комнате, пригласив туда своих новых знакомых. До наступления Нового года мы затеяли очень веселую игру, в которую охотно играли и раньше, чтобы посмеяться. Кто-нибудь сочинял рассказ без прилагательных, а потом по очереди назывались какие угодно прилагательные, и автор рассказа подставлял их к очередному существительному, затем этот рассказ зачитывался вслух под смех участников игры – так как прилагательные никак не подходили к существительным, а часто были и сами по себе очень смешными.
Бабель с удовольствием принял участие в этой игре, и его прилагательные были самыми смешными и изобретательными. Встретив Новый год, все пошли гулять на улицу, после чего Бабель ушел в комнату, предоставленную ему для ночлега: кажется, это был кабинет врача. Утром после завтрака Бабель уехал в Москву.
Такой была наша встреча Нового 1935 года. А вот как мы встречали 1936 год, я совсем не помню. По-моему, Бабель был в это время в Москве, никуда не уезжал, и если бы он ушел куда-нибудь встречать Новый год один, я бы ушла к кому-нибудь из моих друзей и запомнила бы это. Какой-то провал в памяти! 1937 год мы встречали дома вдвоем, так как я ждала ребенка, родившегося 18 января.
Зимой 1937 года Бабель уехал в Киев, чтобы работать над сценарием фильма «Как закалялась сталь» по Н. Островскому. Сценарий такой был кем-то уже написан, но Бабель говорил, что он был так плох, что нельзя было ничем из него воспользоваться. Так как режиссером этого фильма должна была быть жена А. П. Довженко Юлия Ипполитовна Солнцева, то она пригласила Бабеля работать и жить в их квартире. Александра Петровича Довженко дома не было, он снимал свой фильм где-то на Украине.
Бабель начал работать над этим сценарием еще в Москве, работал мучительно, работа эта ему не давалась, и он жаловался мне на роман Н. Островского, по которому трудно сделать хороший сценарий. Тем не менее, зимой уже 1938 года этот сценарий был закончен, и Бабель считал себя его автором; успел даже два небольших отрывка из него напечатать в газете.
После ареста Бабеля авторство сценария «Как закалялась сталь» оспаривалось в судебном порядке между Ю. И. Солнцевой и автором первоначального забракованного сценария. Суд установил авторство Солнцевой, присвоившей себе работу Бабеля, фамилия которого не упоминалась вовсе.
Позже мне говорили, что этот сценарий был сдан Солнцевой в архив (быть может, ЦГАЛИ) вместе с другими ее бумагами с тем, чтобы его не показывать никому без ее разрешения.
Из-за работы над сценарием «Как закалялась сталь» Бабель должен был задержаться в Киеве до середины января. Следуя своему суеверию, он позвонил мне и просил приехать к нему для встречи Нового года.
Не так-то легко было это сделать! Я пошла к начальнику конструкторского отдела Метропроекта с просьбой отпустить меня с работы на три дня. Работы, как всегда, в отделе было много, и начальник мне отказал.
Огорченная, я вернулась в свою комнату и пожаловалась руководителю группы. В этой группе я была старшим инженером. И руководитель группы вдруг говорит: «Хотите, я вам это устрою. У меня с начальником отдела такие отношения, что, скажи я что-нибудь, он непременно будет против». И он пошел к начальнику и возмущенно сказал ему: «Подумайте, Антонина Николаевна захотела поехать к мужу в Киев встречать Новый год! Тут с работой не справляемся, а ей, видите ли, захотелось прогуляться в Киев! Я категорически против!» И тут начальник отдела вдруг говорит: «А почему бы ей не поехать?» Руководитель группы кипятится: «Не могу я ее отпустить!» И чем больше он кричал против, тем увереннее начальник отдела говорил, что он отпускает меня. Придя в комнату, руководитель сказал: «Ну, дело сделано, Вы можете ехать».
В купе поезда я оказалась вместе с матерью актера Вахтанговского театра Кузы; в Нежине купила маленький бочонок удивительно мелких нежинских огурчиков, очень вкусных и слабо засоленных. Город Нежин славился тогда своими огурчиками.
В Киеве мы встречали Новый 1938 год с Юлей Ипполитовной и Рыскиндом, пришедшим к нам в гости. А где появлялся Вениамин Наумович Рыскинд, там всегда был смех.
Он был проказник и рассказывал, как ему чем-то досадил один из его знакомых, и тогда Рыскинд взял и опечатал его комнату, когда хозяина не было дома. Для этого достал сургуч, растопил его, а печатью послужил обыкновенный медный пятак. Представляете состояние человека, вернувшегося домой и увидевшего еще издали, что его комната опечатана! Бедняга не знал, что делать, он бегал по своим друзьям, ночевал у них, пока не пришел к Рыскинду. Тот согласился пойти с ним домой, и когда они пришли, то сорвал печать, показав ему отпечаток медного пятака. Хозяин так и не узнал, кто над ним так жестоко подшутил, а я была возмущена поступком Рыскинда. Бабель меня успокаивал, говоря, что Рыскинд мог все это придумать. Звучало и еще много рассказов Рыскинда, более веселых и смешных. Бабель был молчаливее, чем обычно, сам ничего не рассказывал, но смеялся над историями Рыскинда.
1939 год мы также встречали дома одни. Нашей дочери Лиде было почти два года, и она спала в соседней комнате. В двенадцать часов ночи она вдруг проснулась. Бабель принес ее к нам и посадил в детское креслице, а потом налил ей в рюмку шампанского, с наперсток, не более. Лида выпила с удовольствием и вдруг развеселилась, стала хохотать, размахивать руками, все швырять на пол. Мы смеялись вместе с ней до тех пор, пока она вдруг не заснула тут же, в кресле, и Бабель отнес ее в кровать.
Так мы встретили Новый 1939 год, мой последний Новый год с Бабелем.
Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим. В его поведении, походке, жестикуляции была какая-то элегантность. На него приятно было смотреть, его интересно было слушать; словами он меня просто завораживал, и не только меня, а всех, кто с ним общался. Женщины были в него влюблены и говорили: «С Бабелем хоть на край света!» Бабель познакомил меня со многими мужчинами-писателями, поэтами, кинорежиссерами, актерами, наездниками, но никто из них не мог сравниться с Бабелем.
Подкупало его отношение к женщинам, желание женщину возвысить, как бы поставить на пьедестал. И я не думаю, что это относилось только ко мне. Его первая жена Евгения Борисовна, жившая во Франции начиная с 1926 года, так и не вышла замуж второй раз, несмотря на то, что была красивой женщиной.
А как много я знала браков, где муж постоянно унижал свою жену, старался сказать про нее какую-нибудь дерзость. Один из знакомых нам писателей всем говорил про свою жену, что вытащил ее из-под японского посла; она в ответ била его по физиономии при всех, и он делал вид, что ему это очень нравится. Однажды, когда эти супруги обедали у нас, жене очень понравился квас, и она сказала, что хотела бы научиться делать такой. На это я ей сказала, что надо только пойти на кухню к Марье Николаевне и записать рецепт, на что муж сказал: «Так надо еще уметь писать».
Другой писатель, женившись в очередной раз на милой актрисе балета, бывало, не пропустит случая, когда его жена скажет что-то не совсем умное, чтобы не пожать в недоумении плечами и не сделать удивленное лицо, как бы говоря: «Ну что с нее взять, с этой дуры!»
Еще один писатель, когда мы с Бабелем были у него в гостях, при своей молодой жене, родившей ему двух дочерей-близняшек, позволил себе сказать: «Ну что можно ожидать от дочки дворника!» – в ответ на какой-то пустяк. Первой женой этого писателя была аристократка, но он расстался с ней и женился на дочери дворника. Так как же можно было унижать ее презрительными замечаниями! Это было отвратительно. И Бабель тут же ставил мужа на место своими ироническими замечаниями, а к жене относился подчеркнуто уважительно.
Мы с Бабелем жили каждый своей жизнью, в квартире у нас не было общей спальни, а были отдельные для каждого комнаты. Так как я работала, режим моего дня отличался от режима дня Бабеля. У нас были свои друзья и свой круг знакомых. Я могла пригласить в дом кого захочу, и Бабель никогда не сделал мне замечания, а иногда мог сказать: «Пригласите такого-то; пока Вы будете поить его чаем, я на его машине съезжу по делам в издательство». Так как я всегда дорожила общением с Бабелем, своих друзей и знакомых я старалась приглашать, когда он куда-нибудь уезжал или вечером уходил из дома один. Всегда спрашивал: «Ну, кто Вас сегодня провожал домой?» И мог предложить мне: «Доведите его до объяснения в любви, мне очень интересно знать, как инженеры в любви объясняются».
Я могла рассказывать ему и о моих успехах и неудачах по работе, а также о том, что мне кто-то сказал комплимент или объяснился в любви. И Бабель будет объяснять мне, почему я нравлюсь, перечисляя все мои достоинства. Никаких сцен ревности никогда не было, и только однажды, когда он зимой очень простуженным вернулся из Киева (или Успенского) и сказал, что я виновата в его простуде, я удивилась. «Ночью представил себе Вас в чьих-то объятиях, и это было так ужасно, что я выскочил из купе и выбежал в тамбур вагона, где стоял, пока не остыл».
Разыгрывать сцену ревности с применением невообразимых упреков он иногда себе позволял, но при этом было много смеха, и сам он в конце концов хохотал.
Наверное, пытаясь вызвать у меня ревность, Бабель однажды мне рассказал, что гулял по парку с молодой девицей, разговаривая с ней о всяких московских новостях. Потом долгое молчание, после чего: «Не Вы!» – Это мог быть и комплимент в стиле Бабеля. Встретив меня на вокзале, когда я приехала в Горловку, не сразу, но позже сказал: «Когда Вы сошли с поезда, у Вас было лицо Анны Карениной». Это вместо обычного комплимента.
Часто он заставлял меня петь сибирские песни и городские романсы, которые пели в Сибири. Теперь я уже все их забыла, так как без Бабеля никогда вообще больше не пела, но одна песня начиналась:
Когда будешь большая, отдадут тебя замуж:
Да в деревню большую, да в деревню чужую.
В той деревне дерутся, топорами секутся,
А как с вечера дождь идет, а как с утра все дождь и дождь... и т. д.
Вспоминаю начало одного романса, который я очень любила, но никогда позже его нигде не слышала:
Ни небо лазурное,
Ни солнышко красное,
Что ярко блестит по весне,
Не радуют молодца,
Тоскою убитого.
Ах, можно ль о ней не грустить,
Хоть слезы все выплакал,
А плакать все хочется
И хочется больше любить... и т. д.
Этот романс Бабелю почему-то очень нравился.
Очень интересно было слушать, как Бабель спасал меня от писательских жен, которые хотели бы привлечь меня для участия в каких-нибудь мероприятиях. При Союзе писателей всегда создавался женский комитет, где жены писателей вели разную общественную работу. Если ко мне в Доме литераторов обращались при Бабеле, а я смущалась и не знала, как отказаться, то он сейчас же вмешивался: «Она инженер, работает с утра до вечера и не может приходить на ваши заседания», – и уводил меня поспешно. И вообще не хотел, чтобы я общалась с женами писателей. Говорил: «Вы окружены гораздо более чистой моральной атмосферой, чем наша писательская среда. Жены писателей чаще всего фальшивы, перед зеркалом делают лицо, с которым надо выходить из дома, знают, когда надо ругать Есенина и хвалить Маяковского, а когда – наоборот. Ужасно обращаются со своими мужьями, вмешиваются в их творчество и изменяют им».
У Бабеля было еще то, с детства привычное чувство, что мужчина в семье должен быть добытчиком денег. В его семье никогда не работала мать, тогда это и не было принято, не работала жена Евгения Борисовна и сестра Мера.
Оставаясь в доме, сам вел хозяйственные дела, отдавал распоряжения домашней работнице, всегда сам расплачивался за квартиру, газ и электричество, любил это делать через сберкассу. Не представлял себе жизни без домашних работниц, сам их нанимал и платил им жалованье. И даже меня часто спрашивал, не нужны ли мне деньги. Я говорила: «Нет», и он жаловался: «У меня какая-то ненормальная жена! Другие жены у своих мужей просят денег, клянчат, заискивают. Можно было бы сказать: „Нате, ешьте, ешьте, съедайте меня живьем!“» – и он, засучив рукав, подносил локоть к моему лицу. У меня денег он никогда не брал и не просил, но когда я возвращалась домой, получив заработную плату, он встречал меня с лукавым видом: «Миленькая, дорогая, зарплатку получила», – и вдруг выхватит мою сумку, прижмет ее к груди, поскачет на одной ноге к себе в комнату и закроется там на ключ. Потом, конечно, вернет мне сумку с деньгами. Я спрашивала его, не нужны ли ему деньги, но он всегда говорил: «Нет!» Когда он уезжал в Киев, Одессу или еще куда-нибудь, он всегда хотел оставить мне денег на хозяйство, но тут уж я могла сказать, что деньги мне не нужны, что они у меня есть. Я сама распоряжалась своими деньгами, помогала матери и братьям, жившим и учившимся в Томске, могла купить себе, что хотела, и принести в дом сладости и фрукты. Хозяйственные заботы меня не касались. И я только много позже узнала, как часто он нуждался в деньгах. От меня это скрывалось. И только однажды, когда объявили, что можно продать облигации государственного займа за десять процентов их стоимости, он потащил меня в сберкассу и сдал и свои, и мои облигации. Был очень доволен, а я была удивлена.
Рассердился на меня Бабель только однажды, когда я на полчаса опоздала домой покормить ребенка. У начальника Метростроя было важное совещание, и я не могла уйти вовремя, а когда оно кончилось, я, понимая, что опаздываю, приняла предложение одного архитектора довезти меня до дома. В машине я сказала ему, что должна кормить дочку, и он довольно быстро довез меня домой. Кричащую Лиду я услышала, уже отпирая дверь, а поднявшись по лестнице, увидела Бабеля с девочкой на руках, шагавшего из угла в угол по комнате. Он встретил меня словами: «Ну зачем вам понадобился этот ребенок? Чтобы мучить его?» А когда Лида была уже накормлена и тут же уснула, накричавшись, Бабель, успокоившись, сказал: «Хотите, проползу на коленях от дома до Метропроекта, только бросьте работать».
Но это было несерьезно, он очень гордился моей работой, уважительно и с интересом к ней относился. А также хорошо знал, что я никогда не брошу работать.
Бабель очень боялся, что наша девочка унаследует от него слабую носоглотку, поэтому старался закаливать дочь. На даче в Переделкино не пропускал ни одного летнего дождя, чтобы не раздеть Лиду донага и не отправить ее под дождь во двор. Лида, конечно, была в полном восторге, прыгала под дождем по лужам, брызгалась, подбегала даже под струю в водосточной трубе, при этом визжала, кричала, хохотала. И как я ни упрашивала забрать девочку домой, Бабель не соглашался. И уже тогда, когда у девочки синели губки, я хватала ее, вытирала и закутывала в теплое.
И, наверное, Бабелю удалось все же закалить Лиду, потому что она и в детстве, и потом простужалась очень редко.
Сам же Бабель простужался часто, и насморк у него был просто катастрофический. И продолжалось это до тех пор, пока он не сделал прокол гаймеровой полости у профессора Шапиро, знаменитого в Москве ларинголога.
Бабель очень увлекался людьми, но часто быстро в них разочаровывался. Однажды он мне говорит: «Здесь гостит один мой знакомый француз, он влюбился в нашу балерину, и чтобы они могли поговорить, я пригласил их на воскресенье к обеду». Когда пришли гости, мы с Бабелем сразу же влюбились в балерину. Она была очень мила и в то же время скромна, особенно хороши были ее синие глаза. Француз не говорил по-русски, балерина – по-французски, Бабель переводил, и, тем не менее, после обеда мы удалились, чтобы дать им возможность посидеть за столом и как-то объясниться.
Но Бабеля охватило волнение: «Такая девушка! Ни за что нельзя отдавать ее французам, самим пригодится! Я скажу ей, чтобы не выходила замуж за этого болвана!» – Он никак не мог успокоиться.
Они приходили к нам еще несколько раз. И вдруг, после их очередного визита, Бабель, совершенно забыв, что говорил мне раньше, произносит: «Нет, скажу Жоржу, чтобы он на этой дуре не женился!» Так наступило разочарование, и очень скоро.
Бывали случаи, что Бабель знакомился с кем-нибудь и приходил в восторг от этого человека – актера, наездника, певца или еще кого-нибудь. Дружба заходила так далеко, что целыми днями они не расставались. Все домашние получали распоряжение – для такого-то я всегда дома. Но проходило какое-то время, и отдавалось новое распоряжение: для такого-то меня никогда нет дома.
Отрезвление наступало, человек ему надоедал, или он в нем разочаровывался. Но это непостоянство не относилось ко всем без исключения. У Бабеля были привязанности и на всю жизнь.
Известно, что Бабель был великолепный рассказчик, но интересно то, что он был рассказчиком совсем не такого типа, как известные в то время в Москве рассказчики, как, например, Михоэлс, Утесов или Ардов. Все они были остроумны и блестяще имитировали любой разговор, любую интонацию. И Бабель восхищался этим их умением, но сам он рассказывал иначе, ровным голосом, без акцентов и никому не подражая.
Его устные рассказы были интересны и часто очень смешны, но за счет или смешных ситуаций, которые Бабель придумывал, или за счет совершенно невероятных оборотов речи. Особенностью Бабеля-рассказчика было и то, что иногда перед смешными местами рассказа он сам начинал смеяться, да так заразительно, что невозможно было не смеяться тем, кто его слушал.
В некоторых воспоминаниях о Бабеле пишут, что он говорил с южным акцентом, или пришепетывая, или с одесским акцентом. Все это совершенно неверно. Голос Бабеля был ясным, без малейшего изъяна, речь безо всякого акцента. Даже пересказывая слова Горького, он никогда не позволял себе окать – только скажет, что Горький произнес это с ударением на «о», но сам повторял слова Горького без этого оканья.
Бабель любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому любил и вкусно поесть. Ел очень мало, но всегда наслаждался едой. Очень любил картофельный салат с зеленым луком, постным маслом и уксусом, от салата из помидор выпивал даже сок, когда салат заканчивался. Любил сам поджаривать репчатый лук ломтями и ел хлеб с таким луком, как бутерброд; мог зажарить и бифштекс, но это бывало редко – в те дни, когда домашняя работница была выходная и когда уже не было Штайнера. При Штайнере у нас была венская кухня, отличавшаяся тем, что едят много теста. К жаркому из мяса подавались не овощи, а кнели (крупные клецки) в подливе. Часто делался мясной пирог, но не печеный, а сваренный на пару, пирог был сделан как рулет, разрезался ломтями и поливался растопленным сливочным маслом. На десерт готовились макароны, посыпались молотыми грецкими орехами и сахарным песком и поливались маслом.
Когда нас кто-нибудь из друзей Бабеля приглашал на еврейский пасхальный седер, где всегда были фаршированная рыба и куриный бульон с кнейдлах (клецками) из мацовой муки, Бабель говорил: «От этого обеда ожидоветь можно!» Курил Бабель немного; работая, не курил вообще. А когда приходили гости, он угощал мужчин гаванскими сигарами и закуривал сам. Сигары в деревянной коробке с надписью «Gavana» были у Бабеля всегда и лежали на отдельном столике. У кого-нибудь в гостях он закуривал и папиросу.
Пить вино, и особенно водку, Бабель почти не мог, но когда уж очень угощали и заставляли, то Бабель как-то сразу становился бледным, и я понимала, что больше пить ему нельзя, и вмешивалась.
Бабель погиб в самом расцвете своих творческих сил. Сколько прекрасных произведений он мог бы еще создать! Для этого все было подготовлено, собран весь необходимый материал. Мне нестерпимо больно сознавать, что расстрелян не только мой муж, но и выдающийся писатель и очаровательный человек.