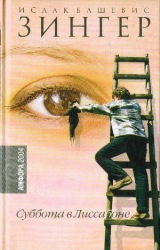
Текст книги "Суббота в Лиссабоне (рассказы)"
Автор книги: Исаак Башевис-Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
ВИЗА
Я уже стал таким большим, что мог накладывать филактерии. В России произошла революция. В газете я прочитал, что царь Николай под домашним арестом и занимается тем, что рубит дрова, а евреям теперь позволяют жить в Москве и Петрограде. Для отца моего все эти события были лишь дополнительными знаками скорого прихода Мессии. А как еще прикажете объяснить отречение от престола столь могущественного монарха? Что случилось с казаками? Возможен единственный ответ: свержение царя предопределено свыше. Евреи возвышаются над миром, а враги их теряют силу.
Этим летом, сказал нам брат, можно уже получить визу в Билгорай у австрийского консула в Варшаве.
Мое жгучее желание поехать куда-нибудь – можно и в Билгорай, где жил мой дед, тамошний раввин, – стало сильнее, чем когда-либо прежде. Я нигде не бывал с тех пор, как мы переехали из Радзимина в Варшаву Даже прокатиться на дрожках или проехаться на трамвае было для меня приключением. Меня обуревала неясная тоска, страстное желание отправиться куда-нибудь далеко-далеко, в дальние страны. Положение наше было столь отчаянное, что больше оставаться в Варшаве стало невозможно. С лета 1915 года мы были постоянно голодны. Отец все писал и писал. Теперь он стал во главе иешивы. До того ее возглавлял радзиминский рабби (он уехал обратно в Радзимин). Но получал отец так мало, что этого не хватало даже на хлеб. Зима 1917 года – непрерывный пост для нашей семьи. Мы ели мороженую картошку и засохший творог. Голод был особенно мучителен, потому что сосед наш был пекарь. Пекари в то время наживали целые состояния. Хлеб выдавали по карточкам, а на черном рынке он стоил очень дорого. У Копла-пекаря только и считали выручку. Мясо, колбаса – для нас это все было из той, прошлой жизни. А у Копла – пожалуйста! Запахи из квартиры Копла – на одной лестничной клетке! – могли свести с ума.
Прежде чем описывать нашу поездку в Билгорай, расскажу немного о нашем соседе. Его дочь Миреле сидела у ворот и продавала хлеб, булочки, субботние халы. У Копла было несколько сыновей. И все они пекли хлеб. А дочь была одна. Самая младшая. Сам Копл был коротышка, плотного сложения, борода подстрижена, с проседью. Болтун, хвастунишка, сквернослов – вот такой он был, этот Копл. Любил клясться-божиться – хлебом его не корми. Чаще всего к месту и не к месту повторял: «Чтоб мне не дожить до того часа, когда увижу мою Миреле под брачным покрывалом, если вру!» Дочь он обожал. Молодые люди с Крохмальной улицы не смели ни прикоснуться к ней, ни даже посмотреть в ее сторону – из страха, что Копл или его сыновья пустят в ход нож.
Видимо, Миреле пошла в отцовскую породу. Она почти не росла. Ее разносило только в ширину: огромные груди, мощные бедра, толстые круглые коленки. В свои семнадцать она выглядела уже перезрелой женщиной. Казалось, плоть ее взывает: «Вот я. Я готова уже. Готова». Копл предупредил сватов, что только исключительных достоинств молодой человек может стать женихом для Миреле. В конце концов они нашли такого – бухгалтер, само совершенство. Чистый бриллиант! На самом деле он был бухгалтером, жених этот, или же только слыл таковым на Крохмальной – там каждого мало-мальски грамотного бухгалтером называли, – уж и не знаю.
Жених был, конечно, сирота, и как только помолвка состоялась, переехал жить к будущему тестю. Высокий, щеголеватый тип, длинноногий, с вьющимися волосами (это так ценилось на Крохмальной) – как раз подходящая пара для Миреле. Не слишком-то долго он привыкал к тому, как подают и что едят в этом богатом доме. Если ему нужны были деньги, он никого не затруднял просьбой. Никого не спрашивал: сам шарил в ящиках стола, в комоде, доставал из-под матраса. Поговаривали, что Коплу придется отдать этому парию половину своего состояния. У жениха было все: хлеб, плюшки, булочки, субботняя хала, мясо, деньги – и Миреле в придачу. Куда уж лучше!
Вдруг, в самый разгар свадебных хлопот, Копл заболел. Его спешно отвезли в больницу. Прооперировали. Но было уже поздно. На смертном одре он выразил последнее свое желание: чтоб свадьба Миреле состоялась сразу же после положенных дней траура.
На Крохмальной говорили, что Копл слишком часто повторял любимую свою клятву.
Но вернемся к нашей поездке. В 1917 году в Варшаве свирепствовал сыпной тиф. Брюшной тиф не отставал от него. И чему тут удивляться? Как еще люди вообще оставались живы, питаясь картофельными очистками и жареными каштанами, – уму непостижимо. Немцы заставляли каждого жителя Варшавы пройти дезинфекцию в городской бане. Кордон солдат окружал двор, и каждого жильца насильно вели в баню. Мужчинам брили бороды, девочек стригли наголо. Люди боялись выходить на улицу. Санитарные комиссии проверяли дом за домом. Голод, болезни, страх перед немцами делали жизнь непереносимой.
На Щиглой, в узком переулке, ведущем от улицы Новый Свят к Висле, размещалось австрийское консульство. Это было время, когда люди выстраивались в очередь за хлебом, за картошкой, за керосином, за чем угодно. Но нигде не было столь длинной и столь плотной очереди, как на Щиглой. Тысячи варшавян и приезших ожидали возможности уехать в ту часть Польши, которая теперь была оккупирована австрийцами. Там, в маленьких местечках, еще была еда. Толковали, что там можно набить желудок, можно забыть о войне. Но мы слышали и другое: с австрийской армией туда пришла холера, и эпидемия косит людей тысячами.
С самого начала военных действий мать не получала писем из Билгорая. Однако знала, что отца ее уже нет в живых. Как она могла узнать это? Ей приснился сон. Проснулась однажды утром и сказала: «Отец умер».
– Что ты такое говоришь? Почему? Как ты узнала? – допытывались мы.
Мать рассказала, что во сне ей явился наш дедушка, его лицо проплыло перед ней, оно излучало свет, и в сиянии лучей света лик его удалился. Мы старались, как только могли, свести на нет значение этого сна. Но мать осталась при своем убеждении: отца ее, билгорайского рабби, нет уже на свете.
Отцу не хотелось оставлять свою деятельность раввина на Крохмальной, к тому же он теперь стоял во главе иешивы, а брат не хотел бросать работу в газете. А еще брат увлекся девушкой, она должна была стать его женой. Решено было поэтому, что пока только мать и двое младших – мой брат Мойша и я – поедем в Билгорай.
Но для этого нужна виза. Чтобы ее получить, придется стоять в очереди. Как долго? Недели. А может, и месяцы. Наверное, это покажется невероятным, но люди стояли в очереди в ожидании виз круглые сутки: и день, и ночь. Большие семьи устраивались таким образом, что члены семьи дежурили здесь поочередно. Вообще-то любая очередь имеет свойство продвигаться. Но только не здесь. Объясняли это так: во-первых, австрийский консул решительно против выдачи виз, а во-вторых, немецкие солдаты, которые следили за порядком, продавали места в очереди. Кто заплатит, попадет к консулу. Остальные могут ждать до скончания века. Охрана постоянно менялась, и потому одной взятки могло оказаться мало. Солдаты не скупились на брань, орудовали прикладом винтовки. Только и слышалось: «Verfluchte Juden!» [73]73
Жиды проклятые! (нем.)
[Закрыть]
Мы тоже заняли очередь. Мать, старший брат и я дежурили, сменяя друг друга, но к дверям консульства не приближались ни на шаг. Женщины говорили между собой, что визы получают только проститутки, и кляли этих шлюх самыми страшными проклятиями. В очереди я штудировал старый немецкий учебник. Наверно, это была хрестоматия: рассказы и стихи. Две строчки оттуда навсегда врезались в память:
Немецкий учить было легко – очень похож на идиш, и я все понимал, только что буквы другие.
Мы уже совершенно отчаялись, но в один прекрасный день брат вернулся домой с материнским паспортом, где стояла виза – для матери, меня и младшего брата. Брату удалось наскрести тридцать марок, и он сунул взятку солдату из охраны.
Никогда не забуду тот день. Наверно, это было в конце июля или в самом начале августа. Семейство наше, изнемогшее от голода, отчаяния и безнадежности, воспряло духом. Даже комнаты выглядели теперь иначе. Лицо матери уже не было столь мрачным. Солнце светило ярче, дышалось легче, грядущий день сулил одни лишь радости. Печать на куске бумаги открыла нам двери в мир – двери, которые только что были заперты на крепкий засов. Открылась дорога к зеленым лесам, к еде, к родне матери, с которой мы никогда не виделись. Для нас, детей, Билгорай символизировал нечто удивительное, чудесное, сверхъестественное, сравнимое лишь с приходом Мессии. Там жили наши дядья, тетки, наши двоюродные братья и сестры. Билгорай – особенная страна, земля Израиля, откуда до Иерусалима рукой подать.
Я танцевал, прыгал, резвился, буквально стоял на голове. Я уже, можно сказать, ехал в поезде. Мать улыбнулась, хотя для нее эта поездка не была столь беззаботным приключением. Потом вздохнула. Во-первых, отец останется один, и кто будет за ним ухаживать? Некому даже чаю подать. Правда, он будет жить не в Варшаве, а в Радзимине с семьей радзиминского раввина, а все же один, без своих. А еще Иошуа. Он ведь остается в Варшаве. Как она может уехать, если отцу и Иошуа грозит опасность! Мало ли что… Мать решительно заявила: она поступит нехорошо, если уедет; это большой грех, если семья разделена в такое опасное время – ведь не знаешь, чего ждать завтра. Но отец и брат возражали: не ехать – значит подвергать опасности жизнь младших; самая большая ответственность, которая лежит на матери, – это дети.
Я был слишком мал и беспечен, чтобы понять материнские угрызения совести, ее сомнения, ее чувство вины перед отцом и братом. Я только видел, что она хочет похоронить мои мечты и надежды, лишить меня величайшего удовольствия. Я был сердит на нее, просто в бешенство пришел. Желание ехать было столь велико, что ни о чем другом я и думать не мог – лишь бы сидеть в поезде и смотреть в окно. Много лет прошло, но я не изменился. Это желание так и живет во мне с тех пор.
ЕДЕМ В БИЛГОРАЙ
Все шло своим чередом. Я уже попрощался с друзьями и был готов отправиться в путь хоть сию же минуту. Но вот беда! Ботинки мои совсем прохудились, и меня послали к сапожнику, что жил прямо в нашем дворе: может, он поставит новые подметки?
Стоял ясный летний день, но в подвале было темно. Я прошел коридором – сырым, затхлым, на стенах плесень. Вошел в маленькую комнатенку, заваленную обувью и всяким хламом. Неровный косой потолок, маленькое оконце, грязные немытые стекла, а кое-где вместо стекла фанера. А я-то думал, что у нас такая бедность – дальше некуда. Но у нас, по крайней мере, просторное помещение с обстановкой, книги. Здесь же всего две кровати, на них грязные простыни. На одной из кроватей, уделавшись по уши, лежал новорожденный младенец – сморщенный, лысый, беззубый, ни дать ни взять кикимора болотная, только в миниатюре. Женщина возилась у плиты, та все дымила и дымила, а за сапожным верстаком сидел мужчина – молодой рыжебородый еврей, с высоким лбом и впалыми щеками, желтый, как обрезки кожи на полу.
Я ждал, пока он заменит подметки. Нечем было дышать от пыли и тяжелого запаха кожи. Я кашлял и кашлял. Припомнилось, что говорил брат: одни старятся и теряют здоровье, надрываясь на непосильной работе, а другие бездельничают. Меня прямо мутило от царящей в мире несправедливости. Молодые люди, горой бросают бомбы, умирают или остаются искалеченными после взрыва. Другие работают с утра до ночи и все равно не в состоянии заработать на кусок хлеба, на чистую рубашку или колыбельку для малыша. Этот сапожник, к примеру. Рано или поздно он заболеет чахоткой или сляжет в тифу. Да и как может вырасти здоровый ребенок в этом кухонном чаду, в грязи, среди смрада и зловония?
По мнению брата, не должно быть никаких царей. Не только Николая следует прогнать, но и Вильгельма, и английского короля. Надо, чтоб везде была республика. Отменить войны и ввести народное правление. Почему до сих пор это не сделано? Почему кругом цари, короли, императоры?
Наконец я дождался своих ботинок с новыми подметками и вышел из подвала на свет Божий. Меня охватило неизбывное чувство вины. Почему я собираюсь в такое прекрасное путешествие, а сапожник заперт у себя в подвале, будто в тюрьме? Мне казалось, будто все язвы общественной жизни олицетворял этот молодой еврей-сапожник. Я был всего лишь мальчик, но уже сочувствовал русским революционерам. Но и царя жалко: зачем заставлять его колоть дрова?
Иошуа проводил нас на Данцигский вокзал. Мы даже ехали на дрожках. Вокзал в то время назывался Вислинским. Брат купил билеты, и мы прогуливались по перрону в ожидании поезда. Было немного не по себе: мы покидаем друзей и знакомых, покидаем улицу, на которой жили так долго и к которой привыкли. Вскоре появился громадный паровоз. Он кашлял, чихал, пускал пары. Огромные, невероятной величины колеса. Капает масло, вырывается огонь. Очень мало пассажиров. Мы почти одни в вагоне. Немецко-австрийская граница лишь в четырех часах езды, в Ивангороде. Потом этот город стал называться Дёблин.
Сигнал к отправлению, пронзительный гудок паровоза, поезд медленно трогается. На платформе остается Иошуа. Его фигура становится все меньше и меньше.
Здание вокзала, привокзальные постройки, дома, люди и скамьи на перроне, казалось, плывут назад. Плыли и деревья. Удивительно было видеть, как все скользит прочь, как медленно вращаются улицы и тоже уплывают назад, будто земля – это огромная карусель. Дымовые трубы подымаются вверх, одетые в шапки из копоти и дыма. Собор, самая главная русская церковь, неясно вырисовывается в дымке. Золотые купола Собора блестят в солнечном свете, возвышаясь над окружающим пейзажем. Стаи голубей, белых, черных и далее как будто золотых, кружили над городом, а город поворачивался то так то этак, будто танцуя. Я несся во весь опор по белу свету, словно король или волшебник из сказки. И никого я не боялся – ни немецкого солдата, ни русского жандарма, ни деревенских мальчишек, ни оборванца-попрошайки. Свершилось наконец то, о чем я мечтал.
Мы проезжали по мосту. Я глянул вниз. Там ползли крошечные трамвайчики. А люди были похожи на кузнечиков. Наверно, такими видели людей великаны – те, что жили давно-давно, во времена Моисея. И теперь я как великан!
Внизу по Висле плыл пароход, а по ясному летнему небу плыли облака, похожие на корабли, а еще на зверей, птиц, на груды мягкого неясного пуха. Поезд мчался вперед и вперед, весело посвистывал. Мать достала из сумки бутылку молока, печенье и булочки: «Скажите благословение…»
Я пил молоко, хрустел печеньем. Все было забыто: война, голод, болезни. Просто рай на колесах да и только. О, если б это могло длиться вечно!
Даже мой друг Борух-Довид не подозревал о существовании такой Варшавы, тех ее окраин и предместий, что я видел сейчас. Я поражался: внизу опять ползли трамваи. Если они тут ходят, значит, и я мог бы сюда добраться? Теперь мы ехали мимо кладбища. Немой город могильных камней. Наверно, я упал бы в обморок от страха, доведись мне проходить здесь ночью… или даже днем? Но совсем не страшно, если мчишься мимо на поезде. Почему это?
Варшава просто погибала от голода. А совсем рядом расстилался прекрасный мир, зеленели поля. Мать показывала нам: вот гречиха, вот пшеница, а вон там – ячмень. Вот яблоневый сад, а вон там – груши. Но ни яблоки, ни груши еще не поспели. Мать выросла в маленьком местечке. Там мужики косили сено, а бабы и девки, сидя на корточках, пололи сорняки. Их надо вырывать с корнем, потому что они портят землю, – так сказала мать. И вдруг я увидел чудовище, жуткого монстра – без лица, в лохмотьях, с растопыренными руками. «Что это?» – в испуге спросил я. «Это пугало. Чтобы птицы напугались и улетели», – объяснила мать. Брат поинтересовался, живое оно или нет. «Нет, глупенький».
Я-то видел, что оно не живое. Но все равно казалось, что это чудовище без лица смеется. Пугало стояло посреди поля будто идол. Птицы кружили над ним.
Спустились сумерки. Появился кондуктор, прокомпостировал билеты, перекинулся несколькими словами с матерью. И, задержав взгляд, стал нас внимательно разглядывать. Должно быть, его удивила наша странная, не польская внешность. А что там разглядывать? Наверняка предки этого кондуктора тоже жили рядом с евреями.
В слабеющем сумеречном свете все казалось еще прекраснее. Четче вырисовывались цветы и плоды при свете заходящего солнца, ярче зеленели поля. Удивительным ароматом полей, благоуханием садов было заполнено все вокруг. Мне припомнились строки из Пятикнижия: «Благоухание от сына моего как аромат полей, благословленных Господом…»
Мне представлялось, что эти поля, луга, топи, болотные низины – все как в стране Израиля. Сыны Иакова пасут овец где-то здесь, неподалеку. До того, как здесь стали скирды Иосифа, колосья склонялись долу Сыны Исмаила, наверно, ходили здешними путями. Верхом на верблюдах, а с ними ослы и мулы. Везли миндаль, фиги, финики, гвоздику и другие пряности. Дубрава Мамре [75]75
Мамре – дубрава в Хевроне, где Всевышний обещал Аврааму и Саре, что у них родится сын.
[Закрыть], ясное дело, там, вон за теми деревьями. Там Всевышний вопрошал Авраама: «Почему смеется Сара? Разве есть предел могуществу Господа? Я обращу к тебе Лицо Мое, и у Сары будет сын…»
Вдруг я увидел нечто страшное и спросил у матери, что это. «Это ветряная мельница», – ответила мать. Я не успел разглядеть как следует, а мельница уже пропала, будто ее и не было. Потом снова появилась, но уже где-то позади. Мельница работала, махала крыльями. Она молола зерно, получалась мука…
Вот река перед нами. Но это уже не Висла, сказала мать. На лугу паслись коровы – рыжие, черные, с пятнами. Они щипали траву. И овец мы увидели. Казалось, мир был похож на раскрытое Пятикнижие. Луна и одиннадцать звезд появились на небе, сошли вниз и поклонились Иосифу, будущему правителю Египта.
Наступил вечер. Мы приехали в Ивангород. На вокзале горели фонари. Здесь граница. Вот и переезд. Мы ужев Австрии, сказала мать. На станции полно солдат. Они не такие высокие, не такие широкоплечие, не с такой хорошей выправкой, как немцы. Много бородатых. И даже на евреев некоторые похожи. Они в ботинках, а выше – обмотки. Не в сапогах, как немцы. Шум, крик, суматоха. Похоже на второй день праздников в Радзиминской синагоге. Все говорят, перебивая друг друга, размахивают руками, курят. Я почувствовал себя дома. «Сыграем в шахматы», – предложат я брату. Мы же не знали, долго ли нам тут сидеть.
Лишь только мы достали шахматы и если за доску, нас окружили солдаты, даже какие-то нижние чины там были. Еврейские солдаты спросили: «Вы откуда?» – «Из Варшавы». – «А едете куда?» – «В Билгорай. Наш дедушка билгорайский раввин».
Солдат с бородой сказал, что бывал в Билгорае и знает тамошнего раввина.
Один солдат встал позади меня и показывал, как ходить, а другой помогал Мошне. Получалось, что солдаты играют в шахматы, а мы с братом только передвигаем фигуры. Мать смотрела на нас с гордостью и волнением. Солдаты эти были галицийские евреи. Наверно, они в субботу надевали на голову традиционный штреймл и талес из чистой козьей шерсти. Их идиш был более приятен, звучал более певуче, чем тот, на котором говорили в Варшаве. Один из солдат разрешил брату потрогать саблю и даже примерить фуражку. Не помню, где и как мы провели эту ночь. На следующий день мы уже опять ехали в полупустом поезде. Ехали в Реховец.
В Реховце был лагерь для пленных. Там я увидел русских солдат. Оборванных, нечесаных, хоть и в русской военной форме. Австрийцы смеялись над ними. И австрийцы, и русские собрались возле склада с провиантом. Его охранял еврей с подстриженной бородой. Кроме моей матери, там была еще одна женщина – жена этого самого сторожа. Все мужчины уставились на нее с нескрываемым вожделением. Улыбаясь и краснея, она едва поднимала глаза, глядела кокетливо, наливала пиво в подставленные кружки. Муж взирал на все это весьма сурово и мрачно. Ясно было каждому – его снедает жгучая ревность.
Коверкая слова, русские говорили на ломаном немецком. Звучало почти как идиш. Среди пленных солдат тоже были евреи. Эти говорили на идиш.
Русские строили здесь новую железнодорожную ветку – от Реховца до Звежинца. Когда мы двинулись дальше, русские опять работали. Раньше, при царе Николае, тут рубили лес. Казаки выучили идиш. Каждому понятно – Мессия уже побывал здесь.
В БИЛГОРАЕ
Обуглившиеся, полусгоревшие деревья, даже целые рощи. Редко-редко среди них попадаются такие, на которых еще уцелели зеленеющие ветки. Это печальный след войны, результат отступления русской армии. Мы уже три дня едем на поезде. Но я смотрю в окно с неослабевающим интересом: поля, леса и сады, сады… Деревни, села и снова города и сады. Вот дерево, воздев кверху ветви, будто молит небо… о чем? Вот другое – ветки до самой земли – оно безутешно, оно оставило всякую надежду, разве что сама земля поможет… А вот еще одно, совершенно черное. Умирает это дерево или еще надеется выжить – кто ж знает. Жертва войны. Лишь корни остались. Мысли мои поспешали за колесами, не успевая следить за каждым деревом, кустом, каждым облаком, что проплывали мимо. Аромат хвои смешивался с другими запахами – неведомыми прежде, и почему-то все же знакомыми, хотя я и не понимал откуда. Мне хотелось, как герою какой-то книжки, выпрыгнуть на ходу из поезда и затеряться среди этого зеленого великолепия.
Небольшую одноколейку недавно проложили от Звежинца до Билгорая. Ее пока не достроили, но уже вовсю ею пользовались. Наш состав – очень маленький, просто-таки игрушечный паровоз с крошечными жеколесами, а за ним – не вагоны даже, а низкие платформы. На них – скамьи, где и рассаживались билгорайские пассажиры.
Все такие загорелые, и одежда на солнце выцвела. Мужчины в длиннополых лапсердаках, сплошь рыжие бороды. Это вызывало чувство родства, симпатии.
«Башева… – проговорил кто-то. – Раввина нашего Башева…»
Я знал, что так зовут мою мать, но никогда не слышал иного к ней обращения, кроме как: «Слушай сюда…» – так обращался к ней отец. У хасидов не положено называть женщину по имени. Я знал, что Башева – имя из Библии. Мальчишки в хедере произносили, бывало, имена матерей, но имя своей матери я произносить стеснялся – оно наводило на непристойные мысли о грехе царя Давида.
А здесь говорили ей «ты», называли – Башева, женщины обнимали ее, целовали. Матери приснилось однажды, что отец ее умер, но мы не знали этого наверняка. И вот теперь она спросила: «Когда это случилось? Как?»
Все замолчали. А потом разом заговорили: об отце, о матери рассказали, о невестке, жене дяди Иосифа. Дедушка скончался в Люблине, а спустя несколько месяцев умерла в Билгорае бабушка. Сара и ее дочь Ителе умерли от холеры. Умер Езекиель, сын дяди Иче. И Дебора, дочь тети Тойбы, тоже умерла.
В ослепительный солнечный день, в этом зеленом раю, среди сосновых лесов обрушились на мать печальные вести, и она, не выдержав, зарыдала. Я тоже хотел заплакать: наверное, так полагалось, но слезы не приходили. Я уж хитрил, тер глаза слюной – а никто далее не обращал внимания, плачу я или нет.
Внезапно все вдруг закричали. Что такое? Оказалось, задние платформы сошли с рельсов. Пришлось ждать, пока их поставят – при помощи длинных шестов – обратно на рельсы. Все сошлись на том, что в эту субботу надобно будет вознести молитву за благополучное избавление. Бывало, при подобных обстоятельствах пассажиры и погибали, – что-то было не так на этой одноколейке. По дороге, между Звежинцем и Билгораем, удивительные пейзажи. Леса, поля, луга проплывали мимо. Иногда мелькнет хата с соломенной крышей или же мазанка, крытая гонтом. Поезд то и дело останавливался: одному хотелось напиться, другому – отойти в кусты, а то машинист должен был выгрузить почту и посылки или же просто поболтать с кем-нибудь из живущих близ дороги. Евреи – так невольно получалось – обходились с машинистом вроде как с шабес-гоем [76]76
Шабесгой, шабес-гой (идиш ш абес-гой – «субботний гой»), иначе гой шель шабат, шаббат-гой – нееврей, нанятый иудеями для работы в шаббат (субботу), когда сами ортодоксальные иудеи не могут делать определённые вещи по религиозным законам. Примечание сканериста.
[Закрыть], что приходит в еврейский дом по субботам: затопить печь и прочее, что придется и чего нельзя делать еврею. Без конца по разным поводам просили его остановиться. Раз, когда стояли особенно долго, из бедной халупы близ дороги вышла еврейка: босая, но с покрытой головой. Подала матери лукошко с черной смородиной, еще влажной от росы. Узнав, что приехала Башева, дочь рабби, она принесла гостинец. Матери кусок не шел в горло, поэтому брат Мойша и я съели все до последней ягоды, измазав губы, языки, руки. Голодные годы давали себя знать.
Мать столько раз расхваливала Билгорай, но городок оказался даже лучше, чем я представлял его по рассказам. Куда только доставал глаз, Билгорай сосновой лентой окружали леса. Дома утопали в садах. Перед каждым домом каштан, да такой огромный, что в Варшаве я подобных не видел ни разу, даже в Саксонском саду. Было ощущение необыкновенной ясности и безмятежности – такого мне еще не приходилось испытывать. Пахло парным молоком, свежеиспеченным хлебом. Казалось, войны и эпидемии обошли этот благословенный край стороной.
Дом деда – старый бревенчатый дом, беленый, с замшелой крышей, лавочками перед окнами – располагался неподалеку от синагоги. Вся семья вышла нам навстречу. Первым выбежал дядя Иосиф – он теперь занял место деда в Билгорае. Дядя Иосиф не ходил, только бегал. Был худ и сильно горбился. Нос, словно клюв, изогнут, большие глаза – взгляд, как у птицы. Серебряная борода. Одет в лапсердак, какой полагается раввину на голове штреймл с широкими полями и низкой тульей, на ногах низкие туфли и белые чулки. Не поцеловав еще мать, он уже закричал: Башева!
За ним вперевалку выступала тетя Ентл, его третья жена – крупная, плотная женщина. Вторая жена умерла полтора года назад, во время эпидемии холеры, а первой он лишился, когда ему было лишь шестнадцать. Тетя Ентл – дородная, спокойная, а дядя Иосиф, напротив, тощий и подвижный, как ртуть. Ей больше подходило называться раввиншей, чем ему – раввином. Целая орда красноголовых детей следовала за ней. Я – и сам огненно-рыжий – никогда не видал столько ярко-рыжих голов сразу И в хедере, и в бейт-мидраше, и во дворе – всюду моя рыжая голова была в диковинку. Как были в диковинку имя матери, занятие отца, талант брата. А здесь такое скопище рыжих! Броха, дочь дяди – та была рыжей из рыжих!
Меня повели в огромную кухню, и печь там, как в пекарне. Все, все здесь словно чудо какое-то. Тетя Ентл сама пекла хлеб. В печке стоял еще таганок, на нем чугун, и в нем что-то варилось, кипело. На столе – огромная сахарная голова, мухи так и вились над ней. Непередаваемый аромат свежеиспеченного каравая… Пирожки со сливовой начинкой – неземного, райского вкуса. Тоже тетя испекла. Братья Аврумеле и Самсон увели меня во двор. Там – заросли крапивы, лопухи, одуванчики, пестрый цветочный ковер. И деревья. Потом мы спали на веранде. Я улегся на соломенном матрасе, и казалось – никогда не купался я в такой роскоши. Звенели птичьи голоса. Стрекотали кузнечики, в ушах звенело. Цыплята раз гуливали в траве, а стоило поднять голову – перед глазами билгорайская синагога. За ней поля, а дальше – леса, леса до самого горизонта. Поля – квадраты, треугольники, темно-зеленые, желтые… Всех цветов, любого оттенка. И желал я теперь лишь одного – остаться в Билгорае навсегда.




