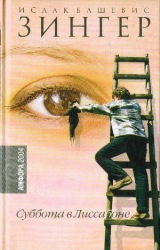
Текст книги "Суббота в Лиссабоне (рассказы)"
Автор книги: Исаак Башевис-Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
РЕКРУТ
Моему брату Израилю Иошуа полагалось сразу после праздника Кущей явиться в Томашов для призыва в армию. Даже в мирное время родителям было бы трудно пережить такое, а уж теперь… Все равно что собственными руками засунуть в печь родное дитя. Можно было, конечно, повредить себе что-нибудь. Польша кишмя кишела симулянтами: выбитые зубы, ампутированные пальцы, проколотая барабанная перепонка, еще что-нибудь в этом же роде. В самом деле, зачем служить царю? Но под влиянием новомодных идей брат счел необходимым явиться на призывной пункт.
Израиль Иошуа рисовал, писал немного, занимался самообразованием. Он жил отдельно и только изредка навещал нас. Он не носил хасидской одежды, одевался в современное платье. Отец стыдился такого сына, считал себя опозоренным. Иногда в ярости выгонял брата из дома. Однако же не хотел, чтобы сын его погиб на фронте.
Мать молилась и плакала, а отец уговаривал брата проделать что-нибудь над собой. «Мало разве увечных среди евреев? – возражал брат. – И горбуны, и хромые, и кривые… Зачем еще?»
Теперь он был маскил, сторонник Гаскалы – Просвещения. Говорил резко, прямо, без околичностей, при этом подшучивал над собой, несмотря на серьезность положения. Трудно было понять, что жеон думает на самом деле, какова его позиция. Он восставал против традиционного еврейского образа жизни. При этом признавал, что в жизни без Бога тоже что-то не так… Не есть ли сама жизнь без Бога – причина войны? Он симпатизировал социалистическому учению и при этом был в достаточной мере критичен, чтобы не принимать социализм целиком – видел, что и у гуманистов с их идеалами не сходятся концы с концами. «Ни этот мир, ни мир грядущий…» – так прокомментировал отец взгляды брата.
По мнению отца, положение зятя в доме у богатого тестя было бы предпочтительнее, чем писание непристойных картин, жизнь на чердаке, чтение еретических книг, равно как и участие в войне. Не еврейское это дело – воевать вместе с гоями. Есть еще время, говорил отец. Еще можно найти богатую невесту из хорошего дома. Но брат не хотел жениться по расчету. Решил так решил. И будь что будет. Хотя я и был еще слишком мал, но все же понимал его: он покинул еврейство и шел собственным путем. Однако для поляков и австрийцев он оставался тал сим же евреем, и потому при переходе границы его, как и других евреев, могли подозревать в шпионаже.
Путешествие в Томашов само по себе было опасно: каково еврею ехать в вагоне, где полно солдат, рекрутов… Пристанет какой-нибудь задира-антисемит, будет дразнить, оскорблять. Дядя царя, великий князь Николай Николаевич, повелел выселить всех евреев из прифронтовой полосы и из деревень, огульно обвинив их в шпионаже в пользу неприятеля. Уже были случаи самовольной расправы с раввинами, повесили даже нескольких евреев в традиционной одежде – якобы за то, что они продают немцам военные секреты.
По Варшаве бродили евреи из провинции, ночуя то в одном бейт-мидраше, то в другом. Их кормили в благотворительных столовых. Вся в слезах, утирая мокрые щеки, мать умоляла брата остаться. Но с другой стороны – если на него кто донесет, то брата заберут в тюрьму как дезертира.
Итак, Израиль Иошуа не переменил решения. Уехал. Обещал написать, как только доберется до Томашова. Но шли дни, проходили недели, а письма все не было. Мрачное это было время. Черные дни. Мать перестала есть, перестала спать, молилась и плакала с утра до вечера. Отец не говорил ни слова. Не было больше ни браков, ни разводов, никто не обращался с иском в раввинский суд. Не на что было жить. Нагрянули холода, хотя подошло лишь время после праздника Кущей. Мы переехали в эту квартиру летом, а теперь оказалось, что наша печь-голландка неисправна и ужасно дымит.
Отец сидел над книгами. Обычное дело. Он исписывал листы бумаги в защиту Раши, в комментариях к которому рабби Тама он нашел противоречия. Пил жидкий горячий чай вприкуску с крошечным кусочком сахара. Погружался в свои размышления. Посылал меня за газетами. С трудом продираясь сквозь газетные штампы, читал о погромах, массовых убийствах, зверских издевательствах. Он спрашивал у меня, что такое мина, пулемет, пистолет, граната… Об этих орудиях убийства рассказывали как об открытиях необычайного значения.
Отец причитал: «Горе нам, горе! Вой-ва-авой! Господь всемогущий, отец наш небесный! Как долго еще? Сколько еще терпеть? Мы уже тонем, тонем… Вода по самую шею…»
Мы не сомневались: что-то случилось с братом. Ведь он мог бы написать, даже если его уже призвали. Его убили в поезде? Или же – упаси Господь! – он покончил с собой?!
Постоянно лил дождь, в воздухе стояла какая-то густая морось. Наши вторые рамы украли прежде, чем мы успели их вставить. Оконные переплеты дребезжали на ветру. Австрия заняла Билгорай и Томашов. Потом снова туда вступили русские войска. Что там с дедом, с бабушкой, со всей семьей? Воевали в Сербии, воевали в Маньчжурии… Но война пришла и в наш дом. Горели синагоги. Грохот артиллерийской канонады немецких батарей был слышен и в Варшаве. Громыхало и днем, и ночью. Поразительно: хасиды в радзиминском бейт-мидраше уже не сидели над Талмудом. Они целыми днями спорили. Симпатии одних были на стороне русских, другие были за немцев. Все равно что гои!
Я постоянно хотел есть. Мать давно уже ничего не готовила. Сын ее пропал в этом грешном, сатанинском мире. Она лежит без сна, слушая грохот канонады, вой ветра, шум дождя. Лишь Всемогущий, лишь сам Господь может, вняв ее горячим молитвам, ее обетам, спасти брата. Но Он оставался глух к ее мольбам. Всемогущий, что сидит там, на Троне Славы, в окружении ангелов, серафимов и херувимов, возвышаясь над миром, – почему же Он допускает, чтобы вешали раввинов? Сколько еще мучений суждено вынести Израилю? Может, Его нет? Только такое оставалось предположить. Но что же там тогда? И как все было сотворено?
Раз как-то ночью, когда все мы дрожали от холода в своих постелях, раздался стук в дверь. Мы перепугались. Мать встала, подошла к двери, спросила:
– Кто там?
– Иошуа.
Она ахнула. Отец зажег лампу, и вошел брат – брат, которого мы уже не чаяли увидеть, – в костюме, но с большой светлой бородой. Он отбрасывал громадную тень, и борода у этой тени выглядела совершенно фантастично. Высокий, импозантный, на голове котелок – он казался старше своих лет. Да так оно и было теперь. Ну и вид у него был – будто богач вернулся из заграничного путешествия! «Погасите свет», – сказал он. Он признался нам, что дезертировал и теперь его расстреляют, если схватят.
Мы сидели в спальне, и брат рассказывал о своих злоключениях. Дедушка, билгорайский раввин, даже поехал с ним в Томашов, пытался освободить его от призыва, но все было напрасно. После долгих колебаний он решился дезертировать. Каким-то образом удалось раздобыть фальшивый паспорт, и теперь его фамилия была Рентнер. Описание внешности владельца паспорта нисколько не походило на его внешность, и он жил в постоянном страхе перед проверкой документов. Он ехал и на поезде, и на открытой платформе, и товарняком добирался, и пешком идти приходилось. Израиль Иошуа не посмел оставаться в Билгорае – боялся, что за ним могут прийти в любой момент. Ему некуда было податься, и потому однажды утром ему пришлось на что-то решиться. Надо было видеть, с какой гордостью он это сказал.
Брат на ногах не стоял от усталости. Отец уступил ему кровать, он сразу свалился и заснул. Родители долго еще шептались. Мы тоже не спали. Когда в воротах звонил колокольчик, все приходили в ужас. Ведь на свете существуют солдаты, патрули, полиция, законы военного времени и много еще всякого…
Утром отец дал брату филактерии, тот намотал на руку ремешки и почти сразу размотал их. Съел горбушку хлеба и ушел, пообещав, что скоро подаст о себе весточку
Казалось, все это нам приснилось. У арнкодеша молча молился отец, склонившись перед занавеской. Мать ходила по комнате взад и вперед. Возвращение брата – поистине чудо, но ведь он все еще в опасности. Спасут ли его молитвы Всевышнему о заступничестве? «Мы должны молить Его о милосердии…» – сказала мать. «Всемогущий поможет нам», – пообещал отец.
За несколько минут до того, как появился брат, сказала мать, ее разбудил стих из Книги Псалмов. Но в этом не было ничего удивительного. Каждую ночь она просыпалась со строчкой из Библии, и только потом определяла, откуда эта строка – из Книги Иезекииля, из Двенадцати Малых Пророков…
После долгих дождей выпал снег. В газетах писали, что немцы отступают, оставляя убитых и раненых. Для нас это были плохие новости: захват немцами Варшавы означал бы свободу для Израиля Иошуа.
Мать вернулась к плите, Мойша – в хедер, ну а я – в Радзиминский бейт-мидраш, читать Гемару. Брат прислал записку откуда-то из убежища, где прятался. Я стал постоянным читателем газет, привыкая постепенно к непривычному для меня «жаргону» [70]70
«Жаргон» – так называли литературный идиш в конце XIX – начале XX вв.
[Закрыть]. Поглощал я все подряд: романы с продолжением, фельетоны, анекдоты. Хотя еврейские газеты писали о немцах как о противниках, то есть безо всякой жалости, далее со злобой, все же они несколько лукавили… Печатали там все подряд, без разбору. Вслед за статьей, восхваляющей хасидизм, Баал-Шема, рабби из Коцка [71]71
Рабби из Коцка – рабби Менахем-Мендл из Коцка (1787–1859), знаменитый хасидский ученый, развивал индивидуалистическую концепцию служения Богу. Его имя в хасидской традиции окружено ореолом.
[Закрыть], следовал рассказ о графине под вуалью, мчащейся в экипаже к возлюбленному. Печатались рассказы, где о евреях говорилось с симпатией, и тут же другие, противоположного толка. Были статьи, вполне согласные с иудаизмом, – и тут же статьи, полные ереси. Мать выхватывала у меня газету и, просматривая ее, обычно говорила: «Все они хотят от нас только денег…»
Пусть так. Но чего же хочет тогда дядя царя, великий князь Николай Николаевич? Или кайзер Вильгельм? Или старый Франц-Иосиф? Или, простите за сравнение, Властитель Вселенной, Творец Неба и Земли, – чего Он хочет? Как может Он равнодушно взирать на солдат, павших на поле боя?
«Господь благоволит ко всем и милосердие Его безгранично… Оно во всяком Его деле и на всех Его творениях…»Так ли это? Или два раза на дню я изрекаю ложь? Надо найти ответ. И сделать это необходимо, пока я не стал взрослым. Скоро уже бар-мицва…
ПУСТЫЕ МЕЧТЫ
После крупных военных успехов Германии стало ясно, что часть Польши вместе с Варшавой теперь под властью немцев, а Билгорай отходит к Австрийской империи. Из Германии приехали в Варшаву два известных раввина – доктор Карлбах и доктор Кон. Поговаривали, что они всех нас хотят сделать немецкими евреями. Нет, конечно, они изучали Талмуд и все такое прочее, однако же говорили по-немецки, водили компанию с немецкими генералами. Ортодоксальный раввин Нахум Лейб Вейнгут искал их расположения – он очень хотел объединения раввинатов Германии и Польши. Но лидеры общины вовсе этого не жаждали… В конце концов, время еще военное. Сейчас сила на стороне немцев, а что если русские пойдут в наступление и возьмут верх? Раввинат решил пока оставаться нейтральным. Тогда Вейнгут обратился к неофициальным раввинам, Тут был у него свой интерес. Он собрал их, пообещал официальный статус и ежемесячное содержание, коль скоро они сделают его своим официальным представителем.
Раньше эти раввины редко у нас появлялись. А теперь от них проходу не было. Стояло лето, а летом наши комнаты выглядели лучше. Прежде каждый из этих раввинов держался особняком, редко когда они заговаривали друг с другом, а теперь образовали то ли ассоциацию, то ли федерацию, избрали президента. Отцу это нравилось. Собирались у нас. Раздавался стук в дверь, входил очередной участник собрания – в атласном лапсердаке и плисовой ермолке. Соседи наши почтительно наблюдали вереницу раввинов, каждый из которых вопрошал, здесь ли живет реб Пинхас-Мендель. Мать накрывала к чаю. Отец отказывался от почетного места за столом в пользу белобородого реб Дана. Комната выглядела торжественно. Синедрион да и только.
Наряду с Торой здесь обсуждались мировые проблемы. Если Богу будет угодно, соглашались все, вейнгутовские планы вполне могут осуществиться. Ну что ж! Но должен же человек и как-то зарабатывать на жизнь. Молодой раввин с черными как смоль волосами и жгучими пронзительными глазами сказал, что не одобряет ни совет, ни руководителей. И что это за альянс такой, куда он годится, если им навязывают в руководители таких непрактичных людей?
– Спаси Господь, почему вы так отзываетесь о них? – спросил отец.
– Такое время, – сказал другой. – Каждый считается только с собой, поступает так, будто он один знает, что правильно, а что нет.
– Но мир еще не обезумел, – возразил отец.
– Злой дух не испугается атласного лапсердака, – сказал раввин с Купецкой.
– Но тогда конец всему! – воскликнул отец. Они спорили и спорили, кричали друг на друга.
Один раввин дергал себя за бороду, другой тер высокий лоб, третий теребил ермолку, четвертый наматывал цицес на указательный палец. Какие они разные, эти раввины, и как по-разному ведут себя! – думал я. Живот вон у того толстого сдавлен поясом, как обручем, рот большой, мясистые мокрые губы, а глаза так и шныряют по сторонам. Он курил сигары, посылал меня за сельтерской. Раз дал брату Мойше несколько монет– на конфеты. Он подбегал к окну, тяжело дыша, – наверно, у него была астма и ему не хватало воздуха.
Другой сидел себе за книжным шкафом, смотрел неотрывно в книгу с насупленным, недовольным видом, будто хотел сказать: все, что вы тут болтаете, пустое, только святые слова важны…
Почтенный немолодой раввин приводил изречения реб Исайи Моската, или Прагера, как он его называл. Никто его не слушал, разве что отец.
Совсем молоденький раввин, с клочковатой бородой и пейсами, как пакля, угрюмо молчал – видимо, был в дурном расположении духа. Наконец достал старый конверт из кармана жилетки, рассмотрел внимательно, написал на нем несколько слов. Видно было, что он скептически относится ко всему происходящему и ему не по себе от того, что он связался с такими болтунами и мечтателями. Я слыхал потом, что у него красавица жена и богатый тесть, который хочет, чтобы зять занимался торговлей. Раввин с Купецкой шептал отцу на ухо: он боится, что ничего не выйдет. Рискованное начинание. И к тому же одна пустая болтовня.
– Почему нет?
– Так нам предназначено – оставаться бедными… Разве не так? – он по-свойски улыбнулся отцу и предложил ему понюшку табаку.
И вот однажды Вейнгут сообщил, что всем этим раввинам предлагается собраться в городской ратуше. Там к ним обратится какой-то важный чиновник с приставкой «фон» перед фамилией. Он хочет сообщить нечто важное. Как? Пойти в ратушу? Говорить с важным шляхтичем? Или далее с немецким бароном?! Отец пришел в ужас. К тому же он видит мало смысла в том, что наденет костюм и пойдет в ратушу. Все равно – у него же борода. Зачем вступать в контакт с немцами? Даже при русском губернаторе он отказался пройти аттестацию. Так зачем это он будет теперь встречаться с немецкими важными чинами? Мать была раздосадована:
– Чего ты боишься? Никто не просит тебя на балу танцевать…
– Я не знаю немецкого… Я боюсь. Я не хочу…
– Что ты там потеряешь? Свою бедность?
Пришел посоветоваться с отцом еще один раввин, такой же перепуганный. Пришел и раввин с Купецкой. Он был настроен еще более скептически, чем отец, и хотел знать отцовское мнение.
– Что если они захотят, чтобы мы крестились?
– Нахум Лейб Вейнгут – хасид.
– Но разве он за них отвечает?
– Что же такого хотят нам сказать немцы?
– Может, нас вышлют из Варшавы, упаси Господь…
В присутствии таких пессимистов отец почувствовал себя увереннее.
– Время военное. Пойти – опасно. Не пойти – тоже опасно.
– Можно больным сказаться…
В конце концов решено было пойти. Накануне отец сходил в баню, намочил и расчесал бороду. Мать отгладила брюки, как могла отчистила пятна на отцовском лапсердаке, поставила заплатки, подштопала, приготовила чистую рубашку. Отец молился и вздыхал все утро. Вопреки обыкновению, не сидел над Талмудом. Выло утро понедельника, отец читал покаянную молитву, произнося нараспев: «Обрати, Господи, ухо Твое ко мне и слушай… Открой глаза Твои и смотри на дела чудовищные, на город нечестивый… Взываю к тебе, Господи, спаси меня и сохрани, если еще не слишком поздно…»
Он надел лапсердак, начищенные до блеска ботинки и отправился на встречу с другими раввинами: они собирались идти в ратушу вместе.
Вечером он рассказал: они вошли в ратушу, там было полно полиции, много важных господ, их ввели в зал, на стене висел портрет кайзера Вильгельма. Немецкие раввины приветствовали их, а потом какой-то военный доктор, из благородных, в форме с эполетами прочитал им лекцию о пользе чистоты. Говорил он по-немецки, но все же они примерно поняли, о чем шла речь. Особенно когда он стал: показывать увеличенные во много раз изображения воши и объяснил, что в ней причина заражения брюшным тифом. Попросив «господ раввинов» распространять среди евреев его слова о пользе чистоты, что находится в полном согласии с учением иудаизма, он откланялся и ушел.
– А еще что? – спросила мать.
– Ничего.
– Ни должностей? Ни денег?
– Ни слова.
– Да уж. О чем надо, они никогда не говорят. Значит, и толковать не о чем, – сказала она.
– Но они же позвали нас в ратушу. Значит, считают за официальных раввинов.
– Ха!
– Ладно. Слава Богу, все позади. По правде сказать, я глаз не сомкнул этой ночью. Думал, не переживу.
В ближайшую субботу отец говорил в синагоге о чистоте. Евреи зевали, качали головами, вздыхали. Если в подвале протекает, откуда там чистота? Как быть, если нет куска мыла, нет сменной рубашки? Как? Но им было известно: отец получил приказание прочесть лекцию о чистоте.
Мать оказалась права. Ничего не изменилось. Вся эта ассоциация раввинов была благополучно забыта вместе с Вейнгутом, вместе с «немцами». Вейнгут бросил эту затею сам. Теперь он издавал журнал «Ортодокс». Ему были нужны журналисты, а не раввины. Брат Израиль Иошуа стал писателем, занятия живописью забросил совершенно. Вейнгут послал за ним. Поинтересовался, нет ли у него небольшого рассказа или очерка из жизни ортодоксальных евреев в каком-нибудь глухом, Богом забытом углу
У брата что-то нашлось, и Вейнгут опубликовал его вещь в своем журнале – небольшой юмористический рассказик про старую деву. Помнится, брат получил аж восемнадцать марок за эту публикацию.
Неофициальные раввины собирались, обсуждали свои трудности, свои проблемы. Думали, им поможет партия ортодоксов. Но партии было не до них, да и отец не очень-то верил в нее. Иностранное слово «ортодокс» не нравилось отцу, не внушало доверия. Да и сама газета… Там писали нечестивые, безбожные журналисты. Может, там и не было ереси. Но язык?! Слишком уж современный. И на таком языке пишут рассказы, публикуют новости! Хорош пример для молодежи!
А тем временем брат начал работать в этой газете. Опубликовал серию рассказов, делал переводы с немецкого. Так началась его писательская карьера.
Я читал эту газету от первой строчки до последней. Читал Достоевского, Бергельсона [72]72
Давид Бергельсон – еврейский писатель. Писал на идиш. В 1949 г. был арестован, 12 августа 1952 г. расстрелян в числе многих других писателей и деятелей еврейской культуры.
[Закрыть]. Читал и детективные истории про Шерлока Холмса и Макса Шпицкопфа. Особенно нравились, разумеется, детективы. Одна картинка навсегда запечатлелась в моей памяти: Макс Шпицкопф и его помощник Фукс, с пистолетами в руках, перед ними ошеломленный бандит… И подпись под рисунком: «Руки вверх, ты, воришка! Мы видим тебя! От нас не уйдешь!» – кричит Шпицкопф. До сих пор наивные эти слова звучат у меня в ушах как музыка.
КНИГА
Как бывает в тяжелое смутное время, казалось, дни тянутся удручающе медленно. Теперь же, оглядываясь назад, видно, как стремительно все происходило. Всю долгую, холодную, суровую зиму мы прожили на мерзлой картошке. Бывало, изредка посчастливится поесть капусты, тушенной на масле из бобов какао. И по субботам нашей едой было «парвэ» – ни мясного, ни молочного. Мы позабыли вкус мяса и рыбы. Старший брат нанялся рабочим – чинить мост через железную дорогу Это было уже при немцах. Домой он пришел совершенно обросший, с длинной бородой и притащил огромный каравай хлеба. Почти плоский, здоровенный, размером прямо с колесо. Такого я никогда больше не видел. Нам его хватило на несколько недель. Работа была трудная и опасная. Больше он туда не вернулся. Теперь он играл в шахматы со своим приятелем и распевал:
Нас было девять братьев вместе со мной,
Мы торговали вином…
Всеобщий хаос и отчаянная безнадежность нашего положения покончили с противостоянием в семье. Но все же отец и брат Израиль Иошуа по-прежнему не разговаривали друг с другом. Брат носил современное платье, но не брил бороду – нечем было заплатить цирюльнику. По утрам он, бывало, накладывал филактерии, но не молился, а просто смотрел в окно.
Поскольку «клиентов» все равно не было, отец с утра пораньше уходил из дому, сидел либо в синагоге, либо в бейт-мидраше, штудировал книги.
И вот однажды, когда отец был дома и писал очередной комментарий, в дом вошел молодой офицер и спросил по-немецки: «Не вы будете Пинхас-Мендель?» Отец ужасно перепугался. Дрожа от страха, подтвердил, что это он и есть.
– Дядя, – сказал молодой человек, – я – сын Исайи…
То бледнея, то краснея от радости, отец сконфуженно приветствовал его. Он обрадовался безмерно. Это был сын его покойного старшего брата. Наш богатый дядя Исайя был хасидом, жил в Галиции, ездил к цадику в Бельцы. Сын же его получил блестящее европейское образование. Будучи офицером австрийской армии, чья часть проходила через Варшаву, он решил навестить родственников. Никогда прежде я не видел никого из отцовской родни. Насколько мой двоюродный брат не походил на наше семейство, было просто поразительно. Высокий, с военной выправкой, одетый, как мне представлялось, прямо по-царски: сапоги со шпорами, на боку сабля – блестящий австрийский офицер, одним еловом. Он выглядел таким же щеголем, как те важные немецкие офицеры, что фланировали по улицам Варшавы. Но то были немцы. Этот же – в мундире с эполетами, с медалями на груди – внук Темерл и реб Самуила. Его предки – и наши предки тоже.
– Ты уверен, что ты еще еврей? – спросил его отец.
– Конечно. Еще бы.
– Ну хорошо. Пусть Всемогущий хранит тебя от соблазнов и вернет туда, где ты сможешь жить, как еврей, – сказал отец. – И всегда помни своих предков.
Он сказал отцу, что денег при себе сейчас у него нет, но он напишет домой и попросит прислать нам. Отец попросил мать накрыть на стол и подать чай. Даже раскрыл было рот насчет того, чтобы купить что-нибудь к чаю, но гостю нашему было некогда. Он поцеловал руку отцу, поклонился матери, щелкнул каблуками, попрощался и ушел. Казалось, все это приснилось нам. Но спустя некоторое время мы получили денежный перевод. Вот об этих деньгах я и хочу рассказать. Матери не было дома, когда пришло извещение о переводе на пятьдесят марок. Отец подозвал меня и спросил:
– Хранить секреты умеешь?
– Еще бы!
Тогда он доверился мне и рассказал: уже очень давно oн мечтает опубликовать книгу – научный труд, посвященный клятвам и обетам. И хотя пятьдесят марок были бы весьма ощутимым подспорьем в нашем бюджете, но почему их надо обязательно истратить целиком и полностью на еду? Он собирается сказать матери, что получил только двадцать марок, а остальные тридцать использовать как первый взнос на издание книги. В свое оправдание отец сказал, что это будет ложь во спасение, ради мира в доме. Ведь если мать узнает правду, разразится скандал. Как мне теперь представляется, отец поступил так, как сделал бы любой писатель на его месте, – все что угодно, лишь бы увидеть книгу опубликованной. По словам отца выходило, что нет ничего более угодного перед очами Господа, чем издание религиозной книги. Это вдохновляет других авторов поддерживать священный огонь Пятикнижия и побуждает их делать то же, что и отец.
Я обещал хранить отцовский секрет, и он взял меня с собой в банк, а потом мы пошли в типографию Якоби, что на Налевках. Никогда прежде мне не приходилось бывать в типографии. Я с любопытством разглядывал ящики с литерами, уже набранные матрицы. Наборщик отбирал литеры, а сам хозяин сидел за конторкой, погрузившись в чтение пыльной газеты. Типичный литвак – и набожный еврей, и выглядит современно: на голове крошечная ермолка, а полуседая борода, похоже, подстрижена. Отец показал ему рукопись и объяснил, чего он хочет. Якоби просмотрел страницу-другую и пожал плечами:
– Кому это надо?
– Что вы такое говорите? Мир еще не погиб. Евреи еще учатся и еще нуждаются в религиозных книгах.
– Их и так уже слишком много. Я набираю книги раввинов, а они даже не приходят, чтобы забрать набор – свои матрицы.
– С Божьей помощью я заплачу и за набор, и за матрицы, – сказал отец. – И хорошо бы сразу уже начали набирать…
– Ладно. Раз хотите, так хотите… Но получите только то, за что заплатите…
Отец дал Якоби тридцать марок, тот обещал набрать тридцать две страницы и прислать отцу гранки.
Двадцать марок очень пригодились дома. Но когда мы их истратили, голод стал ощущаться еще мучительнее. Отец выправил гранки, которые Якоби прислал ему довольно быстро. Но заплатить второй взнос не было никакой возможности, и матрицы остались в типографии – не зря Якоби предупреждал, что так и будет. Отец, как и другие авторы, оказался не в состоянии их выкупить.
Во время эпидемии сыпного тифа летом 1916 года заболел младший брат Мойше. Не было возможности оставить его дома, потому что врачи были обязаны сообщать полиции о каждом тифозном больном. Потом приезжала карета «скорой помощи», забирала больного в госпиталь на Покорной, и было известно, что за этим последует. Придут поляки в белых фартуках, обольют весь дом карболкой и заберут всех, кто в этот момент будет в доме, в карантин, что находится на улице Счастливой. Решено было, что старший брат и отец спрячутся, а мы с матерью позволим увести себя.
И вот они пришли, облили все карболкой, так что в доме стало нечем дышать. Нас увел полицейский, позволив взять кое-какие вещи. Мать несла их в руках. В незнакомом доме, где было много чужих людей, меня и еще одного мальчика остригли наголо. Я наблюдал, как падают на пол мои пейсы и знал, что теперь им конец – я так давно хотел от них избавиться!
– Раздевайся! – приказала мне женщина в форме.
Раздеться перед женщиной? Такая мысль ужаснула меня, и я раздеваться отказался. Но у женщины не было времени. Она сорвала с меня халатик, рубашку, брюки. И я остался так стоять – совершенно обнаженным, таким, каким появился из материнского чрева. Другой мальчик разделся сам. У него была смуглая кожа, а у меня совершенно белая. Мы сидели в одной ванной и хихикали: было очень щекотно, когда эта женщина нас намыливала. В зеркале я себя не узнал. Без пейсов, без хасидской одежды я уже не выглядел евреем.
Меня отвели к матери. На ней была странная, чужая одежда. А голова покрыта платком. Мы поднялись наверх. Там оказалось два помещения: одно для женщин с детьми, другое для мужчин, двери между ними были открыты. В комнатах все кровати, кровати… И наша кровать там была. Крутом мельтешили, бегали дети, а матери окликали своих детей – то на идиш, то по-польски. Из окон было видно кладбище на Генсей. Мать решила не есть ничего, кроме сухого хлеба, но требовать от меня, двенадцатилетнего мальчика, питаться только сухарями на протяжении восьми дней у нее просто духу не хватило. Конечно, в душе она надеялась, что я сам откажусь, по собственной инициативе. Но запретить есть, когда сын на глазах слабеет и чахнет, когда у мальчика уже сухой кашель, а эпидемия тифа продолжается, да и другие беды подстерегают со всех сторон – как можно?
Я съедал две порции, свою и матери, по-видимому, некошерной еды. Мать неодобрительно качала головой. Она надеялась, что я буду хотя бы испытывать отвращение к такой пище. Но разложение началось во мне не сейчас, а гораздо раньше. Я не видел никакой разницы между этой кашей и той, которую варила мать. И ту, и эту кашу поливали маслом из бобов какао. Разве что посуда, в которой здесь готовили, была не кошерной.
Восемь дней, что мы здесь провели, принесли много впечатлений. Мужчины перешептывались, перемигивались с женщинами в форме, непристойно шутили, хихикали. Женщины переодевались прямо на глазах у детей, мальчики и девочки играли вместе, позволяли фривольности, разного рода неприличия. Мать очень ослабела – ведь она ничего не ела, кроме сухарей, на протяжении всех восьми дней карантина. Она была так измождена, что еле могла стоять и почти все время проводила в постели. И, конечно, очень беспокоилась: как там Мойше в больнице? Что с сестрой? Долгое время от нее не было ни единой весточки. Мы знали только, что, спасаясь от германского вторжения, она бежала из Бельгии в Лондон.
Для меня же все происходящее было похоже на настоящий приключенческий роман, на окно в нееврейский мир. Прежде я бывал в студии у брата, и вот еще этот карантин… Теперь хедер, отцовский бейсдин, ешибот, бейт-мидраш окончательно утратили для меня свою притягательность…




