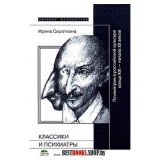
Текст книги "Классики и психиатры"
Автор книги: Ирина Сироткина
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
5Neve M. Medicine and literature // Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. W.F. Bynum and Roy Porter. Vol. 2. London; New York: Routledge, 1993. P. 1530.
6Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963; Gibbs J.P. Norms, Deviance, and Social Control. New York and Oxford: Elsevier, 1981; Conrad P., Schneider J. W. Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness. St. Louis: C.V. Mosby, 1980. Исследования безумия в терминах управления и власти были начаты М. Фуко, И. Гофманом и Т. Жажем: Foucault М. Madness and Civilization. New York: Random House, 1965; Goffman E. Asylums. New York: Anchor Press, 1961; Rothman David. The Discovery of the Asylum. Boston: Little, Brown, 1971; Szasz T.S. The Manufacture of Madness. New York: Harper and Row, 1970.
7Becker G. The Mad Genius Controversy: A Study in the Sociology of Deviance. Beverly Hills and London: Sage, 1978. P. 48.
8Porter R.S. A Social History of Madness: Stories of the Insane. London: Routledge, 1987. P. 65.
9Silvers R.J. The modern artists’ asociability: Constructing a situated moral revolution // Deviance and Respectability: The Social Construction of Moral Meanings / Ed. J.D. Douglas. New York and London: Basic Books, 1970. P. 404–434.
10Becker G. The mad genius controversy // Genius and Eminence. The Social Psychology of Creativity and Exceptional Achievement / Ed. R.S. Albert. Oxford: Pergamon Press, 1983. P. 38. С.Л. Гилман прослеживает связь между медицинскими репрезентациями и расовой и гендерной стигматизацией. См.: Gilman S.L. Disease and Representation: Images of Illness from Madness to AIDS. Ithaca and London: Cornell U.P., 1988; Idem. The Case of Sigmund Freud: Medicine and Identity at the Fin de Sincle. Baltimore: The Johns Hopkins U.P, 1993.
11Schiller F. A Mobius Strip. P. 79–81.
12Clark M.J. The rejection of psychological approach to mental disorder in late nineteenth-century British psychiatry // Madness, Mad-Doctors and Madmen: The Social History of Psychiatry in the Victorian Era / Ed. A. Scull. London: Athlon, 1981. P. 292; Ковалевский П.И. Иоанн Грозный и его душевное состояние // Психиатрические эскизы из истории. Харьков: Зильбер-берг, 1893. Т. 2.
13 Цит. по: Small Н. «In the Guise of Science»: Literature and the rhetoric of nineteenth-century English psychiatry // History of the Human Sciences. 1994. № 1. P. 44. Шайкевич M.O. Психологические черты героев Максима Горького // ВПКАГ. 1904. № 1. С. 55.
14Small Н. «In the Guise of Science». P. 47; Lawrence C. Incommunicable knowledge: Science, technology, and the clinical art in Britain // Journal of Contemporary History. 1985. Vol. 20. P. 503–520.
15Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода // Эстетика и литературная критика. Избранные статьи. М.; Л.: Худож. лит-ра, 1951. С. 338; Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века. 3-е изд. СПб.: Изд-во Стасюлевича, 1911. С. 13–14.
16Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism. The Heritage of Organic Aesthetics. Madison: The University of Wisconsin Press, 1974; Andrew J. Russian Writers and Society in the Second Half of the Nineteenth Century. London: Macmillan, 1982.
17Розанов B.B. Три момента в развитии русской критики [1892] // Соч. М.: Советская Россия, 1990. С. 156.
18Бехтерев В.М. Достоевский и художественная психопатология [1928] // Русская литература. 1962. № 4. С. 139; о литературе как «учебнике» см.: Сикорский И.А. Успехи русского художественного творчества // ВНПМ. 1905. № 4. С. 613.
19Чиж В.Ф. Тургенев как психопатолог. М.: Кушнерев, 1899. С. 104; KellogA.O. [1866], цит. по: Faas Е. Retreat into the Mind: Victorian Poetry and the Rise of Psychiatry. Princeton: Princeton U.P., 1988. P. 31.
20Чиж В.Ф. Плюшкин как тип старческого слабоумия // Врачебная газета. 1902. № 10. С. 217; Муратов В.А., цит. по: Сегалов Т.Е. Болезнь Достоевского [1907] // Научное слово. 1929. № 4. С. 92.
21Rice J.L. Dostoevsky and the Healing Art: An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor: Ardis, 1985; Micale M.S. Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations. Princeton: Princeton U.P., 1995. Обсуждению темы «литература и медицина» целиком посвящен журнал «Literature and medicine» (основан в 1982 году).
22Bajenoff N. Gui de Maupassant et Dostoiewsky: Etude de psychologie сотрагёе. Lyon et Paris: Stork et Masson, 1904. P. 36.
23 Об использовании психиатрии в политических целях см.: Bloch S., Reddaway P. Soviet Psychiatric Abuse: The Shadow over World Psychiatry. London: Victor Gollancz, 1984; Gruzman S. On Soviet Totalitarian Psychiatry. Amsterdam: International Association of the Political Use of Psychiatry, 1989; Medvedev Zh.A., Medvedev R.A. A Question of Madness / Trans, de E. Kadt. London: Macmillan, 1971; PodrabinekA. Punitive Medicine / Trans. A. Lehrman. Ann Arbor: Karoma, 1980; Smith T.C., Oleszczuk T.A. No Asylum: State Psychiatric Repression in the Former USSR. New York: New York U.P., 1996; Soviet Psychiatric Abuse in the Gorbachev Era / Ed. R. van Voren. Amsterdam: International Association of the Political Use of Psychiatry, 1989.
24Федотов Д.Д. Очерки по истории отечественной психиатрии (вторая половина XVIII века и первая половина XIX века). М.: Институт психиатрии, 1957; Юдин Т.И. Очерки истории общественной психиатрии. М.:
Медгиз, 1951.
25Brown J. V. The Professionalization of Russian Psychiatry: 1857–1922. Ph.D. diss.: University of Pennsylvania, 1981; Idem. Heroes and non-heroes: Recurring themes in the historiography of Russian-Soviet psychiatry // Discovering the History of Psychiatry / Ed. M.S. Micale, R.S. Porter. New York and Oxford: Oxford U.P, 1994. P. 297–307; Idem. Revolution and psychosis: The mixing of science and politics in Russian psychiatric medicine, 1905–1913 // The Russian Review. 1987. Vol. 46. P. 283–302; Idem. Professionalization and radicalization: Russian psychiatrists respond to 1905 // Russia’s Missing Middle Class: The Professions in Russian History / Ed. H.D. Balzer. Armonk and London: M.E. Sharpe, 1996. P. 143–167; Idem Psychiatrists and the state in tsarist Russia // Social Control and the State / Ed. S. Cohen, A. Scull. New York: M. Robertson, 1983. P. 267–287; Idem. Social influences on psychiatric theory and practice in Late Imperial Russia // Health and Society in Revolutionary Russia / Ed. S.S. Gross-Solomon, J.F. Hutchinson. Bloomington and Indianapolis: Indiana U.P., 1990. P. 27–44; DixK.S. Madness in Russia, 1775–1864: Official Attitudes and Institutions for Its Care. Ph.D. diss.: University of California, 1977; Joravsky D. Russian Psychology: A Critical History. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell, 1989.
26 Цит. по: Эдельштейн A.O. Сергей Сергеевич Корсаков. М.: Медгиз, 1948. С. 5.
27 См., напр.: Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / Под ред. В.М. Лейбина. М.: Республика, 1994; Эткинд А.М. Эрос невозможного. СПб: Медуза, 1993; Angelini Alberto. La psicoanalisi in Russia: dai precursori agli anni trenta. Napoli: Liguori Editore, 1988; Psychanalyse en Russie / Ed. M. Bertrand. Paris: L’Harmattan, 1992; RiceJ.L. Freud’s Russia: National Identity in the Evolution of Psychoanalysis. New Brunswick: Transaction, 1993; Ljunggren M. The Russian Mephisto: A Study of the Life and Work of Emilii Medtner. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1994; Miller M. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven and London: Yale U.P., 1988.
Глава 1 Гоголь, моралисты и психиатры
Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря.
Н. В. Гоголь
Психиатр до последнего времени мыслил душевное расстройство как явление, чуждое здоровому человеку, явление, обусловленное глубокими анатомическими изменениями инвалидного мозга, в котором он хочет найти подтверждение своим утверждениям и положениям. То законное, с определенной точки зрения, отыскивание во что бы то ни стало физических изменений, которых на самом деле пока нельзя открыть, приводит психиатра к теории функциональных, молекулярных, химических изменений и не позволяет ему изучать явление прежде всего с той стороны, с которой, казалось бы, у него имеются все шансы что-то узнать, со стороны душевных изменений – с психологической.
И.Д. Ермаков1
Современники Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) были поражены тем, что, находясь на вершине своей славы, писатель вдруг распрощался с художественной литературой, стал глубоко религиозным и превратился в проповедника, как им казалось, реакционных идей. «Загадка Гоголя» – по выражению П.А. Вяземского – продолжала мучить его современников до тех пор, пока они не нашли ей объяснение в болезни, которая, как считали многие, сделала блестящего писателя и социального критика чуть ли не религиозным маньяком2. Вынесенное по моральным основаниям суждение о болезни Гоголя не требовало медицинского подтверждения. Но психиатры, во второй половине XIX века все громче заявлявшие о себе, вмешались в дискуссию. Удобный случай представился полвека спустя после смерти Гоголя, в 1902 году. В тот год вышли сразу две его патографии: врачи Н.Н. Баженов и В.Ф. Чиж предложили, как им казалось, авторитетные доказательства тому, что Гоголь страдал душевным расстройством. Медики использовали свой научный арсенал, чтобы подтвердить: искусство, если оно не служит прогрессу, – искусство «больное».
Особенно настойчиво предлагал свои услуги по медицинскому обоснованию общепринятого мнения Чиж. Вся его профессиональная деятельность, включая занятия экспериментальной психологией и психиатрией, была реализацией морального проекта, характерного для девятнадцатого века. Однако с началом нового столетия общественная и литературная оценка Гоголя изменилась. Между 1902 и 1909 годами – датами пятидесятилетия его смерти и столетия рождения – писатель был реабилитирован, а те психиатры, которые неосторожно объявили писателя душевнобольным, сами подверглись критике. Молодое поколение взялось за пересмотр устаревшей морали, а вместе с ней и диагноза, вынесенного ранее писателю.
Николай Васильевич Гоголь
Хотя существует столько же версий жизни Гоголя, сколько биографов, в наиболее распространенной из них жизнь писателя оказывается резко разделенной на две половины. Первая – та, во время которой написаны полные мягкого юмора «Вечера на хуторе близ Диканьки», другие рассказы и повести, комедия «Ревизор» – произведения, принесшие Гоголю заслуженный успех у публики, критику официальных властей и репутацию оппозиционера. Уехав в Италию, Гоголь продолжал работать над «Мертвыми душами», первый том которых появился в 1842 году. Роман, в котором увидели сатиру на провинциальную жизнь помещиков, закрепил за писателем славу борца с общественным злом, врачующего социальные язвы смехом.
В 1840-х годах Гоголь бывал в России только наездами; тем с большим нетерпением российская публика ожидала новых работ писателя. С момента издания первого тома «Мертвых душ» прошло пять лет, но вместо ожидаемого второго тома Гоголь опубликовал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Она произвела эффект разорвавшейся бомбы – настолько ее проповеднический тон резко контрастировал со всем, опубликованным прежде. Гоголь позже оправдывался, что писал книгу для себя, когда был тяжко болен и готовился к смерти. Она содержала собрание писем и эссе на религиозные, политические и исторические темы – духовное завещание писателя, с помощью которого он стремился пробудить спящие души своих читателей. Но публика была поражена новым постным лицом популярного сатирика и жизнелюба. Кроме того, Гоголь брался за наставления в том, в чем у него самого не было никакого опыта, – как губернатор должен управлять губернией, помещик – имением и какой должна быть супружеская жизнь. Только консервативная партия славянофилов приветствовала «Выбранные места» – торжествуя над западниками, которые ранее произвели писателя в общественного деятеля левого толка. Но и те и другие были шокированы подобострастным отношением Гоголя к власти. Распространился слух, что писатель был подкуплен. Подливая масла в огонь общественного возмущения, официальная критика поспешила объявить, что новая книга Гоголя – знак того, что тот полностью одобряет политику Николая I и его правительства. Дошло до заявлений вроде: «Гоголь умер, когда написал свою последнюю работу [“Мертвые души”]. Его физическая смерть гораздо менее важна»3.
Как известно, умиравший от туберкулеза В.Г. Белинский написал Гоголю открытое письмо. Прежде один из самых восторженных поклонников писателя, Белинский в свое время провозгласил Гоголя основателем нового литературного направления – так называемой натуральной школы, – защищая от критики за использование низких сюжетов и неблагородного языка. Яркая и остроумная полемика Белинского как ничто другое способствовала признанию писателя. «Я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса, – писал Белинский Гоголю. – И Вы имели основательную причину хотя бы на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь». Он заявил, что писатель глубоко заблуждался, уповая на религию и не видя, что проблемы, с которыми сталкивается русский народ, политического плана. Одно из «писем» Гоголя, адресованное «русскому землевладельцу», возбудило особый гнев Белинского, и он заклеймил прежнего любимца как «проповедника кнута, апостола невежества, поборника обскурантизма и мракобесия». Он же первым во всеуслышание сказал, что единственное приемлемое объяснение поступка Гоголя – безумие: «Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться. Или – не смею досказать моей мысли…»4
Написанное в австрийском Зальцбрунне, вдали от российской цензуры, письмо Белинского содержало резкую критику царского режима. Его публикация в России была невозможна, а за распространение копий полагалось тюремное наказание: в частности, именно из-за этого Достоевский попал в Сибирь. Тем большим влиянием стали пользоваться в России и автор письма, и его мнение об общественной роли и нравственной миссии искусства. Линия, разделяющая искусство и жизнь, была стерта, и это стало традицией. Эту традицию, – согласно которой одни и те же оценки применяются и к повседневной жизни художника, и к его произведениям, – Исайя Берлин считал специфической для России. Публика равно выражает «похвалу и поругание, любовь и ненависть, восхищение и презрение как по отношению к художественным формам, так и выведенным в них человеческим характерам, чертам личности авторов и содержанию их романов»5. Гоголь стал для этой традиции пробным камнем. Несколько поколений читателей, критиков и историков разбирали и судили его личность с неменьшим пристрастием, чем его произведения. А идея Белинского о «двух Гоголях» – одном, пламенном патриоте, и другом, предавшем свободу и либерализм, – надолго утвердилась в умах читателей.
Сам Гоголь воспринял критику его последней книги как «пощечину» и сравнивал происходящее с тем, как если бы «еще живое тело человека стало предметом анатомического исследования». В частной переписке он признал свои промахи, объясняя это «болезненным состоянием ума», в котором он находился, когда писал «Выбранные места». Но Гоголь не отказался от взглядов, которые там защищал, и не верил, что они могут нанести вред его читателям. Не соглашался он и с тем, что в его взглядах произошли резкие перемены, говоря, что и «Ревизор», и «Мертвые души» были продиктованы теми же стремлениями, – изобразив коррупцию душ, подтолкнуть читателей к самосовершенствованию6. В 1848 году Гоголь осуществил свое давно задуманное паломничество в Святую землю и сделался адептом священника отца Матфея (Матвея Александровича Константиновского). Тому удалось окончательно убедить Гоголя, что светское искусство – грех, за чем последовало сожжение второго тома «Мертвых душ». Отец Матфей благословил писателя поститься, и Гоголь (который прежде был большим любителем хорошо и вкусно поесть) довел себя строгим постом и молитвой до изнеможения.
Врачи, которых вызвали встревожившиеся друзья писателя, не могли прийти к единому мнению и подвергли уже измученного постом Гоголя распространенной в то время «героической медицине» – кровопусканию, клизмам, пиявкам и гипнозу. Владимир Набоков находил описание последних дней жизни Гоголя невыносимо трагичным7. По свидетельству доктора А.П. Тарасенкова, один из врачей стал «магнетизировать» Гоголя.
Когда он положил ему руку на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Н.В. сделал движение и сказал: «оставьте меня». – Поздно вечером был призван Клименков и поразил меня дерзостью своего обращения. Он стал кричать с ним, как с глухим и беспамятным, начал насильно держать его руку, добиваться, что болит… Ясно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он умоляющим голосом сказал: – «оставьте меня!» – отвернулся и спрятал руку. – Клименков советовал кровь пустить или завертывание в мокрые холодные простыни; я предложил отсрочить эти действия до завтрашнего консилиума. – Между тем, в этот же вечер искусным образом, когда больной перевертывался, ему вложили suppositorium из мыла, что также не обошлось без крика и стона8.
На следующий день Гоголя, почти без сознания, погрузили в теплую ванну, поливая голову холодной водой. Затем его уложили в постель, прикрепив к носу дюжину пиявок. Это «лечение», вместе со слабительным и кровопусканием, по признанию Тарасенкова, ускорило конец.
Медицинские описания жизни Гоголя
Смерть Гоголя предоставила всем желающим полную свободу по-своему интерпретировать его жизнь. Уже в некрологах высказывались сомнения в душевном здоровье писателя. М.П. Погодин риторически вопрошал: «Было ль это действие величайшим подвигом христианского самоотвержения… или таился в нем глубоко скрытый плод тончайшего самообольщения, высший дух прелести, или, наконец, здесь действовала одна жестокая душевная болезнь?»9 Чернышевский призвал – до того, как обвинять Гоголя в неискренности и «игрании роли», – детально изучить его жизнь. По его мнению, писатель – честный и искренний человек – в конце жизни действовал «против своей воли», находясь в «странном умопомешательстве». Даже симпатизировавшие Гоголю современники не забывали отметить его «странности». И.С. Тургенев писал о своем посещении писателя незадолго до его смерти: «” Какое ты умное, и странное, и больное существо!” – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем [Щепкиным] и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове… Вся Москва была о нем такого мнения». Тем не менее Тургенев признавался, что в ходе разговора с Гоголем «впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, исчезло»10.
Один из первых биографов Гоголя, украинский писатель и этнограф П.А. Кулиш, также ставил целью исследовать «болезненные изменения» в психике Гоголя. Биография состояла из двух частей: в первой описывались события до 1842 года – даты, якобы критической для писателя. Вторая часть была посвящена позднейшему периоду. Другой биограф, В.И. Шенрок, также полностью разделял нравственные оценки современников. Он писал, что в ходе работы над первым томом «Мертвых душ» Гоголь так утомился, что не был способен вести себя адекватно обстоятельствам. Это, по мнению биографа, и вызвало болезнь – «безумие» или «умственное расстройство». Тем не менее Шенрок не одобрял действий врачей: не способные сопереживать внутреннему миру писателя, они «безжалостно отравили» его последние моменты11.
Одна из первых медицинских версий жизни Гоголя появилась в Италии. В своей скандально известной книге «Гениальность и помешательство» («Genio е follia», 1863) профессор психиатрии из Турина Цезарь Ломброзо (1835–1909) упомянул случай Гоголя как подтверждение того, что между гением и болезнью якобы существует причинная связь. Все недуги и пагубные привычки писателя, согласно Ломброзо, укладывались в его список так называемых стигматов – физических и психологических признаков болезненного, «вырождающегося» типа. По версии психиатра, «после несчастливой любви» Гоголь якобы «предавался в течение многих лет онанизму», а затем «стал знаменитым писателем». На вершине славы им «овладела новая идея»:
Ему показалось, что он изобразил свою страну с таким реализмом и жестокостью, что картина эта может возбудить революцию… Он попробовал бороться с западным либерализмом своими писаниями, но антидот оказался менее привлекательным, чем отрава. Гоголь оставил работу, замкнулся дома и отдался молитве. Он просил святых вымолить для него у Бога прощение за его революционные грехи. Затем он совершил паломничество в Иерусалим, вернулся оттуда несколько утешенным, но когда разразилась революция 1848 года, вновь отдался угрызениям совести. Его преследовало видение триумфа нигилизма; в тревоге, он призывал Святую Русь на борьбу с языческим Западом. <…> В 1852 году великий романист был найден мертвым от истощения, – а точнее, от tabes dorsalis – перед иконами, где в безмолвной молитве он провел свои последние дни12.
Как и его современники в России, антиклерикал Ломброзо не одобрял мистицизма. Первый из врачей, которые обратились к биографии Гоголя, он положил начало «медицинской диагностике» писателя. Его российские коллеги подхватили эту тему.
Первым в нее вступил московский психиатр Николай Николаевич Баженов (1856–1923), хорошо известный не только в медицинских, но и в артистических кругах. Он живо интересовался новыми течениями в искусстве, сам пописывал стихи и был председателем московского Литературно-художественно-го кружка. В декабре 1901 года, накануне пятидесятилетия смерти Гоголя, Баженов произнес речь в годичном собрании Московского общества психиатров и невропатологов; развернутый текст речи был издан отдельной брошюрой. Психиатр утверждал: Гоголь был серьезно болен, но прижизненный диагноз ему был поставлен неправильно и, следовательно, назначено неправильное лечение. Его «следовало лечить иначе и делать как раз обратное тому, что с ним делали, т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению и вместо кровопускания… к вливанию в подкожную клетчатку солевого раствора». Однако лечивших Гоголя докторов следовало извинить, поскольку «в медицине, как и везде, путь к истине идет через ряд ошибок»13. Поскольку с момента смерти Гоголя медицина успела многому научиться, врач претендовал на то, чтобы поставить писателю правильный диагноз.
Баженов не принял заключение главного свидетеля фатальной болезни Гоголя Тарасенкова. Глубоко пораженный тем, что ему привелось увидеть, тот пришел к выводу, что настоящие причины страданий Гоголя не физические, а духовные:
Судя просто по видимым симптомам без внимания ко всем подробностям его жизни – его образу жизни, его убеждению, цели, всей обстановке – конечно, можно отделаться, назвав болезнь typhus, gastro-enteritis, menialsitis, mania religiosa, как это и сделано было. Но, зная даже те подробности, которые только можно собрать у него в доме, трудно решиться произнести такое поверхностное суждение. Здесь было такое множество условий, как бы нарочно сосредоточившихся на его погибели… Духовный элемент был преобладающею причиною его болезни. Пытливый художник не довольствовался воспроизведением жизни России, но домогался разгадать задачу – как посредством поэтических представлений так подействовать на всех, чтобы все изменилось к лучшему. Весь существующий порядок был ему не по сердцу; изучая все встречающееся, он скорбел и надеялся предугадать лучший порядок вещей, лучших людей, лучшую жизнь14.
Тарасенков также сообщал о таком случае из жизни Гоголя. В холодный и темный февральский вечер тот нанял экипаж и поехал на другой конец города к Преображенской психиатрической больнице. У ворот больницы он сошел с саней и стал в раздумье ходить взад и вперед, но потом сел в сани и уехал. Тарасенков, как и некоторые другие знакомые писателя, предположил, что тот хотел увидеть знаменитого пациента больницы, московского юродивого Ивана Яковлевича Корейшу, к которому многие ездили за благословением или советом. Но Баженов считал, что таинственная поездка объяснялась желанием Гоголя проконсультироваться с врачом этого единственного в то время в Москве общественного заведения для душевнобольных. «Вполне возможно, – писал психиатр, – что Гоголь, как это характерно для больных его типа, почуяв грозящую его душевной жизни катастрофу, бросился за помощью туда, но в столь же характерной для его страдания нерешительности остановился перед воротами больницы». Баженов, правда, признавал, что психиатры в те времена не могли оказать помощь при той болезни, которой, по его мнению, страдал Гоголь. Понятие о периодическом психозе (в современной терминологии – маниакально-депрессивный психоз) было введено в психиатрические классификации уже после смерти писателя.
В особенности бесполезным, считал Баженов, было бы для писателя посещение Преображенской больницы, которая «даже тридцать лет спустя после кончины Гоголя» оставалась «не лечебным заведением, а просто – домом умалишенных, на воротах которого по праву могла бы красоваться надпись дан-товского ада» – «оставь надежду всяк, сюда входящий»15.
Хотя Баженов не сомневался в болезни Гоголя, он критиковал Шенрока за то, что тот употребил по отношению к писателю «вульгарный термин» – «сумасшествие». Ведь это слово наводит на мысль о буйстве, бреде, галлюцинациях и нелепых поступках, в которых Гоголь замечен не был. Биографы не-врачи «совершенно не компетентны судить ни о степени душевного недуга Гоголя, ни о том, что вообще следует называть психическим расстройством». Это – прерогатива специалиста, вооруженного знанием современной психиатрии. Не разделял Баженов и мнения о том, что в жизни писателя произошел кризис, считая, что тот всегда придерживался одних и тех же идей и окончательно укрепился в них лишь к концу жизни. Но сами эти идеи психиатр считал изначально противоречивыми: в то время как Гоголь писал прогрессивные произведения, его повседневное поведение не шло далее «умеренного консерватизма». Кроме того, Баженов заявил, что уже в ранние годы Гоголь был «типичным неврастеником с ипохондрическими идеями», страдал от головных болей, приступов тревоги и колебаний настроения и временами совершал странные поступки. Писатель якобы унаследовал от своей матери – «женщины несомненно психопатического темперамента» – предрасположенность к душевной болезни. Вывод был тот, что Гоголь «в течение всей второй половины своей жизни страдал той формой душевной болезни, которая в нашей науке носит название периодического психоза, в форме так называемой периодической меланхолии». Ее приступами и объяснялись периоды повышения религиозности и уменьшения продуктивности писателя16.
Баженов собрал немало документов, которые умело использовал для доказательства своей точки зрения. Часть биографических материалов он получил от Шенрока, автора многотомной компиляции о жизни Гоголя. Кстати, сам Шенрок положительно отозвался о статье Баженова: психиатр, по его мнению, «впервые поставил вопрос на научную почву». Биографа особенно порадовало, что Баженов опроверг мнение Ломброзо о принадлежности Гоголя к «дегенеративному типу», о его «тайном пороке» и о mania religiosa17. В отличие от Ломброзо, Баженов считал, что ни Гоголя, ни других гениальных людей нельзя назвать «вырождающимися», – скорее, они принадлежат к новому, «нарождающемуся», «прогенеративному» типу. В то время, когда работа Баженова была опубликована, его мысли о Гоголе и прогенерации казались спорными и не получили широкой поддержки. Только после гоголевского юбилея у идеи о том, что писатель – это образец «прогенерирующего гения», появилось больше сторонников.
Вскоре после речи Баженова о Гоголе его коллега из Дор-пата (Дерпта, Юрьева, ныне – Тарту, Эстония) Владимир Федорович Чиж (1855–1922) сделал похожий доклад, вышедший позже отдельным изданием. Хотя их политические симпатии были различны, оба психиатра в своих выступлениях преследовали схожие дидактические цели. Чиж считал «долгом русского психиатра объяснить с психиатрической точки зрения жизнь Гоголя, чтобы правильно осветить нравственный облик нашего великого сатирика, дать правильное объяснение тех его поступков, которые вызвали негодование лучших его современников». Только медицина, по его мнению, позволяет понять, «почему наш великий сатирик создал так мало, так рано закончил свою столь необходимую для России деятельность, почему он прожил лучший… период жизни за границей, почему он был вполне чужд общественной деятельности»18. Чиж открыто писал, что его цель – нравственное поучение. Задавшись целью «отделить здоровое от больного в произведениях и деятельности писателя», он пришел к выводу, что Гоголь страдал меланхолией. Написанная им патография Гоголя была тесно связана с тем моральным проектом психиатрии XIX века, образцовым исполнителем которого виделся психиатр.








