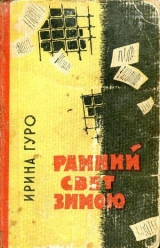
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
РАННЯЯ ВЕСНА
Ничем не отличалась ранняя весна 1901 года от обычных читинских весен. Дул северо-западный острый, пронизывающий ветер хиус, вздымая песок с немощеных улиц, засыпая глаза прохожим. Утром солнце с трудом разгоняло морозный туман…
Но для Минея и его товарищей это была весна больших надежд.
Глубокой ночью иркутский поезд подходил к станции Чита – Дальний вокзал. Повсюду в домах были погашены огни, и только станция в желтом свете фонарей жила своей обычной ночной жизнью: пыхтели паровозы, тонкими голосами вскрикивали маневровые «кукушки», несложной песенкой заливался сигнальный рожок, и составители поездов переговаривались свистками на скудно освещенных запасных путях.
Недалеко от станции Алексей Гонцов снял каморку с окошком, выходящим в степь. С вокзала сюда можно было пробраться незаметно через багажный двор. У Гонцова собрались товарищи, ожидая Минея.
Когда из окна стали видны медленно приближающиеся огни паровоза, друзья прильнули к стеклу.
Как ни напряженно было ожидание, они не услышали стука в дверь. Она распахнулась внезапно, и тотчас ветер ворвался в каморку, высоко взметнув пламя керосиновой лампы.
Миней в сдвинутой на затылок фуражке, в распахнутом пальто стоял на пороге.
Он привез из Иркутска номер ленинской «Искры». Настоящий экземпляр газеты – не переписанный, а живой, подлинный, отпечатанный на папиросной бумаге в заграничной типографии, с великими предосторожностями переправленный через границу.
Читинцы впервые держали в руках «Искру». С волнением склонились головы над тонким листком с мелким шрифтом.
Миней вспомнил ночь в музее и слова Степана Ивановича о ленинском плане создания партии. Вот она, та газета, которая, по мысли Ленина, должна стать коллективным организатором партии рабочего класса! Пусть еще разобщены социал-демократические организации России, не связаны между собой, но у них наконец есть свой центр.
– А у нас все еще молодо-зелено! – с горечью проговорил Миней. – Работаем по-кустарному, за что ни возьмись, всё у нас только в зародыше! Все делают всё, все знают обо всех, а это грозит провалом! Разделить работу между собой – значит, лучше укрыться от охранки. И потом, нищенски мы живем, листовку и то напечатать сами не можем.
Алексей Гонцов горячился:
– Народ у нас золотой! Надо только разъяснить людям, что к чему. Показать на жизненных примерах, с чего богатеют все эти господа гулевичи, подрядчики кузьки и прочие черти-дьяволы! Как ежедневно, ежечасно давят нашего брата!
Иван Иванович, бережно разглаживая морщинистой рукой тонкий газетный лист, задумчиво проговорил:
– Дошла, значит, до нас «Искра». Сюда, за Байкал, на край земли! Видать, отправляли ее, везли, передавали люди, понимающие, как надо вести работу под носом у жандармов и шпиков! Вот и нам бы покрепче закрутить конспирацию! Ты, Миней, бегаешь к нам в мастерские надо не надо, а шпиков и у нас хватает! Каждый задумается: к чему бы это аптекарю на Дальний вокзал по пыли топать заместо прогулки с барышней или там по части выпивки?.. Что, верно я говорю?
Фоменко, как всегда, молчал, думал про себя: «Выходит, мы теперь все вместе драться будем – с питерцами, с Ивановнами, со всеми. Организация!.. Пускай мне скажут, что делать надо. Выполню. Не подведу».
– Хорошо бы за границу поехать, связаться с центром! Получить указания, литературу… – сказал Миней. На минуту в комнате воцарилась тишина. Усердно дымили цигарками. Каждый мысленно измерял путь до далекого центра.
Миней поднялся, с силой распахнул окно. Друзья стояли лицом к лицу с ночью.
На широких землях за Байкалом бушевали весенние ветры. По бескрайним степным просторам мчались они, не разбиваясь о сопки, взлетая на них, шумя по гривам, и в неистовстве скатывались с вершин. Казалось, все мчится вслед за ветрами, не в силах противиться им. Чудилось, холмы сдвинулись с мест, быстро и невнятно шептали что-то вздыбленные пески; махали ветками деревья; низко стелясь и свистя, уползали за ветром сухие, прошлогодние травы… И все туда же, в ту же сторону, мчались темные косматые тучи, и черные клубки перекати-поля казались тучами, скатившимися с небес.
Не было ни минуты покоя ни на земле, ни в воздухе. Только беспокойство, тревога, от которой захватывало дыхание.
Друзья долго стояли рядом, не закрывая окна, подставив ветру разгоряченные головы.
Аптекарь Илья Семенович Городецкий при всей солидности Минея называть его по имени и отчеству считал излишним. Совсем недавно Миней мыл бутылки на черном крыльце аптеки. Хватит того, что обращаются к нему на «вы», при людях называют «господин аптекарский помощник».
Рано утром, еще до открытия аптеки, Городецкий явился торжественный, в новом сюртуке:
– Сегодня, Миней, приезжает наш Мизя! Закроем аптеку на два часа раньше.
– Поздравляю, господин Городецкий! – пискнула маленькая старушка, убиравшая аптеку. – Такой взрослый, ученый сын!
– Да, благодарю вас, действительно не шутка: студент-технолог! – Городецкий поиграл брелоками на цепочке часов, вздохнул и ушел за перегородку.
Толстощекий Миша был когда-то Минею хорошим товарищем. Уезжая, он весь кипел: «Буду выступать на студенческих сходках, выносить протесты! Может быть, вышлют? Ничего страшного, та же Сибирь! Заведу связи, побываю в рабочих кружках!»
«Ну, уж Миша привезет новости, – полагал Миней, – да и литературу, наверное! Из столицы ведь!» Он готов был разделить радость хозяина.
Но Миша, оказавшись в семейном кругу, не спешил покинуть его для конспиративных разговоров. Миней как-то улучил минуту, закидал Мишу вопросами. Тот сделал таинственное лицо, помахал перед собой раздвинутыми пальцами правой руки и сказал: «Я привез… кое-что». Но от дальнейших встреч уклонился.
Эти дни для Минея были полны забот. Надо было ехать за границу. Павел Шергин после ареста и кратковременной «отсидки» уехал учиться в Германию. Он, конечно, поможет. Но где взять деньги на поездку? На свой кошт далеко не уедешь. Организация пока бедна. В конце концов Миней надумал присоединиться к какому-нибудь купчине, собирающемуся на заграничные воды. Их немало у нас в Сибири, скороспелок-богачей. Они всё «жалают», всё щупают: не продается ли и почем штука! Они тоже «хочут в Европы». Присмотреться, как люди живут. И опять же, что продается и почем штука. «Эй, господин коммерсант! Молодой человек по-иностранному разговаривает, повернуться туда-сюда умеет – в заграницах нужен тебе позарез!..»
Однако где взять купчину? Никто из друзей не имел подходящих знакомств.
И тут Миней вспомнил Сонечку Гердрих. К ней стекались все городские новости. А уж кто куда едет и по какой надобности, она, конечно, знала.
…Сонечка полулежала в гамаке, который раскачивал Мизя Городецкий. Вид у него был нарядный. Ярко-зеленая, как майская лужайка, студенческая тужурка с выпуклыми, в виде кочана капусты, погонами. Светлые волосы Мизи были по моде отпущены почти до плеч. Когда гамак подлетал к нему, Мизя нежно смотрел в глаза Сонечки. Минея он встретил без особого восторга.
Зато Сонечка радостно проворковала:
– Здравствуйте, Минейчик! Вы, кажется, друзья детства с Мизей? Вы должны уговорить этого упрямца. Пусть прочтет что-нибудь из новых, самых новых стихов. Ну, Эразм, я прошу, я умоляю!
При обращении «Эразм» Мизя покраснел и бросил испуганный взгляд на Минея. Но тот и глазом не моргнул: Эразм так Эразм!
Мизя ободрился:
– Я прочту, Сонечка!
– Да-да! Пойдемте к папе!
На крытой веранде сидело за выпивкой несколько мужчин. Раскрытый ломберный столик с мелками и запечатанными карточными колодами стоял тут же. Миней узнал пристава городского участка, по фамилии Потеха, и тихого старичка – чиновника городской управы.
Сонечка взбежала на веранду, захлопала в ладоши:
– Господа! Минуточку внимания!
Мизя сделал, насколько это оказалось возможным при его пухлых щеках и цветущем виде, страдальческое лицо. Одной рукой оперся о спинку стула, другой схватился за воротник, словно его душило.
Общество внимательно следило за этими приготовлениями. Голосом, сразу напомнившим отцовский, Мизя проныл:
Чудится саван мне длинный и белый,
Вижу я гроб мой и черную яму.
Ходят неслышно походкой несмелой,
Шторой задернули раму.
Сонечка не знала, всерьез ли это, и на всякий случай прошептала словно про себя: «Прелестно!»
Мизя довольно улыбнулся, отчего на щеках его образовались ямки, но тотчас скривился, продолжая:
В комнате душно и пахнет лекарством,
Входят и смотрят, уходят и ждут.
Шепчут о близости божьего царства
И удивляются счету минут…
Когда декламатор кончил, все некоторое время молчали. Сонечка произнесла задумчиво:
– «Входят и смотрят, уходят и ждут…» В этом что-то есть… Как вы находите, Миней?
– Что-то безусловно есть, – с готовностью отозвался тот.
Мизя посмотрел на него с опаской. Сонечка ничего не заметила. Она обвела взглядом присутствующих, приглашая высказаться. Пристав откашлялся и заметил строго:
– Однако позвольте, каким же это образом: «гроб и черная яма», если человек еще живой?
– Это иносказательно. Для настроения, – пояснил Мизя.
– А… – Потеха вернулся к закуске.
Решили идти в городской сад. По дороге встретили телеграфиста Новоявленского. Сонечка недавно познакомилась с ним на гулянье.
– Митя, пойдемте с нами. Мы в сад, – предложила она. Ей нравилось, когда вокруг нее было много кавалеров, а Митя – интересный!
– Доброе дело! – Митя пошел рядом с Минеем по узкому деревянному тротуару.
Впереди Сонечка выговаривала Городецкому:
– Но, Эразм, вы еще ничего нам не рассказали про Петербург…
– Эразм? – захохотал Митя. – Роттердамский?
– Читинский! – отозвался Миней. – Да ты уж молчи. Он, кажется, литературу привез.
– Неужели?
По аллейке ходили пары: мужчины в твердых соломенных шляпах, овальных и мелких, как солонки; дамы с оборками на подолах. На погоны Городецкого обращали внимание. Он важничал, подымал плечи с кочанами. Потом снял с рукава красного паучка:
– Посмотрите, Софья Францевна: словно гусар в красном ментике!
Она завела глазки:
– «Гусар»! Прелестное сравнение!
Митя подцепил прутиком муравья с длинной травинкой, басом провозгласил:
– А вот типичный городовой! Ну да, черный мундир и все тащит.
Все засмеялись, Мизя надулся.
К вечеру заиграла музыка. От теней, павших на землю, деревья казались гуще, сад глуше. Сонечка вдруг обмякла, загрустила, повисла на руке Минея. Ах, всю жизнь пройти бы так, опираясь на эту сильную руку, чувствуя рядом биение его сердца! Куда он уходит от нее? Ведь вот оно, счастье! Маленькое, верное, лежит у него на горячей ладони. Захоти только – и оно твое! Нет, не хочет… Что такое он там говорит? Вот новости! Теперь ему надо за границу! Ну и пусть едет, целуется со своими стрижеными! Ей теперь все равно.
Сонечка сказала неожиданно чужим, ломким голосом:
– А знаете, я, наверное, выйду за Собачеева. Так он ничего… Только фамилия… – Она жалко улыбнулась.
Миней, ужаснувшись, внезапно вспомнил где-то слышанный разговор о том, что Сонечкин отец проиграл крупную сумму Собачееву. Такую крупную, что ему никак не расплатиться.
Он заглянул Сонечке в лицо и не узнал его: горько-горько сложились губы, а взгляд… как у побитой собаки!
А она умоляюще смотрела на него, словно просила не осуждать ее, и бормотала:
– Но все равно я останусь вашим другом… Ведь мы же будем дружить, да?
– Конечно, Сонечка, – ответил Миней, лишь бы поскорее прекратить разговор.
Но Сонечка уже утешилась, тряхнула кудряшками, заговорила о том, что интересовало Минея.
В Германию, на Вильдунгенские воды, едет лечить почки Дарья Ивановна Тарутина. Она ищет компаньонку. Но даже лучше, если это будет молодой человек. Дарья Ивановна не любит женского общества.
Миней вспомнил недобрый взгляд Ольгиной матери тогда, на почтовой станции.
– Меня-то Дарья Ивановна не возьмет.
– А вот и возьмет! – заверила Сонечка. – Что мне за это будет?
– Ну, не знаю… духи какие-нибудь, ленты и что захотите, – добродушно улыбаясь, пообещал Миней.
Всей компанией проводили Сонечку. Митя отправился к себе на Дальний вокзал. Миней пошел с Городецким.
– Давай, брат, что привез, без долгих сборов. Чего ты ломаешься, право!
Мизя посмотрел растерянно, самодовольство с него как ветром сдуло.
– Пойдем, – неохотно предложил он и зашагал к дому.
Они прошли через переднюю, пропахшую нафталином. Миней давно уже не бывал в этой когда-то очень хорошо знакомой комнате, где стояли стол, изрезанный перочинным ножом, шаткая этажерка с книжками, глобус, испещренный чернильными пятнами, и узкая кровать с подушками, покрытыми кружевной накидкой.
Сейчас половину комнаты занимала низкая широкая тахта со множеством подушек. Над ней висела репродукция с модной картины Штука «Грех» – женщина, обвитая змеей.
Мизя нагнулся, пошарил под столом и вытащил несколько брошюрок. Миней жадно схватил их. Разочарование отразилось на его лице: Элизе Реклю, Ренан…
– Так ведь это все легальные книги! Их в любом магазине купишь.
Городецкий вспыхнул:
– А ты что думал?
У Минея сдвинулись брови:
– Ты вообще-то встречался с кем-нибудь?
– Я учиться поехал, а не встречаться! – с пылающими щеками ответил Мизя. Он взглянул в лицо Минея и испугался: такое презрение прочел на нем.
– Ты, ты… – В волнении Миней на находил слов. – Эразм ты! – сказал он наконец и вышел не попрощавшись.
Из-за границы вернулся Каневский. Он был неузнаваем – оживлен, доброжелателен, С Минеем встретился дружески, будто забыл резкие слова, сказанные ими друг другу в пылу спора.
Миней ждал новой схватки. В Каневском появилось что-то еще более чуждое. Бесконечно далеким казался он от всего, что сейчас занимало Минея и его друзей.
Послушать Каневского пришли к Алексееву не только ссыльные, но и кое-кто из рабочих с железной дороги. Приехавшего просили прочитать реферат. Каневский отказался:
– Время длинных и пламенных речей прошло, в наши дни уместны краткие и деловые выводы.
Однако проговорил целый вечер: о чудесах европейской техники, о культуре западной социал-демократии, о глубине пропасти между активным Западом и пассивным Востоком.
– Созерцательность, великая успокоенность – это так свойственно русскому духу. Я был в германском городке Вердере в пору цветения яблонь. Это восхитительное зрелище! Тысячи людей съезжаются туда на традиционный праздник. Я бродил в толпе, в которой по внешнему виду не отличишь буржуа от портового рабочего, и думал: как мы еще далеки от истинной свободы! Социал-демократические идеи там пробивают себе путь даже в среду прогрессивно мыслящих промышленников, коммерсантов…
– Это позор – то, что вы говорите! – не выдержав, воскликнул Миней, вскакивая с места. – Германия под пятой Гогенцоллернов – по-вашему, предмет для зависти и подражания?!
– Вы фанатически слепы, – бросил ему в ответ Каневский, на миг потеряв самообладание. – Отрицать наше российское бескультурье – просто глупо.
– Нет, не отрицать, а всеми силами бороться с ним! Но не учиться же нам свободолюбию у «мыслящих» немецких буржуа! – возразил Миней.
Каневский, уже овладев собой, заговорил, как бы раздумывая вслух:
– Господа! Я часто бываю за границей. И верьте мне: всякий раз, когда поезд привозит меня на чужую землю, я как будто физически ощущаю очищение и обновление…
– Господин Каневский, – раздался жестковатый голос Гонцова, и все посмотрели на высокого, худощавого человека с туманными, будто хмельными, глазами, – а Россию вы любите?
Каневский наклонил голову в сторону спрашивающего, медленно ответил:
– Я лично считаю предрассудком любовь к месту, где ты родился. Особенно, если имел весьма сомнительное счастье родиться в России.
Протасов вдруг поднялся со стула. Маленький, сутулый, он подошел к сидящему в свободной позе Каневскому и неожиданно громким голосом проговорил:
– Стыдно, милостивый государь, вас слушать! Мы все, кто здесь есть, любим родину, мы за нее готовы… – Он закашлялся, сквозь кашель выдавил из себя: – Мне неприятно находиться в вашем обществе, – и вышел, по-стариковски шаркая ногами.
Митя выскочил вслед за ним. Всю дорогу до своего дома Протасов шел, опираясь на Митину руку, кашлял и негодовал.
Каневский был смущен выходкой старика. Что-то шевельнулось в нем: неужели он сказал лишнее? Почему все так разъярились?
Беседа продолжалась вяло. Присяжный поверенный из Нерчинска, старый знакомый Каневского, рассказывал новости.
– Да, не знали ли вы Корочкина? – спросил нерчинец.
Каневский ответил после маленькой паузы:
– Встречался, кажется…
– Его уже нет в Нерчинске. Ему грозил арест…
– Он скрылся? – быстро спросил Каневский, внезапно краснея.
– Да, его предупредили, и он сумел уехать.
Каневский вздохнул с облегчением и тотчас стал прощаться.
На улице было темно, моросил дождик. Чувство одиночества и бесприютности охватило Каневского. Он обрадовался, когда вдали показался и стал медленно приближаться огонек. Вскоре из мрака бесшумно выплыл фаэтон с фонарем на козлах. Каневский подозвал извозчика. Ему хотелось поскорее очутиться у себя в номерах. Он любил гостиницы, поезда, вокзалы. Долгое пребывание на одном месте его тяготило.
Сейчас неприятный осадок от сообщения присяжного поверенного вызвал у него желание поскорее уехать из города.
Он ясно припомнил все обстоятельства встречи с Новоселовым. Это было в Нерчинске, в помещении управы, где Каневский впервые услышал новую фамилию Новоселова – Корочкин.
Новоселов не узнал его, и Каневский был этому рад. Он не стал о себе напоминать. Как-никак, Новоселов тогда остался на каторге, в то время как Каневского благодаря хлопотам родных перевели на положение ссыльного.
В тот же свой приезд в Нерчинск Каневский в обществе нескольких ссыльных неосторожно обронил: «Вот, где мы, старики, встречаемся! Нынче видел товарища своего по Карийской каторге…»
Зачем он это сказал? Просто из желания щегольнуть прошлым, укрепить свой авторитет? Ну, а если даже и так? Ведь он не хотел повредить Новоселову. Да и с чего он взял, что повредил ему? Это все от нервов. Мало ли кто мог выдать Корочкина-Новоселова!..
На следующее утро Каневский уезжал в Иркутск.
Ночных угрызений как не бывало. Настроение у него было отличное. Его обрадовали неожиданные попутчики: тем же поездом ехали Чураковы – отец и сын.
Каневский уважал Аркадия Николаевича. «Это один из тех прогрессивных капиталистов, которые в ближайшие десятилетия будут решать судьбы России, изменят ее экономику», – думал Каневский.
– В этом году решил взять с собой за границу сына, – любезно сообщил Чураков.
Он не объяснил Каневскому, что́ именно привело его к такому решению. Аркадий Николаевич нашел у сына нелегальную брошюру. Она даже не была спрятана, просто лежала на столе рядом с гимназическим учебником и романом графа Салиаса.
Отец сказал Ипполиту:
– Мне нет дела до того, где ты взял эту дрянь. Но ты не знаешь настоящей жизни, и бредни всяких проходимцев могут сбить тебя с толку.
Аркадий Николаевич повез сына за границу, чтобы показать ему настоящую жизнь.
…Так вот каков, оказывается, его отец, господин с крашеными бакенбардами! Даже внешне он переменился: стал суше, подвижнее и как будто моложе. По утрам делал несколько гимнастических упражнений. К завтраку в вагон-ресторане требовал зелень, овощи и, если не оказывалось, распекал буфетчика.
Чем дальше отъезжали они от Читы, тем больше нравился Ипполиту отец.
– Видишь, вот наша Россия, – говорил Чураков-старший, стоя с сыном у широкого окна вагона. – Вот они, наши убогие деревеньки, худые мосты, топкие дороги. Мы с тобой живем в дикой, некультурной стране, на века отставшей от Европы. И вот мы с тобой и такие же люди, как мы, не жалея сил и средств, главное – средств, вытягиваем нашу старушку родину из нищеты и дикости.
Отец указывал на фабричные трубы, изредка вздымавшиеся на горизонте, и добавлял:
– Все, что есть полезного в государстве, сделано нами, на наши деньги.
В крупных городах отца встречали почтенные господа в пальто с шелковыми отворотами, и он принимал их в купе первого класса, словно у себя в Чите, в правлении Сибирского общества. Они говорили о делах. Гости давали Аркадию Николаевичу разные поручения, касающиеся операций с иностранными фирмами и банками. Иногда отец знакомил посетителей с Ипполитом; тот держался сначала неловко, по-гимназически, но потом усвоил свободную и покровительственную манеру отца.
Они ехали через всю Россию, пересаживались из поезда в поезд, иногда останавливались на несколько дней в гостиницах, и всюду у Чуракова-старшего были дела и знакомые.
Когда переехали границу, то, к удивлению Ипполита, разные господа так же заходили к отцу в купе. Самые важные из них вовсе не говорили о делах, а лишь о погоде и развлечениях. Один предложил поехать на его яхте по Эльбе, посмотреть Саксонскую Швейцарию, а самый значительный из гостей – отец Ипполита был особенно почтителен с ним – рассказывал только о своих тюльпанах, выращиваемых им где-то в Голландии. И после разговоров о пустяках коротко, мимоходом назначались деловые свидания то в отеле «Адлон» в Берлине, то в Марселе, то в Роттердаме.
Ипполит восхищался тем, как свободно передвигались по земле эти люди. Деньги, казалось, отрывали их от земли, на которой они родились и носили их по свету, как ветер носит перекати-поле. И сами деньги уже не были просто деньгами: рублями, франками или фунтами стерлингов, а становились акциями, векселями и другими бумагами, принятыми к обращению повсюду в цивилизованном мире.
И хотя в разговоре с отцом все эти люди говорили много о России, о том, как она велика, как сильна, но выходило так, что мощь ее – это мощь Аркадия Николаевича Чуракова и других таких же, как он.
Как-то, присутствуя при особо доверительном разговоре отца с каким-то старым его знакомым, человеком русским по фамилии, но совершенным иностранцем по манерам и одежде, Ипполит услышал:
– Участие в управлении государством людей, просвещенных и опытных в делах промышленности и торговли, только укрепило бы самодержавие, – говорил отец, постукивая указательным пальцем по крышке портсигара.
И Ипполит понял, что отец его – передовой человек.
В Берлине Чураковы каждое утро ездили верхом по аллеям Тиргартена. Это было в моде, и во время таких прогулок устраивались деловые встречи. Отец в желтой жокейской шапочке и в крагах, на взгляд Ипполита, выглядел несколько комично, но Аркадий Николаевич относился к верховой езде так же серьезно, как к биржевым операциям, и старательно подпрыгивал в неудобном седле.
Однажды, следуя за отцом, Ипполит заметил молодого человека, расположившегося с мольбертом в одном из живописных уголков парка. Летними утрами в парке много художников. Ипполит не рассмотрел хорошенько лица, но весь облик молодого человека показался ему знакомым. Ипполиту почудилось, что за мольбертом сидел Миней, аптекарский помощник из Читы.
Конечно, это только почудилось. Как мог Миней попасть сюда, в Тиргартен? Воспоминания о Минее были неприятны Ипполиту. Он стал думать о другом.
На одной из лучших берлинских улиц, на Курфюрстендамм – чудесный кабачок «Цыганский погреб». Удивительно звучат скрипки у этих румын! Действительно рыдают! Лакей приносит шампанское и жареный миндаль. Белокурая дама в платье, похожем на змеиную чешую, поет между столиками. Отец посылает ей с лакеем двадцать марок на тарелочке… Да, это настоящая жизнь!










