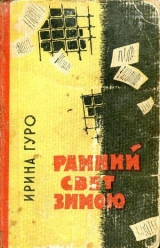
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Ему припомнилась последняя его поездка в Томск, разговоры, связанные с этой прокламацией, с трудностями ее печатания типографским способом.
И радость омрачилась: там, на воле, шла напряженная боевая работа, а он был оторван от нее, обречен на бездействие. О, черт возьми! Как же вырваться отсюда? Даже с друзьями он не может связаться. Сестра тут, рядом с ним, в женском корпусе. И нет никого, кому бы можно было доверить письмо к ней или товарищам…
– А как думаешь, зачем эту картину на заплотах расклеили? – спросил Миней.
– Да чтоб народ посмешить, – быстро ответил надзиратель.
– Что ж тут смешного? Народ мучается, а баре у него на шее сидят да батогами подгоняют.
– Ну, а зачем же? – в свою очередь спросил надзиратель, уставившись на Минея кошачьими глазами.
– Я думаю – затем, чтобы народ понял, кто враг ему.
Барбаросса не ответил.
У надзирателя было длинное имя: Пантелеймон. Происходил он из казачьего сословия. В прошлом году все имущество его продали с торгов: дом, скот, домашнюю утварь, «а всего на 142 рубля 45 с половиной копеек», – добавлял Барбаросса не без гордости.
– За что же тебя так обидели? – осведомился Миней.
– Пошто обидели? Обида это была бы, если бы меня одного, а то у нас, почитай, десятка два казаков всего лишили.
– А кто лишил?
– Известно кто. Кабинет.
История была путаная. С трудом удалось дознаться, что Пантелеймон и его земляки задолжали Газимурским золотым промыслам, принадлежащим кабинету. Долг же образовался «за невыполнение обязательств по поставке сена и отработке торфов».
– Так ведь дело-то какое! – недоуменно разводя руками, пояснял надзиратель. – Мы сроду обязательств этих на свою шею не брали; то отцы, а может, еще деды в эту петлю влезли. Так ведь он – кабинет, ему не разъяснишь, его не разжалобишь…
Миней принялся объяснять, что такое «кабинет его императорского величества», что означает «личная собственность царской фамилии», на что идут денежки трудящихся казаков, рассказывал о роскоши царского двора…
Пантелеймон слушал с любопытством, как сказку.
Быть может, Пантелеймон согласился бы выполнить поручение Минея, передал бы его записку… А кому? Доверить случайному человеку связь с кем-либо из товарищей?..
Однажды в неурочное время открылась дверь камеры.
– В контору, – объявил надзиратель с вечно опухшей щекой и длинными темными коридорами вывел Минея во двор.
Миней зажмурился – таким нестерпимым сиянием плеснуло в глаза солнце. Сладко, как в хмелю, закружилась голова. Земля поплыла под ногами: «Значит, лето уже в разгаре. А я, и не заметил, как оно подошло…»
Он не знал, зачем его ведут в контору, и не задумался над этим: нельзя было ожидать какого-нибудь решительного изменения своей судьбы. Миней радовался тому, что видит солнце, что ощущает его тепло.
…Что такое он там блеет, этот старый неопрятный бородач в мундире тюремного ведомства? О чем он говорит?..
– Его высокопревосходительством… разрешено свидание с невестой…
К кому это относится? К нему? К Минею? Какая невеста?..
Но заведенная машина действует, как ей положено. Надзиратель, кряхтя, опускается на табурет, а с другого табурета в глубине комнаты подымается… Любовь Андреевна Пашкова.
Черт возьми! Вот это здорово! Кто же это придумал? Наверное, все вместе. Впрочем, гадать не время, нельзя терять ни минуты! Как же ему обратиться к «невесте»?
– Дорогая Люба, – произносит он сдавленным голосом, – вы пришли…
Хотя и без этих слов ясно, что она пришла.
Господи! Пашкова бледнеет, вот-вот она грохнется на пол или, чего доброго, заплачет…
– Успокойтесь, Люба, вы видите, я жив, здоров…
Надзиратель показывает, где им надлежит занять места. Они садятся друг против друга, как в игре в «черное и белое, да и нет не говорить», без которой не обходится ни одна вечеринка.
Лицо у Пашковой совершенно детское, губы полуоткрыты – так и кажется, что сейчас-сна начнет игру положенными словами: «Барыня прислала сто рублей…»
И она в самом деле произносит нечто подобное:
– Вся наша семья прислала меня, все родные вам кланяются…
Прекрасно, превосходно! Миней молча кивает головой, он не может произнести ни звука от волнения. Это тем более прекрасно, что Любовь Андреевна совершенно одинока в Забайкалье, родные ее далеко, в России, и им нет ровно никакого дела до него, Минея.
Следовательно, «семья» и «родные» – это товарищи. «Дальше, дальше! – молят его глаза. – Вы видите, я вас отлично понимаю».
– У нас все хорошо. Дядя Гриша беспокоится о вашем здоровье. Он советовался со своим доктором. Доктор считает, что болезнь ваша кратковременна. Он даже уверен в этом. Только следите за собой.
«Дядя Гриша» – Григорий Леонтьевич Алексеев. «Со своим доктором»? Это с губернатором говорил Алексеев – вот с кем!
– Да-да, здоровье мое неважное… – Миней делает жалобную гримасу и косится на тюремщика. Старичок дремлет, папироса дрожит в его руке, рассыпая пепел на колени. – Впрочем, сейчас я чувствую себя лучше. Что нового в семье?
– Дети… – шепчет Любовь Андреевна.
– Что?! Ах, дети… да-да, как дети?
– Подрастают… Уже разбирают печатный букварь…
– Что?.. Нет, не может быть! – Он невольно произносит эти слова вслух, смутив Любовь Андреевну.
С растерянным видом она твердит:
– Это именно так. Уверяю вас.
Значит, наладили типографию! Ух, молодцы! Он набирает воздуха в легкие, выдыхает его с шумом и говорит проникновенно:
– Дорогая Люба! Как я рад узнать, что детки подрастают, что они уже читают букварь! Я уверен, что моя болезнь тоже скоро пройдет. Я очень осторожен, избегаю сквозняков. Пусть дядя не беспокоится!
Любовь Андреевна обрадованно глядит на него. Ну конечно, она боялась спутать или забыть заученное. Теперь она сообщает уже спокойно, что в их школьной библиотеке много новых книг…
При слове «книг» старичок открывает один глаз, встрепенувшись, как строевой конь при звуке трубы.
– …духовного содержания, – поспешно добавляет Пашкова. – «Святое семейство» и другие такие же…
Все ясно! «Святое семейство» Маркса. Получили пополнение марксистской литературы.
– А как вы, дорогая Люба? Как вы сами живете? – спрашивает Миней, потому что старичок как раз в эту минуту открывает оба глаза.
– У меня со зрением лучше, я вижу теперь хорошо, – шепчет Люба и заливается румянцем.
– Я сразу это заметил, – говорит он.
Удивительно неблагодарное существо – человек! Пятнадцать минут назад он ничего не знал о товарищах, о работе, о своем положении. Сейчас он знает почти все, что его интересовало, и все же ему этого мало… Ему хотелось бы выяснить, как работают группы на местах, но Пашкова не могла быть в курсе всех дел. Дети, конечно, растут, но не так уж быстро.
– Нам очень не хватает вас! – тихо роняет Пашкова – кажется, уже от себя.
– Прра-шу заканчивать! – провозглашает тюремщик.
– Разрешите мне поцеловать жениха, – неожиданно громко, чужим, деревянным голосом произносит Пашкова и, не дожидаясь ответа, бросается к Минею.
Ее руки обвиваются вокруг его шеи, и он чувствует, как тонкие бумажные листки выскальзывают из пальцев девушки и падают за воротник его рубашки. Миней незаметно шевелит лопатками, и листки плотно прижимаются к спине.
– Пожалуйте, барышня! – Надзиратель хочет увести Любу.
– Дорогая Люба! – говорит Миней растроганно. – Я бесконечно вам благодарен за то, что вы меня навестили. Низкий поклон всем родственникам… Дяде! До свидания, дорогая Любочка…
Но ее уже нет!
Миней и надзиратель опять идут через двор. Какой день, какое солнце! В камере Миней осторожно извлекает листки: мелкие строки бегут по тонкой бумаге. Сделано на мимеографе.
«Руководить движением должно возможно меньшее число возможно более однородных групп, искушенных опытом профессиональных революционеров. Участвовать в движении должно возможно большее число возможно более разнообразных и разнородных групп из самых различных слоев пролетариата (и других классов народа)».
Это было только что доставленное из-за границы ленинское «Письмо к товарищу о наших организационных задачах».
Глава IX
СТИХИ В АЛЬБОМ
Билибин снова перечитывал:
Летнее утро прекрасно и тихо,
Что-то лепечет прозрачный родник…
Впрочем, теперь совершенно неважно, что именно он лепечет: стихотворение из двенадцати строчек – видимо, собственного сочинения – хитроумный молодой человек написал печатными буквами.
Из Иркутска сообщали:
С о в е р ш е н н о с е к р е т н о.
Его превосходительству
прокурору Читинского окружного суда
Возвращая Вашему Превосходительству книгу альбомной формы, заключающую в себе разного рода записи, список стихов и афоризмы, имеем честь уведомить Ваше Превосходительство, что исполненное печатными буквами на странице седьмой стихотворение: «Летнее утро прекрасно и тихо») – подвергалось нами рассмотрению на предмет установления идентичности почерка руки, исполнившей указанное стихотворение, с почерком, коим исполнены воззвания преступного содержания под заглавием: «Долой самодержавие!» и «Рабочие всех стран, соединяйтесь!» При этом, путем сличения характера написания обоих документов, не найдено оснований заключить, что упомянутое стихотворение «Летнее утро…» и преступного содержания воззвание: «Долой самодержавие!» и «Рабочие всех стран, соединяйтесь!» – выполнены одной и той же рукой…»
Черт бы побрал этого Паса с его альбомом! Уже собраны и отправлены в Иркутск другие образцы почерка арестованного: нашли школьные тетради, конспекты по ботанике. Не почерк странно изменчив. Где гарантия, что экспертиза опять не увильнет от прямого ответа? А дело теряет остроту, своевременность.
– Введите арестованного! Прошу сесть вон там.
Он совсем неплохо выглядит: ну конечно, гимнастика, «тренировка тела и воли»…
– Однако вы дальновидны. Даже стихотворение в альбом барышне Гердрих написали, скрывая особенности почерка. Чем объяснить такую предосторожность, а?
Билибин прищурился. Плюшевый альбом лежал перед ним на столе.
Миней с готовностью ответил:
– Объясняется это обстоятельство чрезвычайно просто: у меня отвратительный почерк. Царапаю – точь-в-точь курица лапой.
– Оставим сравнения, – холодно заметил Билибин. – Не продемонстрируете ли вы свой «отвратительный почерк»? Вот здесь, прошу вас, эти же строки…
– Извольте. – Арестованный принял из рук ротмистра чистый лист и уселся поудобнее. – Итак, «Летнее утро», несмотря ни на что, «прекрасно и тихо», – громко приговаривал он, скрипя пером.
– Пишите молча, – приказал Билибин.
В короткие мгновения, пока Миней переписывал пресловутые стихи, ему показалось, что он сочинил их в какой-то другой жизни… быть может, в детстве.
Билибин взял у Минея исписанный лист.
Что такое?! Перед ним были невероятные каракули. Строчки лезли одна на другую, буквы расползались в разные стороны, как потревоженные муравьи. Знаки препинания висели где-то совершенно отдельно от текста. Все вместе производило впечатление письма сумасшедшего.
– Шутить изволите? – кисло спросил ротмистр, позвонив в колокольчик.
Миней кротко ответил:
– Я же объяснил вам, что у меня ужасный почерк.
Вернувшись с допроса, Миней не принялся за обычные занятия: следовало подытожить свои наблюдения и сделать выводы. В поведении Билибина не было того напора, который он проявлял при первых допросах. Интерес к «делу», видимо, падал… Обещания губернатора Алексееву, несомненно, были продиктованы этим. Однако такое неопределенное положение могло протянуться долго. А время требовало деятельности. Значит, всеми силами надо было ускорить развязку либо суд с явно недостаточными уликами, либо решение дела в административном порядке. Да-да, всеми силами ускорить развязку!.
В распоряжении арестанта мало средств повлиять на свою судьбу. Но все же они есть.
Миней пишет прошения прокурору окружного суда, начальнику Читинского отделения Иркутского жандармского управления, губернатору:
«Ввиду того, что я и моя сестра содержимся под стражей без всяких доказательств нашей вины, в знак протеста против бесчеловечного произвола следственных властей объявляю голодовку!»
Листы бумаги с тюремным штампом сверху: «Голодовка», поплыли по рукам, закружились по канцеляриям присутственных мест, украсились другими штампами, испещрились номерами входящими и исходящими.
«Арестант отказался принимать пищу», – сообщал в суточном рапорте дежурный по тюрьме. И завтра и послезавтра снова короткая строка: «Не принимает пищи».
…На четвертые сутки есть уже не хотелось. Не тянуло и курить. Даже от слабой затяжки подымалась тошнота.
Когда в камеру вбежал прокурор, арестант не поднялся с койки. Шел восьмой день голодовки. Странное оцепенение овладело всем телом. Хотелось изменить положение, вытянуть ноги, разметать руки, но они не слушались, словно скованные.
– Голодаете? – спрашивает прокурор и зачем-то вынимает записную книжку.
«А вы?» – хочется спросить Минею – такое худое и изможденное у прокурора лицо.
– Следственными властями удовлетворено ваше ходатайство: ваша сестра освобождена.
Арестант закрывает глаза.
– Я предлагаю вам голодовку снять! – Прокурор почти кричит, полагая, что его не слышат.
Но арестант молчит.
Тюрьма никогда не спит. Всю ночь мерные шаги дежурных прострачивают коридоры. Всю ночь вертится железная заслонка «глазка».
Ты не видишь за дверью человека: один только глаз, который кажется тебе самостоятельным существом. Он ворочается, ощупывает тебя, отвратительный, как круглый жирный паук. Почти физически ощущаешь на себе его прикосновение.
Тюремная ночь полна звуков: снизу, сверху, по сторонам позванивание ключей, сонное бормотание, шепот… А может быть, так кажется оттого, что все время напряженно прислушиваешься. Может быть, просто звенит в ушах? Или капает где-то вода из бака?
Кружится голова. Словно на карусели… Неожиданно возникает давнее воспоминание. Мороз и солнце, вечное читинское солнце. Только в ту пору оно, кажется, было особенным, незакатным, все дни были озарены им. Миней с Таней – на ярмарке. На первые заработанные деньги он покупает билеты на карусель. Сам садится впереди на белого коня со слоновыми ногами. Таня забирается в колясочку, запряженную лебедем. Пое-хали!
Музыка играет заунывный вальс. Все быстрее, быстрее кружится карусель!.. Руки вцепились в конскую гриву из пакли, ноги судорожно сжимают деревянные бока. Яркие краски рынка сливаются в огненный круг.
Он вдруг разламывается… Вот и все. Музыка смолкает.
– Страшно! – говорит, счастливо вздыхая, Таня.
– Может, еще разок? – спрашивает щедрый брат.
И опять кружится карусель. Сипло кричит высокий человек в поддевке: зазывает господ, желающих покататься…
– Кто идет? Пароль! – несется с вышки.
Звенят ключи, шуршат шаги… И снова переворачиваются песочные часы и наступает новый день, такой же, как вчерашний.
Губернатор вызвал ротмистра Билибина:
– В обществе складывается неблагоприятное мнение о произведенных арестах, недостаточно, видимо, аргументированных.
Билибин вспыхнул:
– То есть как это недостаточно?! У арестованных найдены заграничные листки возмутительного характера!
Но бестия губернатор наносит ему новый чувствительный удар.
– Справедливо, но вот… – губернатор протягивает ротмистру хорошо знакомый ему лист, – изложение содержания допроса этой проклятой портнихи Татьяны.
Допрос учинялся прокурором, ротмистр знает его наизусть:
«…Расспрошенная арестованная объяснила, что найденные листки ни ей, ни ее брату не принадлежат и что ей неизвестно, кем они могли быть оставлены в их доме и спрятаны в зеркале. А также высказала предположение, что указанные листки могли быть подброшены самой же полицией…»
– Видите, – жужжит губернатор, как оса, готовая укусить, – мы-то с вами знаем, что листки были. Но, с другой стороны, обнаружили их только при повторном обыске, в отсутствие арестованных… А понятой распространяет слух, что его угрозами заставили подписать протокол обыска. Господин прокурор обращает внимание на незаконное привлечение в качестве второго понятого сотрудника полиции. Следовательно, единственное основание рушится.
– А поездка за границу? Совпадение во времени? Разве…
Губернатор невежливо перебивает ротмистра:
– Поездка за границу сама по себе не есть факт криминального порядка. Она совершалась в установленной законом форме, с моего разрешения. Что касается всяких совпадений, то здесь начинается область догадок и умозаключений. Общественное же мнение зиждется на конкретных фактах…
«Провались ты со своим обществом и его мнением! – чуть вслух не произнес Билибин. – Кто его составляет, это общественное мнение?! Политический ссыльный Алексеев, неизвестно почему ставший заметной персоной в городе? Нет, впрочем, известно почему! Потому что он женат на вашей племяннице, господин губернатор! Ну, я до вас доберусь!»
– Надо считаться с тем, – назидательно продолжал губернатор, – что у всех еще в памяти Карийский инцидент[23]23
Имеется в виду так называемая «карийская трагедия» – спровоцированное жандармами групповое самоубийство политических на Карийской каторге, получившее широкую огласку за пределами Забайкалья.
[Закрыть], наделавший столько шуму в обществе.
* * *
– Без разрешения полиции… э… никуда из города не отлучаться… В установленные сроки… э… являться в полицию на поверку… При перемене квартиры ставить в известность… э… полицию… – гнусаво тянул тюремный чиновник.
– Может быть, разбить палатку во дворе… э… полицейского участка и проживать в оной… э… для удобства надзора? – спросил Миней, но, заметив недоуменный взгляд подслеповатого чиновника, отчетливо проговорил: – Все понятно. Я прочел и расписался. Что? Я свободен? Очень приятно. Но я должен собрать свои книги. Я не намерен их дарить тюремной администрации.
Чиновник, только что объявивший Минею распоряжение губернатора, сдвигает золотые очки на лоб и говорит укоризненно:
– Молодой человек! На вашем месте я радовался бы, что оставляю… э… место заключения, а не думал бы о книгах, которые, собственно, и послужили причиной вашего ареста!
Пантелеймон помог Минею упаковать его имущество – две увесистые связки. Толстые тома и тоненькие брошюрки – верные друзья, дорогие спутники долгих тюремных дней.
Собираясь, Миней говорил:
– Ты, Пантелеймон, помогай арестантам, таким, как я. Политическим.
Тот ответил просто:
– Это нельзя. За это – вот… – Он показал на пальцах решетку.
– Тогда уходи с этого места.
– А куда же я денусь?
– Куда хочешь, но обязательно уходи. Работай. Честным трудом живи.
– Я ж не ворую, – угрюмо сказал Пантелеймон.
– Хуже, чем воруешь… Помни все, что я тебе говорил. Жизнь переменится. Вся шваль эта тюремная на фонарях висеть будет, и ты с ними!
– А меня за что ж? Я человек подневольный.
– Там разбирать некогда будет! В общем, я тебя предупредил.
– Ты скажи хоть, где тебя искать-то?
– К чему искать меня? Ты себя ищи.
Еще очень рано. По дороге ползет телега. Две бабы ругаются у бревенчатого сруба колодца. Возле питейного заведения лежит лицом в песок пьяный.
В воздухе что-то зимнее, студеное, не мороз, но предчувствие его. И сопки, холодные, застывшие, вот-вот оденутся в серебро инея. «Радоваться, что покидаю тюрьму!» Что вы знаете о радости и свободе, господин чиновник в золотых очках!
Книги кажутся страшно тяжелыми – так ослабел Миней. Он присаживается на ступеньку ближайшего крыльца, вытирает платком потный лоб. Редкие прохожие не обращают на него ровно никакого внимания, но Минею кажется, что они с удивлением глядят на него: детина – косая сажень в плечах, а отдыхает, словно старичок…
Посреди знакомой улочки мальчишки пускают бумажного змея. Среди них и внук соседа, Мартьяна Мартьяновича. Ишь, как подрос!
Он подзывает мальчика:
– Ты что, не узнал меня?
Мальчик заулыбался:
– Не признал сразу! Выпустили?
– Ты вот что: сбегай к нашим и вызови сюда Татьяну Михайловну. Только потихоньку, чтоб никто не слышал.
Мальчик во весь дух помчался к низенькому домику с широкой скамейкой у ворот.
Миней пошарил по карманам – курить было нечего. Что, если сестры нет дома? Ему не хотелось свалиться как снег на голову, пусть Таня подготовит маму. Но Таня оказалась дома.
Брат и сестра обнялись.
– Ну как, Танюшка, получила «боевое крещение»? Похудела ты, брат. Чего же ты плачешь? Мама здорова?
– Здорова. Только уж убивалась, исплакалась, постарела. Знаешь, как она сильно все переживает!
– Мама есть мама… Улыбнись, Танюсик, все хорошо!
Таня уже смеется:
– Ты тоже выглядишь кощеем бессмертным.
– Я и есть бессмертный. Ну иди, предупреди наших.
– Иду. Знаешь, я видела Гонцова. Он уехал в Иркутск. Павел там теперь. От Любарева тебе письмо из Петербурга. Есть новые документы. Впрочем, я тебе потом подробно… Тебя под надзор, конечно?
– Безусловно. Ну, марш!
– Иду!.. Слушай, Кеша-то какой глупый! Ведь, знаешь, он все время у тюремных ворот слонялся…
– Да, ума не видно. Что ж, он меня у ворот встретить думал, что ли?
– Тебя?! Ах, да! Не знаю, вероятно. Ну, я бегу!
– Не надо, – тихо говорит брат.
Он видит, как мать бежит ему навстречу по улице.
Миней никогда не видел ее такой. Она всегда двигалась плавно, степенно, а сейчас спешила к нему изо всех сил, простоволосая, исхудавшая, путаясь в длинной черной юбке.
Миней подхватил мать, устало склонившуюся к нему. Конечно, нелегкая у нее жизнь. Ну, тут уж ничего не поделаешь!
…Околоточный надзиратель пришел через пять дней под вечер. Уселся пить чай. Поговорил про погоду: ночью ударил мороз, по Чите-реке идет шуга[24]24
Шуга – мелкий лед.
[Закрыть]. Если нынче еще похолодает, завтра будут переходить на Остров по льду.
Мать вызвала Минея на кухню, озабоченным шепотом спросила:
– Трешки хватит?
Сын засмеялся, разжал ее маленький кулачок, вынул смятую бумажку и сунул в карман материнского передника:
– Деньги тебе самой нужны.
Околоточный подождал, поговорил еще немного, повздыхал, затем вдруг строго спросил Минея:
– Почему не являетесь на отметку?
– Я вам нужен, так вы ко мне и ходите. Вот, если бы вы у меня под надзором были, тогда бы я к вам бегал…
– Доложу-с, – сказал сухо околоточный и удалился, волоча шашку.
– Зря трешку не дали, – сказала мать.
Еще через несколько дней явился помощник пристава. Таня не пустила его дальше порога:
– Брат уехал рыбу ловить.
– Помилуйте, барышня, по реке на телегах ездят. Какая же рыба?
– А я почем знаю! – ответила Таня.
В участке всполошились: в течение трех дней поднадзорный домой не являлся.
– Может, запил? – вкрадчиво спрашивал пристав. – Вы не стесняйтесь, скажите. Тут ничего такого нет.
– Запил! – охотно согласилась Таня, фыркнула и убежала за перегородку.
– Вы, мамаша, как располагаете? Может, по пьянке где загулял? – не сдавался пристав.
Мать смотрела на него брезгливо, точно на лягушку: у них в семье сроду пьяниц не было.








