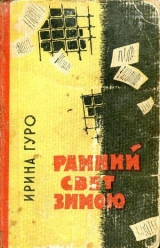
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Глава VIII
ПОБЕГ
После дождей снова наступила ясная погожая пора, обычная осенью в Забайкалье.
Миней прошел вверх по реке Кайдаловке, свернул в знакомую узкую улочку. Здесь кипела обычная суета рабочего утра.
Таня увидела брата в окошко и выбежала ему навстречу:
– К тебе вот только сейчас рябой мужик приходил… Я побоялась дать твой адрес. Сильно расстроился, что тебя не застал. Сказал, если появишься, чтоб тотчас шел на постоялый двор у базара.
– Что за мужик?
– Ах, какой ты! Он же ничего мне не сказал! Верно, его послал кто-то…
– Ну что ж! Пойду.
– Может, не надо? – вдруг забеспокоилась Таня.
– Как же не надо? Обязательно надо.
На постоялом дворе у коновязи стоял рябой мужик в длинной рубахе. Завидев подходившего Минея, он оглянулся и побежал куда-то в сторону, где за покосившимся забором виднелись брошенные посреди двора поломанные сани и разный хлам.
Миней постоял минуту в недоумении и вдруг увидел рябого, который издали махал ему рукой, приглашая подойти.
Через двор они вышли на выгон.
На солнечном пригорке сидел человек. Перед ним на траве была разостлана чистая дерюжка. На ней лежали нарезанный хлеб, яйца и еще какая-то снедь.
Человек был одет, так же как рябой мужик, в длинную ситцевую рубаху и плисовые брюки, заправленные в сапоги. Мятый картуз был надвинут на глаза.
Только когда незнакомец сдвинул картуз на затылок и, засмеявшись, потянул Минея за рукав, чтобы тот сел рядом, он узнал Петра Петровича Корочкина, своего нерчинского друга и наставника.
Несколько мгновений они молча с удовольствием глядели друг на друга. Но что это за вид? Бородка Петра Петровича подрезана неопрятным клинышком, одет не то мужиком из пригородной деревни, не то лошадиным барышником.
Сообразив, к чему этот маскарад, Миней вдвойне обрадовался нежданной встрече.
Они были одни. Провожатый Минея, доставив его до места, с чрезвычайно довольным видом пошел прочь.
– Вы что оглядываетесь? Не беспокойтесь, это человек верный! – весело заметил Петр Петрович, очищая яйцо и приглашая Минея разделить его завтрак. – А вы, Миней, конечно, удивлены?
– Да, немножко, – признался тот. Он и раньше понимал, что Петр Петрович не собирался дожидаться, пока кончится срок его ссылки. Но в голове Минея не укладывалось, как это Корочкин, опытный конспиратор, мог избрать путь через Читу, административный центр, кишмя кишевший соглядатаями. – Видимо, у вас были свои соображения, Петр Петрович.
– Соображения очень простые: надо было, Миней, быстро уходить. И как раз подвернулась отличная оказия: артельный обоз. Понимаете, те, кто ищет, всегда предполагают, что беглец стремится уйти возможно дальше. Верно? Ну, а я «бежал» фантастически медленно. Со скоростью старой обозной клячи. Вон он, мой спаситель! Редкостное чудовище! Видите, пасется! Можете полюбоваться.
Вдали действительно бродила тощая кляча.
Петр Петрович спросил:
– Как мне скорее убраться отсюда?
– Из Читы?
– Да.
Миней поднялся:
– Нет, Петр Петрович, вам придется задержаться у нас…
– Почему?
– Ну хотя бы по тому же вашему принципу «замедленного бегства». Сейчас в поездах, несомненно, усилен контроль. Нужно достать крепкие документы Если у вас их нет, конечно…
– Нету, нету, – сокрушенно ответил Петр Петрович. – И что же вы предлагаете?
– Предлагаю хорошее убежище.
Миней говорил уверенно; казалось, он все обдумал во время короткого разговора.
– «Я слышу речь не мальчика, но мужа», – одобрительно заметил Петр Петрович. – А я, знаете, сильно уповал на ваши связи с железной дорогой.
– Ну, посудите сами: устроить вас на паровоз, конечно, можно. Но ведь паровозное плечо – сто двадцать верст, до Могзона. Дальше бригада меняется. Кто знает, какая попадется? И проверка паровозов бывает на больших станциях. Нет, лучше я вас пока спрячу.
– Где именно, разрешите осведомиться?
– В музее.
– Ох, какая завидная участь! При жизни стать музейным экспонатом!
Петр Петрович оставался самим собой при всех обстоятельствах. Сейчас на его лице было написано живейшее любопытство.
– Экспонатом вы все-таки не будете. Никто вас не увидит. Даже директор музея.
– Гм… Кто же этот покладистый директор?
– Алексеев.
– Тот самый?
– Тот самый.
– Он ведь, кажется, убежденный цареубийца, народоволец?
– Это, Петр Петрович, человек, который поздно понял ошибку своей жизни. Ну и теперь хочет быть полезным. Чем может.
– Понятно. – Петру Петровичу начинало все это нравиться. – Как же все устроить?
– Да просто пойдемте!
– Подождите, надо проститься. Поищите моего спутника, он где-нибудь поблизости. Евсеем его зовут… Евсей Савостин – на всякий случай запомните.
– Запомню, – сказал Миней.
– И ты, Евсей Иванович, запомни вот этого человека, – обратился он к подошедшему рябому. – Ну, спасибо за все, Евсей. Кланяйся брату. И живите хорошо! Может, и встретимся в лучшие времена! – Петр Петрович обнял Евсея, они трижды поцеловались.
Потом Евсей отступил, поклонился и сказал:
– Дай бог тебе удачи в твоих делах, Петр Петрович! Однако будем тебя вспоминать!
Уже на улице Петр Петрович обернулся и помахал картузом Евсею, все еще стоявшему на зеленом пригорке.
Под вечер Миней пришел проведать затворника. Едва вошел в просторный прохладный вестибюль музея, охватило знакомое чувство: частица его жизни осталась в этих стенах.
Прямо против окна с цветными стеклами вверху висел написанный им несколько лет назад пейзаж: «На Ингоде». Кусочек обрывистого берега, внизу, на узкой песчаной полоске, – опрокинутый челнок и вода, освещенная солнцем. Место это было памятное: здесь они читали с Ольгой Чернышевского.
Он увидел коллекции минералов, подаренные им когда-то музею. Они живо напомнили ему то лето, когда он шел рабочим с лесоустроительной партией.
За стеклами витрин запечатлена была жизнь края, своеобразного, заманчивого. «Похожего и на свете нет», – думал Миней.
Никого не встретив, он прошел по пустым залам в «отдел коренных народностей Сибири» – так назвали его составители каталога. Но каталог попал в цензуру, и зал был переименован: «Быт сибирских инородцев». С трудом удалось отстоять перед начальством и самый отдел. Хотелось сделать макет нищенского бурятского очага с детишками, спящими на сухом навозе, устланном ветками, показать без прикрас беду народа, выносливого, трудолюбивого, достойного жизни, но обреченного на вымирание. Не разрешили, конечно. Разгадали «крамольный» замысел. Поставили фигуру бурятки, круглолицей, румяной, в богатой борчатке и пушистом малахае с кисточкой на макушке. Бурятка должна была выражать благополучие инородцев «под скипетром белого царя».
Весь угол зала занимала модель бурятской молельни – дацана, размером с добрую избу. Яркие краски фанерного строения сейчас просто пылали в лучах заходящего солнца.
В залах было пусто.
Над столом с древней утварью висела на гвозде картонка: «Руками не трогать». Миней сиял табличку, озорно усмехнулся и повесил ее на резное украшение у входа в дацан.
Внутри дацана на циновке лежал Петр Петрович и при свете огарка читал музейную книгу: «Сущность буддизма».
– Какое изумительное средство одурачивания народа! – сказал Корочкин, закрывая книгу. – «Страдания слагаются из смерти, старости и болезни. Причина же смерти – рождение». Следовательно, самым фактом рождения ты обречен на страдание! К чему же борьба?! Ловко придумано! Вы как находите?
– Я, Петр Петрович, еще не выработал своего отношения к буддизму… в деталях, разумеется, – улыбнулся Миней.
Корочкин засмеялся:
– Ну, а вы долго будете держать меня в этом богоугодном заведении? Может, вы ждете, чтобы я стал Буддой? Тут написано, что для этого надо сидеть неподвижно пятьдесят лет. Учтите: я на это не способен.
– Петр Петрович, не сердитесь. Право, я не терял даром времени. Через два – три дня жду товарища из Иркутска. Он должен привезти нам литературу, а для вас – документы.
– Хорошо.
– А в поездах идет усиленная проверка. И непонятно, почему подозревают всех почтово-телеграфных служащих. Просто хватают без разговоров!
– Неужели? – Петра Петровича почему-то развеселило это сообщение. – А свечку вы принесли?
– Принес. – Миней вынул из кармана свечу и зажег ее от плавающего в стеарине фитилька.
Светлые блики заиграли вокруг, причудливые тени по углам зашевелились.
Миней заметил, улыбаясь:
– Романтическое у нас с вами свидание, Петр Петрович.
– Кстати о романтике, – медленно произнес тот. – Видите ли, Миней, я вовсе не Петр Петрович Корочкин, а Степан Иванович Новоселов…
Миней покраснел: они дружески встречались два года, и он даже не знал настоящего имени своего учителя. Но тотчас же мысленно одернул себя: нет, нет еще настоящей привычки к конспирации!
Его собеседник продолжал:
– Я уже бывал в этих краях, Миней. Десять лет назад я пришел с партией каторжан на Кару. Годами был я тогда немного помоложе, чем вы сейчас. А политически – много моложе. Через полгода бежал. Удачно, очень удачно. Вот только памятка осталась – царапнула пуля конвойного. – Степан Иванович показал белый рубец на пальце. – А в остальном все прошло как по маслу. Степан Иванович Новоселов перестал существовать. Знаете, искусство преображаться – это великая вещь!
– Я подумал об этом, едва узнав вас сегодня утром.
– Ну и стал я жить-поживать на птичьих правах: сегодня – здесь, завтра – там. На первых порах мне помогали товарищи. Потом пришел собственный опыт. Опыт нелегального существования. И, когда все же провалился по другому делу, остался неопознанным, отделался ссылкой. Теперь, в Нерчинске, кто-то из знавших меня раньше – вернее всего, из старых каторжан – узнал меня и выдал как Новоселова. Что ж, к этому всегда надо быть готовым. Меня предупредили, и я немедля снялся с якоря… – Новоселов добавил: – В Нерчинске есть один тип, служит на почте телеграфистом. Когда-то был выслан по пустяковому делу. Теперь он трется около нашего брата, вынюхивает и доносит. Так я у него с таинственным видом попросил взаймы форменную тужурку. Дал с охотой. Ну, тужурочка пропала – я ее в помойку забросил…
Миней посмотрел недоуменно и вдруг засмеялся так, что фанерные стены дацана задрожали. Сняв пенсне, он вытирал навернувшиеся на глаза слезы, повторяя:
– Так вот в чем дело-то с почтовиками! А их, рабов божиих, хватают! А их-то тащат!
Степан Иванович, опустив голову на руку, задумчиво проговорил:
– Десять лет! Капризная вещь – человеческая память. Иногда кажется, что это было совсем недавно – так отчетливо встает перед тобой прошлое…
…Арестант осужденный резко отличается от подследственного. Приговор состоялся, из тебя не пытаются больше выудить, вытянуть, выжать сведения о «преступной деятельности» и имена «сотоварищей по таковой». Тюремный режим смягчается. Реже крутится заслонка «глазка», обнаруживая бычье око надзирателя, меньше строгостей на прогулке во дворе тюрьмы.
Кое-кому даже разрешают свидания. Но, конечно, не Степану Новоселову, приговоренному по 251 и 252 статьям, – за «распространение воззваний, направленных к явному неповиновению верховной власти…» Да, если бы и разрешили ему свидание, кто бы явился на него! Товарищи отсиживаются где-то тут за стеной, любимая девушка – в женской тюрьме предварительного заключения. А родных у него нет.
В камере, куда Степана Ивановича поместили после приговора, он нашел Георгия Каневского, которого несколько раз встречал на воле. Жена Каневского, курсистка, сообщила ему на свидании, что скоро отправка.
Оставалось только ждать этапа, а там – длинный, томительный путь и новая жизнь. Какая уж там ни будь, а жизнь! Впрочем, Степан Иванович был уверен в возможности побега. Уж он-то во всяком случае сбежит.
Но, когда тюремная карета загромыхала по булыжникам, такая вдруг охватила тоска! За тонкой стенкой шумела ночная, знакомая до мелочей улица.
Арестантов грузили в вагоны на глухой, безлюдной платформе вдали от вокзалов. И здесь вдруг пришло непонятное вначале чувство освобождения. Потом Степан Иванович разобрался: это был конец одиночества! Отныне он был тесно связан с товарищами по заключению. И еще: конвой нервничал, то и дело пересчитывал партию. Принимались меры против побегов. Следовательно, побег был возможен!
Степан подумал об этом уже в вагоне, засмеялся, затряс решетку окна.
– Перестаньте! Сейчас явится «стерегущий», а мы тут в разгаре спора! – закричал маленький студент Эфрос с черной и курчавой как у негра, головой.
Степан прислушался: медленно, слегка заикаясь, говорил Каневский. Слова ронял небрежно, без нажима, нанизывая довод за доводом, цитату за цитатой. У него была удивительная способность запоминать дословно целые абзацы. В самом облике Каневского было что-то начетническое: высокий, тощий, со светлыми прищуренными глазами. Пенсне у него отобрали в тюрьме, чтобы не вскрыл стеклами вены. Каневский удивился; поджимая тонкие губы, говорил:
«Не имел в мыслях резаться и вообще использовать пенсне не по назначению».
Сейчас он цитировал Каутского. Голос звучал ровно. Новоселов вспомнил, что он и со свидания с женой приходил таким же спокойным. Нет, Степан так не мог – радовался бурно, печалился до глубины души.
Ранним утром на какой-то станции долго стояли: паровоз брал воду. Моросил дождь. На дощатой платформе не было ни души. Черные поля открывались прямо за станцией; уходя к горизонту, скрывались в серой пелене дождя. За частоколом две девочки, накрывшись одним мешком, смотрели на поезд. Грусть и нежность охватили Степана, даже слезы выступили. И снова плыли в окна рощи, и худые мосты, и убогие деревеньки. Под Вяткой начались сплошные леса. Такое бесконечное развертывалось пространство, такая ширь! И манило все, и радовало, и печалило вместе. Россия из окна тюремного вагона – тоже Россия!
А в вагоне между тем кипели споры. Степан слушал жадно: тюрьма – университет рабочего человека.
Длинноволосый, похожий на семинариста учитель Греков возражал Каневскому:
– Все, что вы говорите, Георгий Алексеевич, верно, но какое отношение это имеет к России? Где у нас сложившиеся капиталистические отношения? Посмотрите в окно: серость, нищета, а сами рассказывать изволили о загранице, где мужик в шляпе ходит…
Степан не вмешивался в спор. Не потому, что был самым молодым. Что-то мешало ему поддержать Каневского. Знания Георгия Алексеевича казались Степану слишком оторванными от жизни, от рабочего движения. Впрочем, он так мало знал Каневского.
– Степан Иванович! Вы чего прилипли к окошку? Увидят – щит опустят.
Степан улыбался смущенно. Как передать товарищам, чем полна душа…
«Выдь на Волгу, чей стон раздается»… – пели за перегородкой. Конвойный отмыкал дверь с решеткой, отделяющую купе от коридора, вставлял свечу в фонарь.
Каневский оказался хорошим товарищем. Родные хотели отправить его за свой счет. Но он отказался: от Томска пошел вместе со всеми по этапу. К Байкалу пришли весной.
А когда добрались до места, там ждало предписание: по ходатайству родных Каневскому заменили каторгу ссылкой. Степан Иванович забыл, куда именно…
Все это было далеким прошлым. С Минеем же ему хотелось говорить не о прошлом, а о настоящем, предпочтительно даже о будущем. Ведь сидел перед ним представитель второго поколения борцов. Завидная юность! Рожденные на заре… Он здорово изменился, возмужал, этот сильный юноша. А впрочем, время такое, что в мальчиках не засидишься. Либо в подлецы выйдешь, либо на широкую дорогу жизни.
Миней с любопытством посматривал на разбросанные по циновке листки, исписанные знакомым Минею крупным почерком. Поверх листков был брошен карандаш. Ясно, что Новоселов и тут не терял времени даром.
Степан Иванович перехватил взгляд Минея, собрал листки и объяснил:
– Как вам известно, в Нерчинске я служил в земской управе статистиком. И собрал кое-какие материалы.
– Для книги?
– Может быть, для статьи. Статистика, цифры – это, Миней, удивительная штука! И даже, прошу заметить, официальные цифры! Проверенные десятками верноподданнейших чиновников от первой до последней, они все же выдают тайны существующего строя! Можно подтасовать цифры, но сопоставление их выведет фальсификаторов на чистую воду. Смотрите, простая вещь: от чего, по каким причинам умирают люди, скажем, в Нерчинском горном округе?
Он отобрал несколько листков, испещренных цифрами.
– Вот вам мирное житие этого тихого местечка лет сорок назад: изрядное количество народа умирает естественной смертью от старости и приличествующих возрасту болезней. Солидная цифра стоит в графе «спился». Значительно меньшая – в рубрике «задохся от угара и сгорел во время пожара». Кое-кто замерз в степи. Единичные неудачники погибли от укуса бешеного волка… Но идут годы – какие годы! Что они несут? И опять говорят, кричат, вопиют цифры! Капитал проникает во все поры экономической жизни. «Фурии частного интереса» простирают свои черные крылья и над этими глухими краями. И вот появляются и – смотрите, смотрите! – пухнут графы: «задавлен землею в работах», «попал в машину», «зарезался», «повесился»… В то же время растет рубрика «спился» – впрочем, теперь она именуется более культурно: «погиб от запоя». Еще бы! Львиная доля заработка горнорабочего поглощается спиртоносами, они пользуются покровительством владельцев шахт. Цифра естественных смертей становится все худосочнее. Что там бешеные волки! Пострашнее зверь рыщет «по диким степям Забайкалья»! А железная дорога и вовсе прикончила патриархальный сибирский уклад.
Новоселов, энергично взмахнув листком, продолжал:
– Но вот новый столбец цифр… Это – количество участников стачек, рабочих волнений на приисках и на железной дороге. Это – количество рабочих и крестьян, привлеченных к следствию и суду «за неповиновение властям» и «подстрекательство к беспорядкам»…
Солнце давно село, в фанерном дацане при мерцающем свете свечи еще проникновеннее и убедительнее звучал голос Степана Ивановича:
– Все сдвинулось с мест в России, и наша задача не в том только, чтобы анализировать новые явления жизни, а в том, чтобы активно вмешиваться в них. Не констатировать пришествие капитализма, а поднимать и организовывать рабочие массы. Надо строить работу, как строят хороший дом: прочно, на будущее. С расчетом на большое революционное будущее народа. И по плану, по общему плану, Миней.
Когда Миней вышел из музея, ночной студеный ветерок гулял по городу. Кайдаловка бежала вдоль улицы, сильно и мерно шумя. Казалось, что она стремится куда-то далеко. И хотелось идти за ней к далекому неизвестному берегу. Сама собой слагалась песня:
Кайдаловка звенит на бегу,
Я бегу, я бегу, я бегу…
В трактире Трясовых было весело. Все «три совы» сбились с ног, прислуживая посетителям. «С получки» пришли не только завсегдатаи, но и те, кто был здесь редким гостем. Несколько женщин с тоскливыми лицами бродили у крыльца, высматривая своих мужей.
Миней увидел Кешу, сидящего с гармоникой в руках в компании молодых рабочих. Лицо у него было невеселое. Заметив товарища, проходившего через «зало», Кеша осторожно положил гармонику на табурет и вышел вслед за ним в боковушку.
Миней нетерпеливо спросил:
– Был?
– Был…
– Приехал Павел? Привез?
– Павел арестован в Иркутске.
Миней молча сидел за столом, обхватив руками голову.
– Его «пустым» взяли – долго не просидит, – проговорил Кеша.
Миней поднял голову:
– Я не только о Павле сокрушаюсь, Кеша. Работаем плохо. Чита сама по себе, Иркутск сам по себе. Ни связи, ни взаимодействия. – Он прислушался: – А что там?
За перегородкой поднялась какая-то кутерьма.
– С получки бушуют…
Шум все увеличивался. Множество голосов угрожающе гудело, кто-то кому-то грозился дать по шее, густой бас урезонивал, но тотчас снова подымались угрожающие крики.
– Не полиция ли? – забеспокоился Кеша. – Сходить узнать…
Но в это время вошел Семен Трясов, сильно помятый – видно, только что из драки. Он попросил:
– Братцы, вы поздоровше будете, помогите иностранного пассажира у «буксогрызов»[8]8
Буксогрызами на железной дороге дразнили рабочих службы тяги.
[Закрыть] отбить, а то убьют, слободная вещь, прямо в трактире…
– Какого пассажира? Что за чушь! – удивился Миней.
– Да извольте сами убедиться! – Семен вскочил на скамейку, протер рукавом пыльные стекла в верху перегородки.
Миней встал рядом с ним.
Сначала в толпе людей в куртках из чертовой кожи и холщовых рубахах ничего нельзя было разобрать. Потом, возвышаясь над всеми, мелькнула кудрявая голова Кости Фоменко. Он крепко держал за воротник сиреневого сюртука тощего субъекта со светлыми баками. Субъект извивался, как червяк. При этом он, видимо, пытался сказать что-то, так как рот его то и дело открывался.
– Пойдемте, – сказал Миней.
Втроем они вошли в зал. Увидев Минея, народ потеснился. Господин в сюртуке задвигался энергичнее, но Костя с силой подвинул табурет под коленки своей жертвы, и тот поневоле сел.
Несколько человек сразу принялись рассказывать о происшедшем. Дело рисовалось так: незадолго до захода солнца ремонтный рабочий дед Аноха увидел на путях незнакомого человека, одетого чудно, не по-русски. Человек держал в руках ящичек, в котором что-то щелкало.
Дед Аноха решил, что это адская машина.
Он крикнул товарищей. Тотчас небольшая толпа окружила незнакомца.
– Да это у него фотографический аппарат! – объяснил молодой рабочий Тима Загуляев и обратился к незнакомцу: – Вы, господин, зачем снимаете железнодорожные сооружения?
– А тебе какой дело, русский свинья! – ответил незнакомец и тотчас получил по скуле от Фоменко.
Ребята зашумели. Одни предлагали отвести фотографа к жандарму Епишке, другие кричали, что шпион от Епишки откупится, надо уж тащить куда повыше. Чей-то рассудительный голос предположил, что и «повыше» шпион откупится. И, так как на путях неудобно было разбираться, все направились в трактир.
– Мы не то чтобы самосудом, а для выяснения… Как же это… мы строим, а они будут, может, порчу делать, – объяснил Загуляев.
– Кто вы такой? – спросил Миней.
Субъект учтиво, насколько ему позволяло положение – ручища Фоменко еще лежала на его воротнике, – поклонился и, раскатывая «р», назвал себя:
– Ричард Больс, фирма Робей и компания, Англия… – Он достал из кармана сложенную бумагу и протянул ее Минею.
В ней было сказано, что Ричард К. Больс – «единственный в России уполномоченный фирмы по продаже напильников, пил, молотков, зубил, ножей для соломорезок и жатвенных машин» и что все эти предметы являются лучшими в мире.
Затейливый фирменный знак и печать не возбудили, однако, почтения у «буксогрызов». Они снова зашумели:
– Ишь, «Робей»! Сами-то не робеют! Вроде мы без Англии и молотка не сделаем!
Миней отозвал в сторону Кешу, сказал ему тихо:
– Быстро беги за Митей, чтобы сейчас же шел…
Затем он вернулся к уполномоченному.
– Господин Больс, – сказал он внушительно, – вам придется дать объяснения официальному лицу, которое сейчас прибудет.
Ричард поправил отпущенный наконец Фоменко воротник. Люди, услышав, что делу «дан ход», стали расходиться. Оставив с иностранцем Фоменко, Миней вышел навстречу Мите, чтобы предупредить, как ему следует держаться. Стечение обстоятельств получилось весьма удачное.
С тех пор как Митя занял должность телеграфиста, он приобрел необычайно солидный вид, отпустил пушистые усы, сшил на заказ форменную тужурку и пуговицы начищал тертым кирпичом.
Внушительным баском Митя заговорил:
– Милостивый государь! Вами совершено деяние, наказуемое законами Российской империи. Поскольку вы не пользуетесь правами экстерриториальности, вы подлежите юрисдикции местного суда… – Он сделал паузу. – Однако, учитывая пользу, приносимую нашему государству фирмой… гм… Робей, я не склонен поднимать шум…
Ричард поклонился, выражая своим видом крайнюю признательность.
– Я оставлю у себя все ваши документы для проверки вашей личности. В течение нескольких дней попрошу вас не покидать номеров, где вы изволите проживать. Если проверка подтвердит, что вы действительно прибыли сюда с деловыми целями, вам ничто не угрожает.
И тем же тоном Митя распорядился, чтобы Ричарда выпустили с черного крыльца.
В боковушке остались Митя и Миней. Они молча посмотрели друг на друга и расхохотались.
– Однако какой нахал! – сказал Митя. – А наши-то растяпы! Под носом у них прямо на дороге фотографируют, и никто не следит, никто не препятствует!
– А кому следить-то? Куплены все, – сказал убежденно Миней.
Поезд Владивосток – Иркутск готовился к отправлению. Те немногие пассажиры, которые вышли из вагонов и теснились у буфетной стойки, покинули зал, боясь отстать.
Как всегда, дебаркадер был усеян любопытствующими обывателями: железная дорога все еще была новостью.
Табельщик Удавихин с презрением оглядывал молодых людей, указывающих тросточками на состав и объясняющих его устройство своим спутницам.
«Дурачье! В Европах уже давно…» – лениво думал Удавихин, хотя сроду не бывал дальше Мысовой.
По знакомству буфетчик Авдей за тот же медяк наливал чай погуще, так что даже ломтик лимона не портил цвет. Тонкого стекла стакан, ложечка с витой ручкой – ничего общего с простонародным чаепитием в трактире Трясовых! Здесь, в зале второго класса, за столиком, накрытым белой крахмальной скатертью, с искусственной пальмой за спинкой стула, Удавихин казался себе личностью значительной, почти аристократической.
Со вкусом развернул он хрустнувший газетный лист и поерзал на стуле, готовясь не только узнать новости дня, но, как мыслящая личность, и оценить.
«В Одессе эпидемия чумы». Это плохо. Впрочем, Одесса далеко, да и город какой-то… жулики одни, хохлы да евреи… «Противочумной комиссией, высочайше утвержденной (сложил губы сердечком), заготовлено 1000 флаконов противочумной сыворотки». Тысяча! Интересно, почем флакон? (Покрутил головой). «По случаю тезоименитства ее величества имели счастье принести поздравления депутации»… (Он с увлечением прочел список «имевших счастье».) «Бывший полицейский урядник Кутомарского завода Тимофей Сукач назначается помощником пристава города Читы»…
Во всем этом было нечто успокоительное: тысяча флаконов сыворотки, тезоименитство, урядник…
«Близ станции Иннокентьевская десять вооруженных напали на хутор крупного землевладельца Тарабакина». Это уже плохо. К чему подобное описывать в газетах?
Он перечитал с тем же вниманием извещение о вызове к торгам. Дальше шли объявления о розыске. Тоже интересно.
«На основании 846, 847, 848 и 851 статей Устава уголовного судопроизводства… разыскивается бежавший ссыльный мещанин города Тулы… росту два аршина семь вершков… по виду лет тридцать, глаза серые, лицо чистое. На согбении указательного пальца правой руки рубец. Всякий, кому известно…» Ну, кому известно, тот, само собой, обязан…
Стул рядом затрещал, и деревянный голос произнес: «Рррумку вотка!» Кто-то уселся рядом, словно в зале больше места не было. Недовольный Удавихин посмотрел для приличия сначала вниз: увидел ноги в клетчатых брюках со штрипками и модные узконосые башмаки. Глянул выше и обомлел. Царица небесная!
Рядом за столиком сидел: «по виду лет тридцати, глаза серые, лицо чистое». Рост тоже подходил. Согбение усмотреть не представлялось возможности: в правой руке незнакомец держал перчатку, коей отмахивался от мух.
Первым побуждением Удавихина было встать и удалиться. Мало ли бывает! Но тревожные мысли тотчас приковали его к стулу. А вдруг кто-нибудь, кому положено, следит за «этим» и доложит, что тогда-то в зале второго класса некий Удавихин сидел, держал в руках «Забайкальские ведомости» и не сообщил, несмотря на то что поглядывал…
Конец. Уйти было невозможно. Удавихин и этот, двух аршин семи вершков росту, были связаны невидимой веревочкой. Куда этот, туда и он, Удавихин.
«Преступник», заметив внимание к себе, резко повернулся и, приятно улыбнувшись, залопотал что-то непонятное, похожее на гоготанье гусака. Прогоготав, он вопросительно поднял брови.
Пораженный Удавихин забормотал, стараясь изобразить похожие звуки:
– Не поунимау, ней знау…
Неизвестного, видимо, удовлетворило это. Он с довольным видом вытащил из жилетного кармана визитную карточку – кусочек ослепительно белого картона с золотым обрезом. Удавихин с трепетом прочел:
«Ричард К. Больс. Уполномоченный в России».
И ниже:
«Акционерное общество Робей и К°, Англия. Напильники, пилы, молотки, кирки, зубила и прочее».
Вложив карточку в руку опешившего Удавихина, незнакомец ткнул себя пальцем в грудь и, невероятно раскатывая «р», повторил:
– Ррричард К. Больс.
Затем он без церемоний ткнул пальцем Удавихина и опять поднял брови.
Удавихин догадался и, вежливо приподнявшись, с готовностью отрекомендовался.
Уполномоченный неизвестно отчего громко засмеялся и закричал в самое ухо Удавихина: «Петров Завод! Петров Завод», – помахав рукой в сторону поезда; видимо, объяснял, куда едет. После чего иностранец молниеносно опрокинул в рот поднесенную буфетчиком водку, бросил на стол монету и не торопясь удалился, вытягивая ноги, как журавль.
Удавихин, подобострастно осклабившись, увидел в окно, как уполномоченный вышел на перрон. Он указал пальцем носильщику на свой желтый чемодан. На этот раз согбение было ясно видно. Белый рубец мелькнул на нем.
Удавихин хотел закричать, побежать, схватить, пресечь… Но, как во сне, не мог двинуться.
Иностранец нырнул в синий вагон, сияющий лаком и металлическими частями. Звонко ударил колокол. Локомотив сипло загудел. Из трубы вырвался и побежал, низко стелясь над крышами вагонов, серый длинный дым, похожий на ярмарочную игрушку «тещин язык». Оглушительно лязгнули сцепления. Вагоны дернулись, стали, опять дернулись. Провожающие, носильщики и просто любопытные двинулись за поездом по деревянной платформе. Мальчишки, навалившись скопом, отпихнули наконец жандарма Епишку и прорвались на перрон. Крики мальчишек: «Ура! Поехали! Едет!» – на минуту перекрыли стук колес.
Проплыли зеленые вагоны третьего класса, проскочил замыкающий товарный. Все было кончено. Теперь оставалось только молчать о своей оплошке. Да и была ли оплошка? Может быть, и не было. Рубец померещился, а они, Ричард, действительно иностранцы-с, Европа! Скандал мог получиться ди-пло-ма-ти-ческий!









