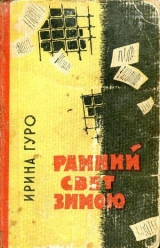
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Мы читали Ульянова «Что такое «друзья народа…», – сказал Миней. – Из Томска нам привезли. Две тетрадки, напечатаны на гектографе. Даже некоторые из наших стариков задумались над ними… Помните Алексеева?
– Григория Леонтьевича? – удивилась Ольга. – Неужели он с нами?
– Во всяком случае, хорошо нам помогает.
– Как это важно – привлечь к нашему делу честных, смелых людей! Пусть они сшибались, но ведь себя-то они не щадили…
Голос ее зазвучал резче.
– Знаете, что нас тяготило в Питере? Как ко всякому движению, которое развивается, идет в гору, к марксизму также прилепляются всякие слизняки. Это людишки, которые не хотят бороться, а только «анализируют», «изучают»… Они видят в марксизме «научное течение» – и только! Бойтесь этих господ! Они с нами до поры до времени, а потом предадут. С головой выдадут…
В дверь легонько постучали.
– Нельзя! – сердито крикнула Ольга.
Кто-то, кашлянув, нерешительно пробасил:
– Ехать пора бы, лошади готовы!
Ольга порывисто вскочила и рывком распахнула дверь. Усач невольно попятился.
– Никуда я не поеду! Положенное мне время здесь отбуду!
Она за рукав втащила в комнату урядника и чуть не носом ткнула его в висящие на стене в рамке под стеклом «Правила».
– Что здесь написано? – кричала она своим низким, почти мужским голосом. – Читайте!
Усач скучным голосом прочел:
– «Законною скоростью для следования по тракту является двенадцать верст в час».
– А вы меня как везли? Я вас всех на чистую воду выведу! Прогонные в свою пользу экономите?! – закричала Ольга. – Вы гнали с недозволенной скоростью! Мне все кишки вытрясли! Я губернатору буду жаловаться!
Урядник, пятясь, выбрался в сени, и Ольга с шумом захлопнула за ним дверь. Обернувшись к Минею, она засмеялась весело, беззаботно, как умела смеяться только Ольга.
И сейчас уже никто не мешал им. Ольга приказала вздуть самовар, разлила чай, но стаканы опять остались нетронутыми. Они все говорили и никак не могли наговориться, пока, взглянув в окно, оба вдруг с удивлением заметили, что день подходит к концу.
Ольга обняла Минея и горячо сказала:
– Знаю, что у вас все пойдет хорошо! И вы много сделаете.
– Поберегите себя, Ольга, – проговорил Миней.
Когда он выходил, обрадованный урядник прошептал:
– Ну, бог даст, теперь поедем! Не барышня – генерал, ей-богу-с!
– Чистый генерал! – подтвердил Миней.
Распахнув створки окна, Ольга смотрела, как он выезжал со двора. Такой он и сохранил ее в памяти – с мальчишеской усмешкой на открытом и смелом лице, обрамленном короткими волосами.
Глава III
УЧЕНОГО УЧИТЬ – ТОЛЬКО ПОРТИТЬ
Хотел посмотреть, как в Сибири люди живут? Ну что же, смотри! Во все глаза!.. Тот же знакомый по Екатеринославу, по Вознесенску, по Перми «барак для холостых рабочих», нары в два этажа. Уйдешь в дневную смену – на твое место тут же ночной сменщик ложится. На балках под потолком сохнут портянки, смрад, чад коптилок, храп. День ли, ночь – не разберешь. Окна либо льдом покрыты, либо песком занесены, смотря по тому, какая пора на дворе стоит. Гудок тоже старый знакомый – долгий, пронзительный; зовет надрывается.
Природа чудна́я, дождей и то нет; зимой плевок на лету замерзает, а снегу нету.
Каменное, неустроенное еще здание мастерских. Зимой в нем холодище, на стенах – иней, по углам – лед; летом дышать нечем, а пить захочешь – пожалуйста: вонючая вода из ржавой бочки. Пей вдосталь, пока в животе не заурчит.
Еще солнце ночует за сопкой, а ты уже кипишь в этом аду.
Двенадцать с половиной часов – железной дороге. Остальные себе? Как же, держи карман! Пока бог спал, дьявол выдумал сверхурочные!
Хотел посмотреть, как здесь люди живут?.. Нашему брату везде сладко!
Так рассуждал Алексей Гонцов. Пока что про себя.
Сам черт не разберет, что здесь за люди! Не поймешь, насмехается ли над тобой человек или горькую усмешку над твоей и своей долей прячет в бороде да в хитроватом, на все случаи жизни годном словечке «однако»… «Однако» народ сильный телом и, казалось Алексею, духом тоже. Взять хотя бы деда Аноху. Бородища по пояс, брови как у лешего, вид дремучий. А в глазах – чистый огонь. Говорят, он всю жизнь правду ищет. Не за правдой ли пришел сюда в суету «новой», «особо важной», «дальшенекудаспешной» дороги?..
Гудок. Конец смены. Еще никто не успел размять спину, бежит мастер, запыхался: «Всем токарям оставаться! Срочная работа!»
– Тебя только, проклятик, и дожидались! – Алексей плюнул, смахнул рукавом крошки махорки с суппорта.
Огляделся. Ну не мог, не мог он в одиночку все это безобразие переживать! Требовалось высказаться.
Глаза его встретились с глазами Кеши Аксенова. Глаза у Кеши синие, с поволокой. На ягоды голубики похожи. Ягода такая здесь растет. Алексей подмигнул. Кеша готовно улыбнулся. Гонцов и раньше замечал на себе его внимательный и застенчивый взгляд. Парень ему нравился: молод, зелен, правда, а вид такой – вот узнал что-то важное и помалкивает. Однажды видел его Алексей с высоким длинноволосым молодым человеком, в черной косоворотке, со стеклышками на носу. Сидели на куче рельсов за воротами, толковали о чем-то. Конспираторы! А может, просто так, знакомые… Теперь кто только не ходит к рабочим! И студенты, и гимназисты, и господа в шляпах. Кто за делом, а кто так, за модой гонится. В Екатеринославе, помнится, приезжала на извозчике барыня в лисьей ротонде, фабричные песни записывала. Ну уж ей и напели!.. Однако если б по секретным делам встречался Кеша с тем долговязым, то вид был бы у них посерьезней. А то сидят и хохочут во все горло…
Алексею очень хотелось отвести с кем-нибудь душу, но боялся попасть впросак. «Один раз отвел и отсидел шесть месяцев!» – сдерживал он себя, но не мог, никак не мог он жить без людей, на отшибе.
Чернорабочий бурят Цырен Намсараев хорошо сказал: «В одиночку человек – как ладонь узок, с друзьями – как степь широк». Правильная пословица…
Как-то рано утром, до начала работы, Кеша Аксенов подошел к Гонцову:
– Здравствуйте, Алексей Игнатьевич!
– Здорово, борода! – ответил Гонцов без улыбки.
Кеша смущенно потрогал реденькую белесую щетинку на подбородке. По сути дела он на каких-нибудь три года моложе Алексея. Но Алексей – тертый калач, а Кеша что? Бублик свежеиспеченный!
– Скучно вам тут? Привыкли все по большим городам, Алексей Игнатьич. А у нас что? Песок да сопки, – начал Кеша своим приятным тенорком.
– Мастеровому человеку куда ни подайся – все одно! Всюду – не сахар! – мрачно отрезал Алексей.
«Какой он… Подумаешь, меланхолик!.. А глаза веселые», – заметил про себя Кеша.
С этого дня они стали разговаривать чаше.
Весна заглядывала во все углы. Забросанный обрезками железа, отбракованными шпалами и всяким хламом, тупичок вдруг украсился желтой паутинкой подмаренника, зелеными стрелками травки. Ветер веселил, будоражил, торопил куда-то.
– Махнем мы с тобой на рыбалку, Алеша, а? На озеро, на Кенон. Шалаш на берегу поставим, – мечтательно говорил Кеша и, словно что-то вспомнив, добавил неверным голосом: – У меня, знаешь, приятель один есть, хорошо рыбачит… Мы с ним рыбу ловим…
– Книжки читаем… – в тон ему протянул Алексей.
Кеша бросил беспокойный взгляд на Алексея. Тот невозмутимо тушил цигарку о подошву.
– Ну да, и книжки. Стихи. Пойдешь с нами?
– Куда денешься? Чем горькую пить, уж лучше рыбку удить. Как говорится: «На одном конце червяк, на другом – дурак!» А то с тоски в петлю влезешь!
И опять эти слова не вязались с веселой усмешкой Гонцова.
Как и ожидал Алексей, знакомым Кеши оказался тот, долговязый. Звали его Минеем. Он вовсе не был приезжим из Томска студентом, как предполагал Алексей, а служил здесь, в аптеке Городецкого. Впрочем, кажется, ему пришлось хлебнуть всего: на дороге поденно работал, лес валил, вагоны разгружал, ведомости переписывал. Бывалый. И рыбачил он ловко: на Кеноне вытаскивал щук, карасей, на Ингоде – жирнющих тайменей.
В новом знакомце Гонцов нашел для себя нечто нежданное. «Образованные», которых знавал Алексей, были по большей части люди скучноватые. О чем ни заговори, они свое: «Мужик, община, землица». Слова звучали как заученные, заимствованные, точно одежда с чужого плеча.
С Минеем же говорилось легко обо всем. Охотно рассказывал он о своем детстве и смешно представлял своих хозяев. Все это сбивало Алексея с толку. И даже иногда думалось: парень по всем статьям, такого бы в «политику»!
На рыбалке, у речных костров, Алексей незаметно рассказал и про себя. Только умолчал о тюремной отсидке и высылке «за пределы губернии».
Но однажды Миней бросил словцо…
Было это в воскресенье. Они лежали в кустах на берегу реки. Сладкий, ни на что не похожий запах багульника лез в ноздри. В небе, шевеля плавниками, плыло облако, похожее на рыбу.
Миней, покусывая травинку, рассказывал:
– Девяти лет я уже подметал лабаз купца Игнатьева, кули ворочал, покупателям калоши мыл и пулей летал за водкой, коли приказчику выпить вздумается. А выпивши, принимался он меня утюжить. Ну, я и удрал… А из переплетной меня выгнали. Я в ту пору уже читать выучился. Приду, бывало, ни свет ни заря мастерскую убирать – хвать с верстака книжку… И очнусь тогда только, когда у меня ноги в воздухе болтаются, – хозяин за шиворот держит…
– Знакомая картина! – вставил Гонцов.
– А уж как я был рад, когда попал в аптеку мальчиком! Работа полегче и учиться можно. Мне большего и желать нечего. Вот тут меня и угораздило… Является как-то в аптеку ревизор. Тонкий, скользкий какой-то, ровно червяк. В очках. Хозяин вертит хвостом: что-то нечисто было с уплатой казенных сборов. Открывает ревизор толстую прошнурованную книгу – и тихо стало, будто в церкви. Вижу, ревизор надевает вторые очки. Меня это поразило. Впервые я в жизни видел, чтоб очки на очки цепляли. Спрятался я за пультом, выглядываю… И что же? На свои двое очков червяк напяливает третьи! Тут я не выдержал и так засмеялся, что в шкафу мензурки зазвенели. Хозяин закричал страшным голосом, а я шасть во двор и заливался там, покуда меня за ухо не втащили обратно в аптеку. Ну, для хозяина, поскольку ревизор получил взятку, все сошло благополучно. А для меня нет.
– Опять выгнали? – смеясь, спросил Гонцов.
– И даже денег зажитых не отдали!
– Ну, а дальше?
– А дальше плюнул я на эту жизнь «в мальчиках» и пошел в землекопы. Как недоростку, платили мне четверть положенного. Зато товарищи не обижали… Вот там я впервые понял, что такое рабочее товарищество. И стал задумываться над тем, кому ж это нужно, чтобы мы пухли с голоду, а хозяева да подрядчики на нашей крови да на нашем поте жирели? И нельзя ли все это изменить? Ну, словом, обычные мысли, какие рано или поздно приходят на ум всякому рабочему человеку. И тебе, верно, приходили?
«Все ясно, – подумал Гонцов: – решили, что я совсем темный».
И сказал первое, что вспомнилось из того листка, за который отсидел он полгода:
– «Нас грабит хозяин-эксплуататор, паук-фабрикант, сторону которого держит правительство». – И добавил, подмигнув Минею, уронившему от удивления в траву пенсне: – Ученого учить – только портить!
Миней несколько секунд, опешив, глядел на товарища. Потом хохотал долго, до слез.
Засмеялся и Алексей.
– Ну что ж, – проговорил Миней уже серьезно, – выходит, будем учиться вместе.
На первом занятии кружка читали Маркса:
«Рабочий не считает труд частью своей жизни, наоборот, трудиться – значит для него жертвовать жизнью…»
– Ну, и правильно! Какая же это жизнь! Я работаю, только чтоб с голоду не помереть. Труд мой тяжелый, скушный, нет в нем ничего такого… увлекательного…
Бочаров перебил Гонцова:
– А я вот люблю свое дело, даже дух столярный люблю. Благороднейшее занятие!
Алексей вскипел:
– Да разве я об этом говорю? Не поняли вы меня, Иван Иванович! Дело свое и я люблю. А на хозяина работать не хочу! Правильно в книге Карла Маркса сказано: труд для рабочего – это не жизнь…
Миней отбросил прядь волос, упавшую на лоб:
– Нет, Алеша! Маркс так говорит о капиталистическом обществе. Но придет время, когда труд будет и почетен и любим. Когда рабочий станет свободным и будет трудиться для себя.
В мастерской Ивана Ивановича прохладно, пахнет стружкой и клеем. Помещеньице маленькое – с курятник. Зато надежное, в глубине двора, а у калитки на длинной цепи – лохматая забайкальская овчарка.
Хозяин, Иван Иванович Бочаров, Кешин дядя, в темном аккуратном пиджаке, с седыми кудрями вокруг лысины, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб, похож на учителя. Рядом с ним худенький Кеша Аксенов выглядит его учеником.
Заниматься в кружке пришел и деповский слесарь Костя Фоменко. Его Алексей знает понаслышке; на той неделе Костя выкинул в окно табельщика Удавихина за обсчеты. Сейчас Фоменко напряженно слушает, подперев большим кулаком подбородок, обросший темной бородкой.
Миней окидывает взглядом товарищей. Ему страстно хочется передать им то, что так недавно узнал он сам, что сыграло такую важную, решающую роль в его жизни.
– «Капитал есть мертвый труд, который, подобно вампиру, оживает лишь вследствие всасывания живого труда…» Как образно сказано! И точно! – восхищенно говорит Миней, прерывая чтение.
– Правильные слова, – подтверждает Иван Иванович. – Вот именно вампир, попросту сказать – вурдалак…
– Это мертвяк, что у живых кровь сосет? – громким шепотом спрашивает Фоменко у Кеши; остальных он немного стесняется.
– Ну да, чудище из сказки…
– Сказка сказкой, – в полный голос объявляет Фоменко, – однако взять нашего начальника мастерских. Хоть он сам и не капиталист, но политика его та же самая. Вот в книжке говорится, что капиталист старается удлинить рабочий день, а то из одного сделать два рабочих дня. Точно наш Гулевич! Позавчера кузница ночь работала, так он еще на день оставляет. «Ну, нет, говорю я, – Фоменко встает, задевая головой потолочную балку, – хватит кровь нашу пить! Будет с вас того, что мы двенадцать часов отгрохали!» А он с таким подковыркой: «А ты бы сколько хотел?» – «Я, говорю, хочу так: восемь часов работать, восемь спать, восемь – мне для жизни…»
Фоменко обводит всех говорящими глазами и под одобрительный смех садится на место.
Миней читает негромко. Голос у него чуть-чуть глуховатый и от этого кажется задушевней. В некоторых местах Миней останавливается, словно обдумывая их про себя. И тогда Алексей тоже старается запомнить эти слова.
«Прибавочная стоимость»… «Прибавочная» к чему? Сразу и не поймешь. А между тем слово это важное. Оно все объясняет. И как просто раскрывает оно то, что прячут от рабочего: всю эту хитрую механику, плутовство, издевательство над рабочим человеком. Когда живешь в одиночку, как когда-то жил он, Алексей, во всем винишь свою судьбу: уж такой, мол, я неудалый! А сойдешься с другими, послушаешь, заглянешь в книгу – и глаза откроются. Нет, есть у нас головы на плечах и руки золотые, есть и воля, и талант, а вот ходу нету! Нету потому, что на том весь ихний проклятый порядок строится…
Кеша с равным восторгом принимал и «Капитал» Маркса и слова Минея. «Все хорошо! – так и светилось в его глазах. – И вы все хорошие, мои товарищи. А лучше всего то, что я вас нашел, и теперь уж я не отстану, буду с вами до конца». Конец представал перед Кешиными глазами не всегда радостным. Ему виделись знакомые с детства картины: каторжные партии, черные стены этапки за зубчатым частоколом, но все это теперь было не страшно.
Глубже всех переживал услышанное здесь Иван Иванович Бочаров. Уже подходила к концу долгая, скитальческая жизнь. Много пройдено, много видено. Сложной была и духовная жизнь Ивана Ивановича. «Искал бога», а стал убежденным атеистом. Поверил в «особую крестьянскую правду», а понял: не там ее ищут переодетые мужиками студенты.
На длинном своем пути встречал Иван Иванович много людей и видел: каждый живет как будто по своему хотению, на деле же все подчинено одному неправедному закону: кто богаче, тот сильнее.
И теперь Бочаров с жадностью, словно свежую воду пил, воспринимал большие ясные мысли. Было за что бороться, и если придется, то сложить свою седую голову.
Костя Фоменко думал о Гулевиче, Удавихине и других: «Мало еще гонял я вас, вампиров!»
Иван Иванович говорил своим неторопливым, по-стариковски дребезжащим голосом:
– Известное дело: под лежачий камень и вода не течет. Не будешь за свои права стоять – тебя и вовсе захомутают. Когда я работал в Шилке, повадились нас штрафовать – с кого три рубля, с кого пять. А иной всего-то в день восемьдесят копеек вырабатывает. Вот с этих-то штрафов и началось… Здорово мы там с администрацией воевали!
Миней расспрашивал, иногда записывал. Обобщая рассказы, показывал, что экономическая борьба рабочих тесно связана с политической борьбой против самодержавия.
– Сильный противник – царизм. А все же он боится нас.
– Конечно, боится, – подхватил Кеша, – раз за каждым шагом нашим следит. Удавихина почему из Хилка убрали? Доносчик он. А рабочие его раскусили.
– Вот и надо составить список всех известных нам шпионов администрации и полиции. Мы их по всей дороге ославим, – сказал Миней и вдруг замолчал прислушиваясь.
Остальные тоже услышали: за тонкой стеной кто-то шевелился.
Фоменко подошел к двери. Миней вместо тома Маркса уже держал в руках роман графа Салиаса в пестрой обложке.
– Не должно быть, Жук чужого не пропустит! – усомнился Иван Иванович.
Костя распахнул легкую, из шелёвок, дверь.
В ярко освещенном солнцем проеме стояла маленькая девочка в пестром сарпинковом платьице. Тряся золотыми кудряшками, она распевала:
– Испугала деда, деда испугала-а! – и заливалась звонким смехом.
Фоменко, нагнувшись, удивленно рассматривал певунью.
Иван Иванович просиял, подхватил внучку, подбросил ее и опустил на кучу хрустящих стружек. Девочка залилась еще громче.
И все засмеялись тоже.
– А что, товарищ Миней, – спросил Иван Иванович, – вот эта пичуга увидит другую жизнь аль нет?
Иногда занятия кружка происходили на квартире Кости Фоменко.
Елена Тарасовна, мать Кости, невысокая, полная и очень моложавая, сохранила, несмотря на долгую жизнь в Сибири, мягкий украинский говор. И дочки ее были такие же маленькие, подвижные и пухленькие. Единственным мужчиной в семье после смерти отца остался Костя. Неловко двигался он в небольших комнатках и виновато улыбался, когда озорницы сестры ему напевали:
– Гулливер, Гулливер! Братец Костя – Гулливер!
Книжку про Гулливера, в красном переплете с золотом, Костя когда-то подарил старшей, Оленьке. Теперь историю про Гулливера знала и самая маленькая – Аннушка.
Елена Тарасовна и старшие ее дочери вели хозяйство, держали коз и птицу, поддерживали в приличном состоянии домик, доставшийся им от отца, и, по обычаю родного края, ежегодно под пасху белили свою хату, не считаясь с погодой.
Взрослые члены семьи прилежно трудились, и поэтому удавалось сводить концы с концами. Малыши не голодали, не бегали замурзанными, а Елена Тарасовна шила себе незатейливые кашемировые платья, которые надевала, когда носила молоко на продажу в знакомые дома.
И так как сама она была очень чистоплотна и миловидна со своими черными косами, уложенными вокруг головы под цветной косынкой, то ее охотно пускали в военный госпиталь, где она сдавала молоко на кухню. Так она стала «поставщиком двора», как ее в шутку называл военный фельдшер Богатыренко.
А уходя с пустыми бидонами, Елена Тарасовна останавливалась поболтать с солдатиками из роты выздоравливающих. Все они радовались посещениям общительной и толковой вдовушки.
Глядя на них, Елена Тарасовна думала о сыне Косте. Уж очень он смирен. Двадцать три года, мастер, видный собой, с девушками не водится, с парнями не дружит, в трактир не захаживает.
«Вот такие-то тихие и ударяются больше всего в водку, – тревожилась Елена Тарасовна. – Сперва-то ничего, всё ждут другой, хорошей жизни, а потом как увидят, что нет ее и ждать нечего, так тотчас же кидаются в кабак! Господи, отврати! Не дай сыну стать пьяницей!» – простодушно молила Елена Тарасовна, а воображение рисовало ей страшные картины: сын пропивает получку, пьяный является домой, буянит, крушит все, что ни попадется под руку, и разбивает горку с посудой. Девочки, видя такой братнин пример, идут по плохой дороге. Вся семья разваливается…
Но сын в кабак не кидался и водки в рот не брал.
А между тем через знакомых и соседок стали доходить до матери удивительные слухи: то Костя дал по шее какому-то Прошке за то, что тот Прошка будто бы доносил на рабочих… Да что Прошка! Самому начальнику нагрубил Костя! А то, узнала мать, табельщика Удавихина за обсчет схватил за грудки, да и выкинул в окошко!
– Костенька, – говорила мать, нежно гладя черные кудрявые волосы сына, – что это ты, сынку, опять какого-то Прошку прибил? Нехорошо рукам волю давать. Твой отец сроду этим не занимался. А тоже видный из себя был мужчина!
– Да не могу я, мама! Не могу видеть, как с людей семь шкур дерут! Всюду несправедливость! Правый гибнет, а злодей ликует! – убеждал Костя мать.
Вот эти слова и взволновали Елену Тарасовну.
Что несправедливость – это, конечно, правда. Уж кому-кому, а ей, вдове, поднявшей на своих плечах семью в шесть человек, это известно.
Но слова насчет злодея были не Костины. Он их где-то услышал или из книжки вычитал. Книжка про злодея, должно быть, книжка запрещенная, а человек, научивший Костю таким словам, – лицо секретное.
И все-таки Елена Тарасовна не очень испугалась. Покойный муж ее, Кондрат Фоменко, давно, еще в России, будучи железнодорожным машинистом, или, как он себя называл, механиком, помогал секретным людям и как-то даже удачно провез на паровозе одного человека, которого искали жандармы. Елена Тарасовна, узнав об этом, заохала. А Кондрат Фоменко заметил: «Стыдно рабочему человеку не помочь тому, кого полиция за правду преследует».
Елена Тарасовна обрадовалась, когда у Кости появились товарищи.
Сначала стал заходить Кеша Аксенов. Он хорошо играл на гармонике и на гитаре, а сестер Кости стеснялся, даже маленьких.
И как-то сказал Косте недовольным тоном, будто тот был виноват:
«Что это у вас у всех сестры? И у тебя сестры, и у Минея вот тоже…»
«А у Минея есть сестра?» – спросил Костя. Этого он не знал.
«Есть», – ответил Кеша почему-то шепотом и покраснел.
Елене Тарасовне Кеша нравился. Она была довольна, что он к ним ходит.
Однажды Костя сказал, что придут к нему еще три товарища. Мать упрекнула:
– Чего ж заранее не предупредил? Небось гостям водки поставить надо. Или сладкого взять?.. Барышни, может быть, будут?
Костя весело ответил:
– Вот барышень у нас пока что нет.
А насчет водки задумался: видно было, что не знает, пьют ли его друзья водку.
Елена Тарасовна, которая больше всего боялась пьянства, ободрилась: значит, не за бутылкой нашлись друзья. И сама поставила на стол графинчик.
Она присматривалась к гостям: нет, в них не было ничего особенного. Люди как люди. Алексей Гонцов – насмешник, пальца в рот не клади; Миней – этот, видать, ученый – наверное, студент, но тоже веселый человек. А больше всех утешил Елену Тарасовну Иван Иванович Бочаров. Он явился в черной тройке с крахмальным воротничком и при галстуке. Девочкам принес гостинцы – сахарные головки, обернутые в красивую блестящую бумагу. Обертки были разных цветов, и тут поднялась веселая кутерьма – кому какого цвета!
А Иван Иванович, повозившись с девочками, завел с хозяйкой интересный, вежливый разговор:
– Красавицы растут у вас, Елена Тарасовна, а меньшая – вылитый братец Константин Кондратович! Просто кровь с молоком!
Елена Тарасовна, покраснев от удовольствия, заметила:
– Уж больно резвы. Машенька, верите, кукол не нянчит, а все с хлопцами на улице. Разобьются на две партии: одни, значит, англичане, а другие буры – и ну тузить друг друга!
Иван Иванович залился смехом.
– Так ведь, девочка, Иван Иванович, к лицу ли ей драки да сражения?
– А вы не смотрите на то, что девочка! Женщины теперь до всего доходят. Недавно читал про даму-воздухоплавателя, да-с!
Елена Тарасовна руками всплеснула, а Иван Иванович придвинулся ближе и продолжал:
– Нынешние дети слышат: мы про эту самую войну все толкуем, ну и они об том же беспокоятся. Спросите вон их, за что эта война идет, какие где бои были да какие у кого потери, – всё расскажут: что англичане-хищники захотели оттягать алмазные прииски да золотые россыпи у этих самых африканских республик. Навалились на них великой силой, а одолеть не могут. Почему? Потому что против правды идут, а буры за правое дело стоят. И сам лорд Китченер, британский главнокомандующий, не знает, чего уж делать: повернул бы вспять, да министр Чемберлен нажимает – нам, мол, богатства позарез нужны, не отступимся! Во всем теперь детвора разбирается, верно, Елена Тарасовна?
Елена Тарасовна подтвердила и спросила в свою очередь:
– А вы сами, дозвольте спытать, имеете деток?
Иван Иванович махнул рукой:
– Да, мои детки – это уже не детки: один сын в Питере наборщиком работает, другой – в Туле, по моей части пошел, по столярной. А с дочкой не повезло мне, Елена Тарасовна, – муж попался ей нестоящий, пьющий, неуважительный. Съездил я к ним в Тюмень, посмотрел на ихнюю жизнь и говорю: собирайся-ка, Даша, в отчий дом. Ну и привез сюда. Теперь радость имею, внучат нянчу. Тесновато живем, да не в обиде.
– И зарабатываете неплохо?
– Не жалуюсь, Елена Тарасовна. Я ведь в вагонном цехе служу, а опричь того на дому помаленьку работаю, заказы беру. Живем, однако…
– Ах, батюшки! – засуетилась вдруг Елена Тарасовна. – Что же это я? К столу пожалуйте!
Хозяйку уговорили выпить рюмочку, и стало за столом так свободно и весело, как бывало только при жизни мужа.
Елена Тарасовна даже слезинку уронила, подумав: «Вот сын уже взрослый, с самостоятельными людьми ведет знакомство. Посмотрел бы ты, отец, как сидит твой Костя во главе стола и как все к нему со вниманием: «Костя да Костя!»
И она подвигала гостям копченого омуля, своего особого приготовления винегрет, холодную телятину.
Алексей подкрутил тонкие кончики усов, взял в руки Кешину гармонику и, растянув мехи, запел, подыгрывая себе, отрывисто, на одной ноте:
Измученный, истерзанный наш брат мастеровой
Идет, как тень загробная, с работушки домой.
С утра до темной ноченьки стоит за верстаком,
В руках пила тяжелая с пудовым молотком.
Голос у него был неприятно высокий. Пел, обрубая окончания фразы. И аккомпанемент был под стать.
– Словно куру ощипывает, бог с ним! – не выдержал Иван Иванович.
Но Алексей, не смутясь, продолжал:
Он бьет тяжелым молотом, копит купцу казну,
А сам страдает голодом, порой несет нужду.
В деревне тоже голодно, одна лишь нищета,
И холодно и голодно – нужда, нужда, нужда…
– Певец из тебя, прямо скажем, не получился, – заметил Иван Иванович.
Гонцов беззлобно удивился:
– Не понравилось? Ну я другую спою, веселую: про дамочку с ридикюлем.
– Будет! – объявил Иван Иванович. – Кешенька, прими инструмент.
Кеша, улыбаясь, взял у Гонцова гармонику, накинул на шею ремень.
Лицо его тотчас приняло строгое и сосредоточенное выражение. Склонив голову, он выжидательно смотрел на дядю.
Тот сидел за столом, подперев ладонью щеку, так же склонив голову, с тем же строгим и отрешенным выражением.
Плавным жестом он сделал Кеше знак: настроился, мол, запевай!
Вижу, едет барин с поля,
Две собачки впереди,
Два лакея позади…
Так живо, так свободно звучала Кешина песня, что все будто увидели сердитого барина в чудной карете, удивились встрече этой и причудам барским.
Но в песню вступает тихий, дребезжащий голос Ивана Ивановича. Не отнимая ладони от щеки, поводя головой из стороны в сторону, закрыв глаза, он подтягивает:
Две-е собачки впереди,
Два лакея поза-ади…
Медленно и важно этот голос говорит: «Так и надо, чтобы лакеи и собачки. Нечему тут удивляться».
И опять Кеша быстро и весело рассказывает, как в степи повстречалась барину Маша. Кто ты, красавица?
«Вашей милости крестьянка», —
Отвечала я ему,
Отвечала я ему,
Господину своему… —
беззаботной скороговоркой рассыпается Кеша.
И снова те же слова полны иного смысла. Словно одергивая дерзкую девку, словно испуганный девичьим задором ее, серьезно и горестно растягивает старческий голос:
«Вашей милости крестьянка», —
Отвечала я ему…
О злой Машиной доле кручинится, изливается в тоске песня…
А барин все едет, а степь горяча, и сух ветер, и черны поля… И не барин уже, а судьба это едет – «две собачки впереди, два лакея позади». И не собаки это, а лютые звери волки, и не лакеи, а восковые истуканы торчат на запятках.
«Что поделаешь, что поделаешь!» – сетует мудрый старческий голос.
– Ух, и спели! – восхищенно воскликнул Гонцов.
– Страшная песня! – промолвил Миней.
Иван Иванович, как бы оправдываясь, объяснил:
– Песня старинная, не здешних мест. Наши деды певали да в Сибирь ее завезли…
После минуты всеобщего раздумья Иван Иванович стал рассказывать про свою жизнь в Питере, как он ходил в театр слушать всемирно известного артиста Федора Ивановича Шаляпина. И такая охота всем была послушать его, что ночь напролет люди стояли в очереди у кассы, чтобы купить билеты. И Иван Иванович стоял тоже. Всю ночь студенты, и курсистки, и молодые рабочие разговаривали, смеялись, шутили, дожидаясь, пока откроют кассу. А когда пришли в театр на самую верхотуру и запел Федор Иванович, люди заплакали от счастья и гордости: какая сила и красота живет в русском человеке!
Потом Миней предложил почитать книжку.
«Вот оно, – подумала Елена Тарасовна, – откуда Костя выучил, что правый гибнет, а злодей ликует».
Но книжка оказалась про любовь. Один хороший человек, по фамилии Кирсанов, полюбил тоже очень хорошую женщину – Веру Павловну. И любовь у них была такая возвышенная, такая прекрасная, что нельзя было не радоваться за этих людей.
Елене Тарасовне понравилось то, что́ читал Миней своим глуховатым душевным голосом. Чем кончилась история, она не узнала: надо было укладывать спать младших. Через стенку было слышно: молодые люди уже не читали, а рассуждали и спорили о чем-то. И Костин голос произнес с горячностью, поразившей мать:
– Мы теперь горы своротить можем – такую нам в руки силу дали!
Да, гости были славные. Они заходили и после, то поодиночке, то все вместе. И мать привыкла к этим посещениям.
Однажды Костя попросил:
– У тебя, мама, знакомые есть среди солдатиков. Позвала бы в гости кого-нибудь. Люди ж одинокие, оторванные от семейств…
И тут Елена Тарасовна испугалась. Но, чтобы скрыть это, притворно строго спросила:
– Чего это тебе их вдруг жалко стало?
– Так, мама, люди ж молодые… – тянул Костя мягко, но настойчиво.
У него в характере была такая «настырность», точь-в-точь как у покойного отца. Елена Тарасовна поняла, что это вопрос решенный, что сын и его товарищи хотят сдружиться с солдатами, читать с ними книжки – вернее всего, запретные.








