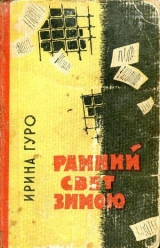
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Ранний свет зимою
ПРОЛОГ
Мальчик проснулся от холода, от шума деревьев.
Ветер бушевал по верхам. Шалаш ходуном ходил, но держался Только сухие ветки скатывались по островерхой крыше. Вокруг скрипело, то вдруг ухало, то свист раздавался.
А дядя Иван спал, похрапывал – хоть бы что! И Кеша, привалившись к дядькиному боку, тихонько сопел, ровно маленький.
Мальчик – у него было серьезное взрослое имя: Миней – осторожно выскользнул из-под овчинной шубы, толкнул товарища:
– Кеша, вставай! Бежим на берег!
– Холодно… – пробормотал Кеша, покорно запахивая на себе одежку, и вслед за Минеем выбрался из шалаша.
Ух, ночка! Черные косматые тучи быстро бежали по небу. Темень. И ветер… Весенний ветер всех ветров быстрее. Не будет нынче ловли. Однако, говорят, в такую погоду сом на берег выпрыгивает. Может, и выпрыгнул уже, а они с Кешей проспали. Все интересное случается ночью. Сколько дней ледохода ждали, а Чита-река ночью вскрылась. Дом богатея Лопухина тоже ночью сожгли. И Жучка ночью ощенилась…
В темноте все казалось незнакомым, чужим. У тропы торчал пенек, а почудилось – тарбаган. Ветер не унимался, но мрак поредел, и видно было, что скоро рассвет. Мальчики знали этот час. Еще копошится под деревьями темь, но она уже непрочная, ноздреватая, рыхлая, как снег ранней весной. А вверху медленно светлеет, яснеет, и вдруг становится видна каждая веточка на самой верхушке осины.
Мальчики спустились к воде, но глядеть в нее, темную, было страшно, словно в колодец. Они побежали прочь от озера к тракту. Вот это дорога. Светлой извилистой речкой катится она меж поросших сосной и лиственницей берегов, плавно огибая сопки. Днем хорошо видно, как бежит она с увала на увал, через степь, через поймы речные… А дальше уж не видать ее, тайга синеет на горбатой спине хребта, но и там где-то, невидимая, вьется дальняя дорога-тракт.
Куда ведет она? Откуда приходит сюда, за Байкал? И где ее конец?
А дядя Иван помнит то время, когда вовсе не было этой дороги, вились по лесу только узкие казачьи тропы, зверь рыскал в чаше, лихие люди поджидали купцов с золотом, не добром нажитым…
Здесь, на тракте, и ветер завывал по-особому: тихо и жалобно, будто устал от дальнего пути, укладывался прямо на дороге в песок, а заснуть не мог – ворочался, подымал пыль, ворошил сухие листья на обочине…
Вместе с ветром донесся издалека смутный гул. Все ближе, ближе, и вдруг – отчетливый крик:
– Подтяни-и-ись!
«И-ссь», – передразнил ветер.
– Партию ведут! – догадался Миней. – Давай, Кеш, на дерево!
Сначала они увидели сверху только длинную серую тень, ползущую по дороге, но вскоре можно было уже рассмотреть отдельные фигуры и даже лица.
И хотя этой дорогой то и знай гнали солдаты множество людей на Шилку, на гиблую речку Кару, в глухие каторжанские места, Миней и Кеша смотрели на арестантов, словно впервые. Кто эти люди, закованные в цепи? А те, что идут за кандальниками, применяясь к их шагу и так же тяжело передвигая ноги, – почему они не убегут? Конвойные устали, глаза у них сонные, никто не заметит. Пригнуться, проползти, скатиться в падушку! А там в тайге затеряться…
За арестантами вразброд шли женщины. Одна несла ребенка, другая держалась за грядку телеги, на которой лежал человек, укрытый с головой рыжим казенным одеялом. На другой телеге, среди всякого скарба, сидела девочка, обнимая пестрый узел.
Когда и телеги проскрипели мимо, мальчики слезли с дерева и побежали за партией. Но движение ее замедлялось, а затем и вовсе остановилось. Вышла какая-то заминка. От хвоста колонны отделился толстый усатый фельдфебель. Прижимая одной рукой к боку «селедку»[1]1
Так в народе называли шашку полицейского.
[Закрыть], а другой делая округлые движения, словно плавая, он подбежал к офицеру и, вытянувшись, стал слушать, что тот объясняет, указывая вперед рукой в перчатке. Арестанты, поломав ряды, стояли, переминаясь с ноги на ногу; некоторые закуривали, поспешно затягивались и тут же передавали цигарки другим. Многие присаживались на корточки, зябко пряча руки в широкие рукава арестантских халатов: иные, сняв с ног разбитые ко́ты, сокрушенно рассматривали их.
Мальчики не впервой замечали арестантов, которые держались всегда вместе и чем-то отличались от других. Были они в таких же, как и все, серых грубых халатах и арестантских бескозырках, плотно обтягивавших голову, так же шагали сбоку их конвойные солдаты с ружьями на плечах и так же подгонял их громкий протяжный окрик команды. Но все это будто вовсе их не касалось. И они вроде даже насмехались над всем этим. Вот в группе таких людей заговорили громко и засмеялись. Сутуловатый унтер-офицер вытянул в их сторону длинную гусиную шею и просительно, без крика, обратился:
– Господа, прошу покорно прекратить разговоры. Вот уж на этапном, пожалуйста!
Один из кучки спросил с насмешкой:
– Как, товарищи, уважим просьбу господина начальника?
И кто-то так же ответил:
– Да уж на первый случай уважим!
И опять все засмеялись. А унтер, втянув шею в воротник шинели, отошел как оплеванный. Придраться ему было не к чему.
– А ведь они не боятся унтера-то! А, Кеша? – спросил Миней.
– Нипочем не боятся, – согласился Кеша.
– Как же так? Унтер поставлен над ними, у него – вон сабля, револьвер…
Кеша молчал.
Мальчики уже не одни наблюдали за тем, что происходило на тракте. Рядом с ними и позади стояли рабочие-лесорубы и мужики. Все новые люди подходили к тракту. Миней заметил, как они окликали арестантов и с ладони в ладонь пересыпали им табачок. Откуда-то появилась артельная стряпуха Федосья. Вынув из-под шали, накинутой на плечи, круглый темный хлеб, она сунулась было к широкоплечему чернобородому арестанту, да, видать, он показался ей слишком гордым, и она с поклоном передала каравай маленькому старичку. Длинные рукава его халата были завернуты чуть не до локтей.
Уже совсем рассвело. Все ожидали команды, все поглядывали вперед. Только двое, будто забыв, где они находятся, и немного отойдя от прочих, разговаривали очень оживленно. Они подошли совсем близко к Минею и Кеше, и мальчики даже оробели, особенно, когда один из арестантов, высокий и очень худой, с рыжеватыми усиками, посмотрел на них.
– Вот, Егор Иванович, типичный российский пейзаж: лес вдали да степь, к-каторжники на пыльном тракте и оборванные мальчонки у гнилого пенька, – слегка заикаясь, сказал высокий товарищу.
Тот был пониже и моложе, коренастый, с круглой русой бородкой. Он ответил:
– Не так уж безобразен пейзаж, Георгий Алексеевич, если в нем присутствует юность. У малышей впереди жизнь. Может быть, они увидят…
Худой перебил:
– Всего вероятнее, увидят то, что и мы с вами. В лучшем случае выпадет им на долю та же дорога, к-которой мы сейчас идем. Если, конечно, до этого не помрут с голоду, не сопьются или не исподличаются…
Бородатый резко повернулся к товарищу:
– Неужели впереди нет просвета?..
– Впереди, насколько я могу разглядеть без пенсне, возвышается господин к-конвойный начальник, – иронически заметил высокий арестант, – и, к-кажется, мы сейчас двинемся…
Действительно, голова колонны зашевелилась.
– Ста-а-а-но-о… – фальцетом завел фельдфебель и закончил, будто кнутом хлестнул: – ись!
Все пришло в движение. Арестанты выстраивались на дороге. Лесорубы, женщины, мальчики двинулись вслед за партией, словно чем-то привязанные к ней. И снова Миней выделил в толпе тех, кто как будто и шел прямее и голову держал выше. Один из этих людей махнул рукой на прощание. Минею показалось – ему.
Потом арестанты под скороговорку конвоя: «Живей, живей!» – зашагали быстрее, и скоро скрип телег, звон кандалов, голоса слились в один смутный гул. Партия скрылась из виду, а люди все еще стояли у дороги и глядели вдаль на облачко пыли, замыкавшее колонну. Федосья крестилась мелким крестом. Мужчины стояли с сумрачными, недобрыми лицами.
Мальчики увидели рядом с собой дядю Ивана. Наверное, он уже давно стоял здесь. Миней тронул его за рукав:
– Дядя Иван, неужто все они разбойники?
– Зачем разбойники? Есть которые люди правильные, которые за народ.
Они еще немного постояли на тракте, глядя в ту сторону, куда увели арестантов.
Там торжественно и непреклонно подымалось солнце.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
СНОВА В ЧИТЕ
На исходе весеннего дня 1898 года в читинском городском саду сидел молодой человек. Раскрытая книга лежала у него на коленях, но он не читал ее.
Город кольцом окружили близкие горы, то со щетиной редких сосен на макушках, придававших месту дикий и печальный вид, то вовсе голые, то покрытые молодой травкой. Дальние хребты были в зеленой апрельской дымке леса.
Не было никаких особых красот в этом ландшафте, но истинное волшебство творилось в воздухе. Небо и сопки каждую минуту по-новому окрашивались солнцем, таким щедрым, словно оно пыталось смягчить суровое лицо этого края.
Набегавшие тучи, тени, ползущие по гривам, ускользающий неверный свет косых лучей меняли характер местности. То она казалась мрачной, застывшей в предчувствии грозы, то оживала, и тогда было видно: победная, с трудом пробившись через ледяной заслон мартовских метелей, вошла в Забайкалье весна…
Солнце скрылось, и в воздухе сразу же похолодало. Да, все здесь было резко, переменчиво. Днем – палящие лучи солнца, ночью – искристый покров инея. На южных склонах гор зацветали лиловым и желтым ирисы и лютики, а в распадках еще лежал снег. Бурная приходила весна с нежно зацветающей ивой, с розовым заревом багульника, со сладкими стонами турпанов.
Стремительно проносилось лето над обглоданными суховеем полями, и вот уже осень глядит карим глазком кедрового орешка, рассыпается кровавыми брызгами брусники.
И наступает долгая-долгая, почти бесснежная зима, морозный туман курится над степью, в ледяном молчании леса слышится только перестук дятлов да протяжный вой волчьих свадеб.
И так же изменчиво было лицо города, разбросавшегося у слияния двух рек.
Еще чернели кое-где деревянные срубы старого казачьего поселка, отодвинутые кирпичными домами чиновно-дворянского областного города, почти полвека назад поставленного здесь на страже новой границы, но уже расталкивала их крутыми боками, как молодая разбитная купчиха, Чита торговая – с лабазами, приземистыми строениями складов, с трактирами и постоялыми дворами для приезжих людей, тучами налетавших в базарные дни.
Отсюда протягивались нити управления делами золотопромышленными, сереброплавильными, угольными. Ставились заводы – лесопильные, кирпичные, кожевенные, овчинные. Тянулся из деревень обделенный удачей люд.
И нарождалась Чита рабочая. Поднимались корпуса железнодорожных мастерских, депо вдоль великого Сибирского пути, пролагаемого с невиданной скоростью, «дабы соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». Так говорилось в высочайшем рескрипте. В спешке этой таился страх перед Японией – опасной соперницей России на Дальнем Востоке.
Второго сентября 1895 года произошла закладка станции Чита на пятой версте по тракту от реки в сторону Верхнеудинска. Забурлила жизнь в рабочей железнодорожной колонии. Со всей России понаехали сюда каменщики, плотники, слесаря, кровельщики и подтягивались постепенно коренные путейцы и тяговики, сцепщики, смазчики, машинисты.
«Все изменилось в родном городе, – думал молодой человек. – А ты сам, Миней? – спрашивал он себя. – Изменился ли ты?»
Ему припомнился белый, с черным ухом, щенок Миловзор. Он был еще мал, слеп, слаб, но на ощупь находил кусочек нагретой солнцем земли и упрямо укладывался на нем.
Миней засмеялся. Два года назад он сам походил на щенка Миловзора.
Сад был пуст. Лето еще не наступило, и только солнечным утром по дорожкам проплывали важные няньки, ведя за ручку дворянских детей, или забредала в глухую аллею парочка: барышня, теребя веточку акации, присаживалась на скамейку, а молодой человек становился позади, облокотясь на спинку скамьи, как перед фотографом.
Сейчас же, вечером, в саду не было никого. Поэтому, когда на дорожке появился белокурый юноша, в суконной куртке, в черном картузе, и направился прямо к Минею, было нетрудно догадаться, что они условились о встрече.
Так и подумал высокий гимназист с бледным лицом, уже давно наблюдавший за молодым человеком. Место для наблюдения было удобное: гимназист устроился за кустами на широком прилавке забитого сейчас досками киоска.
Гимназист сам не знал, чем привлек его внимание незнакомец. Крупная голова под шапкой волнистых волос, чуть откинутая назад, как бы с вызовом. Смуглое с резкими чертами лицо. Выражение глаз, легкие бегучие морщинки, то и дело возникающие у рта, говорили о веселом нраве, об открытой для всего доброго душе.
Теперь, когда в поле зрения гимназиста оказались уже двое и он невольно услышал их разговор, ему стало неловко сидеть за кустами и подслушивать чужую беседу. Но так же неудобно было и выйти из-за кустов.
«Ах, как скверно получается!» – сокрушенно думал он, но продолжал смотреть и слушать.
– Почему опоздал, Кеша? – спросил молодой человек пришедшего скорее озабоченно, чем с укором.
– Работой задавили, Миней. Что ни день, то новые станки. Вот сегодня токарно-винторезные прибыли – всю ночь будем монтировать. Труборезку привезли. Гулевич зверем смотрит. Говорят, приказ такой вышел: ничего не жалеть, людей загнать, а дорогу к сроку закончить!.. – Кеша улыбнулся и добавил: – Гонцов все ворчит, порядки наши ужас как ругает. А глаза веселые и будто хмельные!
Они заговорили тише и пошли по аллее. И так как теперь ничего нельзя было услышать, гимназист выбрался из своего укрытия и в обход через боковую калитку вышел из сада. Он решил познакомиться с этими молодыми людьми. Ему казалось, что они еще вернутся сюда.
Но свернув налево, на длинную пыльную улицу, он увидел их далеко впереди себя и машинально последовал за ними.
Молодые люди медленно шли по немощеной улице, на которой нога погружалась по щиколотку в еще теплый от дневного солнца песок.
– Я хотел тебя предупредить, что в воскресенье мы соберемся, – сказал Миней. – Только не у меня.
– А у кого же? – насторожился Кеша.
– У Григория Леонтьевича Алексеева, директора музея.
– Как? Того самого?
– Того самого.
– Что ты! Что ты. Миней! Да я и подойти к нему постесняюсь! Ведь это же герои, «столпы»! Что мы против них..
Миней с досадой махнул рукой:
– Вот-вот! В этом и беда наша, что мы трепещем перед «столпами»! Послушаешь разговоры про бомбы, динамит да покушения – и сразу почувствуешь себя младенцем. А мы уже из пеленок выросли. Кеша! Мы жизнь знаем, жизнь русского рабочего, и в этом наша сила.
– Вон как ты теперь судишь! – Кеша внимательно посмотрел на друга.
– Подожди, кто-то идет за нами, – тихо проговорил Миней.
Они замедлили шаг, пропустив вперед высокого гимназиста в ловко сидевшей на нем серой шинели. Когда он прошел мимо них, уши его покраснели. Ускорив шаг, он свернул в переулок.
– Чего это он за нами увязался? – озабоченно спросил Кеша.
– Кто его знает… Это, кажется, Чураков. Я его как-то видел с Павлом.
– Свой?
– Не знаю, – пожал плечами Миней.
Свернув с пыльной дороги, друзья пошли по обочине. Миней закурил.
– Как же ты в Нерчинске жил? – спросил Кеша. – Ты ничего еще толком не рассказал.
– В Нерчинске?
Перед глазами Минея возник рассыпанный у подножия холмов, словно горсть орехов, городок, где он провел два года; двухэтажное кирпичное здание, крепкие, с остроконечными столбами ворота. Форменная тюрьма, если бы не вывеска на фасаде и два пыльных стеклянных шара, синий и красный, выставленные в окнах, чтобы даже неграмотный сразу мог распознать аптеку. Да и на всем городе лежал особый отпечаток, будто на него падала зловещая тень семи тюрем Нерчинской каторги.
– Поехал я туда с новеньким дипломом. Помнишь, как я радовался, наконец, после стольких мытарств, получив его? – спросил Миней.
– Еще бы! Такая важная бумага с орлом наверху, – смеясь, сказал Кеша.
– И внизу тоже… А слова-то какие! – Миней залпом произнес: – «Совет Императорского университета сим свидетельствует, что медицинский факультет сего университета на основании параграфов 36—40 приложения к статье 596 устава врачебного, том 12 свода законов, удостоил выдержавшего установленное испытание… – он ткнул себя в грудь, – в степени аптекарского помощника – со всеми правами и преимуществами сей степени…» Уф!.. После такого пышного вступления в «степень» «права и преимущества» посыпались на меня…
– Да, помню, ты никак не мог найти службу.
– Ни к одной читинской аптеке не приписывали! Оказывается, мой хозяин настрочил на меня донос еще во времена моего ученичества: имел, мол, столкновение с администрацией, непочтителен…
– Он жаловался даже дяде моему, говорил, что ты его Мизю портишь! – добавил Кеша.
– Вот-вот… – Миней сморщил лицо и нудным голосом затянул: – «Мизя! Я взял себе ученика, а не тебе учителя! С ним ты когда-нибудь попадешь прямо на вешалку!»
Хозяин имел в виду виселицу.
Молодые люди засмеялись, вспомнив добродушного толстощекого сына аптекаря Мишу Городецкого, которого дома звали Мизей: так он в детстве выговаривал свое имя.
– И я уехал в Нерчинск, – продолжал Миней. – Почему я так радовался диплому? Ведь это надежная «крыша». Для нашего дела, Кеша, самое опасное быть «лицом без определенных занятий». Такое «лицо» обязательно попадется на глаза полиции. Другое дело «приличный» молодой человек, знающий латынь, с дипломом…
– С двумя орлами, – подсказал Кеша.
– О двух головах каждый, – отозвался Миней. – Орлы-то и помогли мне устроиться в Нерчинске. Но не в этом дело. Познакомился я там с одним ссыльным. Представь себе: простой, веселый человек. На первый взгляд ничего особенного. Разве только усмешка. Располагающая…
Миней затянулся, выпустил легкое облачко дыма. Отчетливо встало перед ним лицо Петра Петровича Корочкина.
– Кто же он? Знаменитый, должно быть? Герой? – нетерпеливо спросил Кеша.
– Знаменитый? Нет, такое слово к нему не подходит. Герой? Да, пожалуй. Это настоящий рабочий вожак. Сам он питерский рабочий…
– Марксист? – перебил Кеша.
– Конечно. Он-то и объяснил мне многое. Совсем по-иному, чем наши старые знакомые объясняли… Вот придешь в воскресенье – поговорим.
Они простились. Кеша зашагал дальше, к рабочему поселку, а Миней прошел вверх по речке Кайдаловке и вскоре постучал в окошко низенького домика с широкой скамейкой у ворот.
Глава II
С НЕДОЗВОЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
Дома была одна только Таня. Она вертелась перед зеркалом.
Сняв с керосиновой лампы абажур, Таня ставила ее то на пол, то на подзеркальник, то, высоко подымая, рассматривала себя со всех сторон.
– Хорошо? – спросила Таня, едва Миней переступил порог.
– Неплохо, – ответил он, с улыбкой глядя в зеркало, но не на платье, а на оживленное Танино лицо с чуть выпуклыми глазами и темным пушком над верхней губой.
Таня перехватила взгляд брата и сделала ему в зеркало гримасу.
– Да ты сюда, сюда смотри! – Она взбила оборки на плечах.
Миней послушно обошел вокруг сестры.
– Бравенькое платьице, – определил он ходким забайкальским словцом.
– «Бравенькое»! – передразнила Таня. – У-у, медведь!.. Это шик-блеск, последний крик… да что крик! – вопль моды! А носить эту прелесть будет… крыса! Глупая болтливая крыса!
– Первый раз слышу о болтливых крысах. Новости зоологии! – добродушно усмехнулся Миней.
Таня была «шитницей» – так значилось в ее документах. И на ней было платье штабс-капитанши Размашихиной.
– Может быть, ты думаешь, Миней, что я завидую? – вдруг спросила Таня, порывисто обернувшись к брату.
– Ну что ты, Таня-Танюсик, черный усик!
Таня убежала за перегородку и вскоре вернулась в простом ситцевом платье. Не «шик-блеск» и не «последняя мода» – оно отлично сидело на ее высокой статной фигуре.
– Да, забыла тебе сказать: угадай, кто здесь был, у отца?
– Кто же? Заказчик какой-нибудь?
– Вот еще, заказчик! Это тебя касается.
– Интересно! Кажется, я уже вышел из того возраста, когда к отцу приходили на меня жаловаться.
– А вот и не жаловаться! Как раз наоборот… Ой, у меня тесто в печке!
Таня убежала на кухню, загремела там чем-то и крикнула:
– Твой хозяин приходил, аптекарь Городецкий, вот кто!
Заинтересованный Миней вошел в кухню. Сестра, в стареньком переднике и с засученными рукавами, снимала с противня румяные пышки, перекидывая их с ладони на ладонь.
– С чего бы это он меня вспомнил? – удивился Миней, разламывая пышку и дуя на пальцы.
– Не хватай! Горячие!.. Приглашал тебя на службу. Жаловался на плохие времена. У него аптекарский ученик взял из кассы семьдесят пять рублей и сбежал.
– Ах, вот что! Тогда действительно наступили плохие времена.
– «Не думайте, уважаемый, – говорит он папе, – что мы так уж всем довольны…»
– Не сомневаюсь! Только их недовольство совсем другого рода, чем наше.
Таня хотела еще что-то рассказать про аптекаря, но в это время с улицы негромко и дробно постучали в окно. Миней прильнул к стеклу; за окном стояла темень, ничего не видать. Он вышел на крыльцо. В потемках у ворот белело платье.
– Сонечка! Да зайдите же! – воскликнул Миней.
– Нет-нет, ни за что! – торопливо проговорила Сонечка. – За углом меня Надя ждет, горничная. Я лучше здесь вам все-все скажу…
Миней послушно опустился на широкую скамейку рядом с Сонечкой. Сейчас он мог разглядеть ее лицо. Все в нем было мелким: и милые карие глазки, и белые зубки, и вздернутый носик. Каштановые кудряшки, выбившиеся из косы, тоже были мелкие. А все вместе создавало пресловутую Сонечкину миловидность, которую иные называли даже обаянием.
Она перевела дух и заговорила…
Она побежала сюда, как только услышала новость. Сообщил ее управляющий вдовы Тарутиной, молодой человек с брюшком и смешной фамилией – Собачеев. Он играл в карты с отцом Сонечки, и она сама приносила им в гостиную водку и закуску. Вскрывая карточную колоду, Собачеев рассказал о том, что Ольгу везут в Горный Зерентуй. Ее сослали куда-то в другое место, а она перепросилась… к мужу! Да-да, к мужу! Он тоже ссыльный – и больной, в чахотке. Завтра мать Ольги, Тарутина, поедет на почтовую станцию повидать дочь. Ольга Глебовна нипочем не пожелала заехать домой, хотя, уж конечно, ей разрешили бы…
Сонечка говорила, захлебываясь, ужасаясь и торопясь.
«Завтра»… «Ольга»… «К мужу», – стучало в ее головке. Пришел наконец «роковой момент»: она может «отомстить» Минею. За что отомстить, Сонечка и сама не могла ответить. Разве он пренебрегал ею? Нет, Миней всегда был к ней внимателен. Но что это за внимание!.. Она никогда не будет значить для него столько, сколько значит Ольга. И что он нашел в ней? Никакой женственности! Солдат в юбке…
Она выложила все, что с таким злорадным чувством несла сюда. И тотчас поняла, что ошиблась: Миней совсем иначе, чем она предполагала, принял ее рассказ.
Он не опечалился и не разозлился, даже не удивился, что у Ольги – муж… Нет! Он и не думал «страдать». Только обрадовался, что Ольга едет. А когда Сонечка сказала, что Ольгин муж в чахотке, Миней огорчился. Огорчился так, будто речь шла о близком ему человеке, хотя минуту назад он и не знал о существовании Ольгиного мужа.
Все это, с одной стороны, принесло Сонечке облегчение: может быть, Миней и не так уж «увлекается» Ольгой? А с другой стороны было очень досадно: этого Минея никогда не поймешь, все у него не как у простых людей.
На всякий случай Сонечка заплакала. Она любила и умела поплакать.
Минея же поразили ее слезы. Он повернулся к Сонечке, сжал ее маленькие пухлые ручки и сказал сердечно:
– Хорошая вы, Сонечка!
Ну конечно. Миней отнес ее слезы к Ольге, к ее судьбе. Его трогает именно это. Сонечка обиделась, заторопилась. И вовремя: послышались чьи-то тяжелые шаги.
– Это мои старики. – Миней проводил Сонечку до угла и, вернувшись, встретил родителей у калитки.
Как часто он их представлял себе вот так вдвоем, медленно идущих рука об руку!
Отец, строгий, даже суровый, в стареньком темном сюртуке, и мать, с трогательным доверием склонившаяся к нему. Седые волосы, гладко причесанные, видны из-под ее черной кружевной косынки, а глаза такие же, как у Тани, чуть выпуклые, но давний блеск их потушили годы и заботы.
Отец все умел и никогда не преуспевал. Был учителем, однако брался и за ремесло: столярничал, плотничал, переплетал книги… Мать шила, стирала, ухаживала за больными.
Большая семья подымалась, как весенние дружные всходы. Когда старший брат начал работать, младший пошел в школу. Дети вырастали и разъезжались по Сибири.
Миней поцеловал мать и сказал виновато:
– Мама, я ночевать не буду. Мне к товарищу надо.
Отец нахмурился:
– Ты уж совсем не стал жить дома…
И сейчас же, смягчая упрек, заговорила мать:
– Так, может, поужинаешь с нами?
В ласке ее голоса так и слышалось: «Что мы будем стеснять тебя, взрослый наш сын! Ты и сам знаешь, как жить!»
И отец умолк, как всегда покоренный этой мягкой и непреодолимой силой матери.
После полуночи кто-то забарабанил в окошко дома. Высунулась заспанная, недовольная Таня:
– Да что это? Ни днем ни ночью покоя нет!
Кеша, который вообще робел перед Таней, совсем растерялся и молча стоял под окошком. Таня спросила строго:
– К Минею?
– Да-да! – подтвердил Кеша. – Передайте Минею, чтобы к утру был на почтовой станции.
– Он часа два как уехал, – сказала Таня и захлопнула окошко.
Оставшись один, Кеша осмелел и пропел, правда потихоньку: «Таня-Танюсик, черный усик!»
Сосед Мартьян Мартьяныч занимался извозом, имел лошадь – доброго ломового коня гнедой масти. На него-то и рассчитывал Миней. Мартьян Мартьяныч делил мужчин на «стоящих» людей и «вертопрахов». Миней, хоть и озоровал в детстве, попал в разряд «стоящих». Служил в аптеке, деньги приносил отцу с матерью. Водку пил, зная меру. Сейчас парню край нужен был конь! Пришлось уважить.
Было далеко за полночь, когда Миней выехал на тракт, рассчитывая к утру поспеть на почтовую станцию. Пока будут менять лошадей, он, быть может, сумеет поговорить с Ольгой.
«Почему она не дала мне знать?.. Не удалось? Наверное, стражники глаз не спускают! Какой она стала, Ольга?» – думал он.
Уже стало рассветать, когда не привычный к седлу Гнедой отказался идти дальше.
Пока Миней понукал и уговаривал его, на дороге показался экипаж. Пара сильных лошадей во весь дух мчала его по направлению к почтовой станции. В экипаже сидела, заливаясь слезами, вдова Тарутина. Собачеев поддерживал ее под локоть. Две тощие старушки, отвернувшись друг от друга, подпрыгивали на переднем сиденье. Лакированный ковчег, ныряя в волнах пыли, пронесся мимо.
Миней, потеряв терпение, сломал ветку и хлестнул Гнедого по боку. Упрямец рванулся с места и такое стал выделывать ногами, что у Минея голова пошла кругом. Тщетно натягивал он поводья – конь продолжал скачку, опасливо кося глазом, пока всадник не догадался бросить свой хлыст.
Занятый тем, чтобы удержаться в седле, Миней отвлекся от мыслей об Ольге. Но, когда на бугре показалось скучное казенное здание почтовой станции, беспокойство и нетерпение охватили его.
Он бросил поводья выбежавшему со двора мальчишке и поднялся на крыльцо. В просторных сенях ему преградил путь усатый урядник.
– Вам что? – сурово спросил страж, напирая грудью на Минея.
Миней не успел и слова сказать, как из избы послышался повелительный женский голос:
– А ну, пропустите: это ко мне.
Усач посторонился, и Миней, войдя, увидел Ольгу. Как же изменилась она, родная! Сердце у Минея застучало сильнее – так по-новому хороша была Ольга.
Косы она срезала, но короткие светлые волосы не портили ее. Да полно, красива ли она? Черты лица неправильны: рот великоват, подбородок упрямо выдвинут. Но такой веселой энергией, таким оживлением освещено лицо ее, что и красавица померкла бы рядом.
Ольга поднялась из-за стола, на котором стояли самовар и налитые, но нетронутые стаканы. На лавке сидела ее мать, Дарья Ивановна Тарутина, крупная старуха с таким же упрямым подбородком, что и у дочери.
Ольга бросилась к Минею, легко вскрикнула, так крепко сжал он ее руку, усадила против себя. Разглядывая, проговорила негромко:
– Вон какой вы стали! Еще медвежатистей! – И добавила совсем тихо: – А у меня муж тяжело болеет. Но, может, выхожу… Вот еду…
Резким движением руки она откинула назад волосы, и Миней отметил этот новый жест Ольги, которым она, казалось, отгоняла тяжелые мысли.
Дарья Ивановна низким, как у дочери, голосом спросила:
– Олечка, дочка, что же будет?
На лице Ольги появилось выражение нетерпения и скуки. Словно продолжая прерванный разговор, она ответила:
– Так и будет. У вас своя жизнь, у меня своя. Что для вас счастье, то для меня тоска и мука. Поезжайте, мама, не теряйте времени. Сами всегда говорите: «Моя минута золота стоит». Видите, помню все присказки ваши…
Старуха уловила насмешку и тяжело подняла с лавки свое грузное тело. Ольга подошла к матери, обняла ее. Не разжимая губ, Тарутина поцеловала дочь, затем тихо проронила:
– Олечка, вернись, ежели что…
И махнула рукой, будто знала: никаких «ежели что» не будет. Через минуту Собачеев и тощие старушки подсаживали Дарью Ивановну в экипаж.
Ольга вышла на крыльцо, поглядела на мать и, не дождавшись, пока экипаж скроется из виду, вбежала в избу.
– Мне губернатор разрешил свидание с родными. Вам известно? – холодно спросила она заглянувшего в дверь урядника.
Усатая физиономия исчезла. Ольга, задвинув на дверях засов, сбросила с себя жакетку, подпорола подкладку и вытащила тонкие, отпечатанные на гектографе листочки.
– Получайте, Миней! Свежие, питерские! И еще есть!
Она выдвинула из-под лавки корзину, разбросала вещи и достала пачку брошюрок.
– Ох, Ольга, ну и удружили! – повторял Миней, пряча тоненькие листочки в карманы, под тужурку, в сапоги. – Ну и удружили землякам!
А она торопила его:
– Да рассказывайте же, что у вас…
– Ну что же, работаем. Бесплодные споры со «староссыльными» кончились. Есть организация. Из рабочих железной дороги. Люди молодые, не трусы. Бастовали успешно. Кружок у нас. Читаем Маркса…
Ольга перебила:
– Из старых знакомых есть кто-нибудь?
– Кешу Аксенова, дружка моего, помните? Вот он…
– Кеша? – удивилась Ольга. – Ведь он же еще мальчик…
– Вырос.
Она усмехнулась, но тотчас серьезно спросила:
– А вы сами, Миней, самоопределились? Окончательно?
– Я стою на позициях марксизма, – ответил он краснея, и сразу, как бывало когда-то, почувствовал себя моложе Ольги.
– Иначе и не думала… Я часто вспоминала вас, Миней. Нашу дружбу, нашу Читу, вот эту степь…
Она подошла к окну, приникла лбом к раме, задумалась.
– Вы понимаете, какое время сейчас для нас настало? – спросила Ольга, порывисто оборачиваясь. – Вот я слышала Владимира Ульянова. Это было незадолго до его ареста. Он говорил о наших задачах. Говорил очень просто, непривычно для нас. Почему непривычно? Да ведь мы привыкли к тому, что в речах наших интеллигентов зерно мысли плотно укутано шелухой разнообразных «но». И вдруг шелуху эту отбросили, отмели, и перед каждым стал вопрос: кто мы, я, вы?.. Чего мы хотим? Реформишек, уступочек или социальной революции? Это сейчас надо решить, именно сейчас, когда закладывается фундамент будущего. Рабочий уже понял, что враг его не только отдельный хозяин Иванов или Петров, а капитализм в целом. И бороться надо, – не камни в окна кидать, а идти класс против класса. Как в песне поется: «На бой кровавый, святой и правый…» Я, наверное, Миней, сбивчиво говорю…














