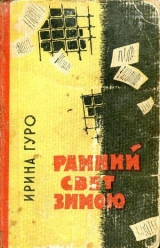
Текст книги "Ранний свет зимою"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Глава V
ГИМНАЗИСТЫ
Отец не давал денег. Где-то далеко шумели бульвары, сверкали огни реклам, пробегали фиакры, шикарные молодые люди бросали на ветер сотенные, удивительные приключения ожидали счастливцев в многолюдных городах. Жить стоило именно так или совсем не стоило!
Впрочем, могло быть и по-иному: он, Ипполит Чураков, – только никто не знает его настоящей фамилии, у него есть другое, конспиративное имя, – глубокой ночью крадется мимо городовых. В кармане у него бомба. Он пробирается в роскошную виллу и бросает бомбу в спальню… министра! После этого сразу происходит революция. Ипполита как опытного революционера посылают на экспроприацию. Первым делом он берется за своего отца. Ипполит гордо заявляет: «Мой отец – денежный мешок! Толстосум! Все его деньги переходят в организацию революционеров».
Разоренный отец раскаивается, что был так жесток к единственному сыну. Но уже поздно. Надо было в свое время раскошеливаться.
Но Чураков-старший ничего не предчувствовал и денег не давал.
В гимназии учиться было скучно. Ипполит не верил, что его могут там научить чему-нибудь путному. Отец, который про всех в городе знал разные пакости, рассказывал и об учителях: словесник Мандрыка, всем известно, алкоголик, уже чертей ловит, скоро его свезут за мост, в сумасшедший дом. Латинист Вержбицкий, как получил Станислава третьей степени, целовал губернатору руки. А молодой учитель истории, чудак, каких свет не видел, все деньги отсылает женщине, с которой и не обвенчан вовсе, а сам целой рубашки не имеет.
И только директора, Адама Адамовича Козей, Чураков-отец уважал и любил рассказывать, как они вдвоем ездили за границу и вместе кутили в каком-то кабачке с буршами – немецкими студентами.
Никакая гимназия и даже университет не могли научить Ипполита тому, чему способен был научить его отец, Аркадий Николаевич, знавший жизнь как свои пять пальцев.
Так говорил Чураков-отец… Но денег не давал.
Да, отец ездил за границу, швырялся сотнями, красил бакенбарды, вел роскошную жизнь, а для единственного сына жалел копейки. Денежный мешок. Толстосум.
Еще в шестом классе Ипполит поделился своим мнением об отце с одноклассником Павлом Шергиным. Павел с жаром поддержал:
– Твоего отца презирают все порядочные люди в городе! А этот их «ВОСОПТ» – «Восточно-Сибирское общество промышленности и торговли» – знаешь как расшифровывают? «Воры Сибирские, Обиралы, Подлецы, Торопыги». Торопятся поскорее сделать у нас, как за границей, чтобы без помех наживаться.
В седьмом классе Павел стал совсем взрослым; курил почти открыто, положенный гимназисту «ежик» заглаживал. Чуракова он начал сторониться. У него появились новые друзья, не гимназисты даже. Ипполит пробовал заводить с ним прежние разговоры, но Павел отмалчивался и однажды сказал: «Надо учиться у жизни, а в гимназии – какая жизнь!»
Знакомый студент из Томска, приезжавший на каникулы, дал Ипполиту брошюру «Кто чем живет». Ипполит с таинственным видом вызвал Павла в уборную, обычное место сборищ и бесед гимназистов, и показал ему брошюру. К удивлению Чуракова, Шергин сказал, что уже читал ее, но если Ипполит отдаст книжку «в общее пользование», то это будет благородно с его стороны. Ипполит сообразил, что если книгу просят не просто почитать, а дать «в общее пользование», значит, есть какая-то организация. И он сразу же загорелся, он не желал быть в стороне.
Через Павла он получил несколько полулегальных книжечек. Они показались ему скучными. Цифровые выкладки Ипполит всегда пропускал. Может быть, он узнал бы и больше, но в то лето он влюбился в Сонечку Гердрих, самую интересную барышню в городе. Отец ее, податной инспектор, был вдов, и дочке предоставлялась полная свобода гулять, кокетничать, выписывать шляпки из Иркутска и экстравагантно одеваться.
Сонечка была старше Ипполита. Это мучило его. Ему казалось, что именно в этом и лежит причина Сонечкиной холодности. Но однажды ее подруга, гимназистка Катя, открыла ему тайну: Сонечка влюблена в Минея, который служит в аптеке. «Это необыкновенная личность! – шептала Катя. – Он читает заграничную литературу, сам пишет какие-то статьи и вообще очень умный!»
Ипполит начал ходить с револьвером в кармане и думать о самоубийстве. Потом он решил убить Минея. Он бродил около аптеки Городецкого и сделал удивительное открытие: аптекарский помощник Миней оказался тем самым молодым человеком, которого Ипполит встретил в городском саду. Ипполит вспомнил белокурого мастерового и нечаянно подслушанный разговор.
Это уже походило на настоящее приключение. Ипполит стал заходить в аптеку и вскоре глубоко разочаровался. Миней, правда, носил пенсне на шнурочке и обладал той мужественной красотой, которой всегда завидовал Ипполит, но при всем этом Миней был настоящим аптекарским помощником: развешивал порошки, отпускал микстуры и все это делал тщательно, сосредоточенно. Совершенно ясно, что, будь Миней выдающейся личностью, он не увлекался бы порошками и уж во всяком случае занимался бы ими со скучающим и небрежным видом.
Но все же Ипполит решил поговорить с Минеем и зашел в аптеку еще раз.
– Какая жара! – заявил он, снимая фуражку, и попросил сельтерской воды с сиропом.
Миней тотчас принес запотевший сифон. Подняв стакан, Ипполит произнес с горечью, многозначительно глядя на Минея:
– Вот так мы и живем в нашем богоспасаемом городе! Потеем, пьем воду… и никаких высших интересов!
Миней недоуменно поднял брови и простецки ответил:
– А у нас в аптеке есть патентованное средство от потливости.
Нет, в этом человеке не было ничего замечательного! Сонечка, просто провинциалка: ей лишь бы пенсне и длинные волосы!
Вечером того же дня к Минею зашел Павел Шергин.
– Ты Чуракова знаешь? – спросил Миней.
– Конечно. Мы с пятого класса вместе, он на второй год оставался.
– Ну и как он?
– Знаешь, он человек мыслящий. Я ему кое-что давал почитать. Думаю, его можно привлечь в кружок.
– Не привлекай.
Павел удивленно вскинул глаза на товарища:
– Ты это из-за отца?
– Нет, отец здесь ни при чем.
Больше они не упоминали о Чуракове, а заговорили о кружке учащихся.
Кружка еще не было. Но были гимназисты Павел Шергин и Андрей Алексеев и ученик городского училища Тима Загуляев. Они давно уже читали нелегальные книги и обменивались мнениями о прочитанном.
Все трое хотели учиться. Но совсем не тому, чему их обучали в гимназии или в городском училище. Они хотели собираться тайно, читать запрещенные книги, искать пути изменения мира к лучшему. Для этого и нужен был кружок.
Шергин полагал, что руководство кружком должен взять на себя Миней. Павел знал его давно, еще в ту пору, когда двенадцатилетний и очень серьезный Миней с клеенчатой тетрадкой в руках в первый раз пересек гимназический двор, усаженный молоденькими деревцами черемухи. Потом Павел увидел его в классе, в ожидании экзамена. Миней сидел среди других сдающих экзамен экстерном и, подняв глаза кверху, вполголоса повторял спряжение вспомогательных глаголов «зайн» и «хабен». Павел ожидал встретить Минея среди вновь поступивших – ведь он выдержал экзамен. Но Миней не смог учиться в гимназии: ему надо было зарабатывать деньги, помогать семье. Он смотрел на гимназистов свысока, и Павлу было нелегко сблизиться с ним. Тем более, что у Минея уже был неразлучный друг – белобрысый парнишка из мастерской, Кеша Аксенов.
Но дружба между Минеем и Павлом все же завязалась.
Шергин переходил из класса в класс. Миней переходил с места на место в поисках заработка. Прошли годы, и выяснилось, что на многие стороны жизни они смотрят одинаковыми глазами. И тогда дружба их еще более окрепла.
Когда Павел Шергин предложил Ипполиту Чуракову дать книгу «в общее пользование», он имел в виду библиотеку, которую уже давно собирали они с Минеем.
За книгами в ту пору особенно пристально следили гимназическая администрация и всякое начальство. Оно не сомневалось, что преступные идеи, распространявшиеся все шире, вычитаны из пагубных книг бессовестных сочинителей. Царя убили тоже люди грамотные, книжные! Страшная сила заключалась подчас в печатных строчках самых невинных на первый взгляд произведений с мудреными научными заглавиями. На обложке одно, а под обложкой другое. Все прочесть, конечно, просто невозможно. Но где-то там, в этих страницах, и коренится призыв к ниспровержению. Тонко все сделано! Крамола – как блоха в одежде: поймал бы, задавил, да поди слови!
Управление по делам печати выпустило солидный каталог в коленкоровом переплете. Он содержал 1006 названий «запрещенных к обращению и перепечатанию в России книг». Кроме того, следовало руководствоваться «Алфавитным списком произведений печати, кои не должны быть допущены в публичных библиотеках и общественных читальнях». В первую очередь запрещался Маркс. Ну и, конечно, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. И даже то, что еще недавно было доступным, легальным: Вольтер, «Физиологические очерки» Молешотта, Сеченов.
Мысль о «своей библиотеке» давно уже зародилась у Павла с Минеем. Обоих увлекали натуры цельные, пламенные. При свече до утра шелестели страницы любимой книги, и бесстрашный революционер Овод входил в тесную каморку гимназиста как друг и соратник.
Миней знал много других книг, которые учили жить, любить и ненавидеть. Он дал Павлу почитать «Спартака» Джованьоли и «Углекопов» Золя.
Молодые люди восторженно повторяли строки заграничного запрещенного издания Пушкина:
Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу…
И целый мир открылся им, когда они впервые развернули «Что делать?» Чернышевского.
На дно старого сундука, служившего книжным шкафом, первой, бережно обернутая в газету, легла эта книга, прошедшая через много рук, перечитанная много раз.
Прошло полгода. Из книг, собранных товарищами, полученных от приезжавших на каникулы студентов, от старых ссыльных, составилась порядочная библиотека. В ней появились: Карл Маркс – «Манифест Коммунистической партии», «Наемный труд и капитал», «18 брюмера Луи Бонапарта», томик Зибера о Карле Марксе, статьи Писарева, Добролюбова, Герцена, Флеровского «Положение рабочего класса в России» и многие другие.
Павел Шергин жил с матерью, Марией Александровной. Отец его, ссыльный, умер на Кадае. В городе давно о нем забыли, а Мария Александровна была из состоятельной семьи, и читинское «общество» признало ее. Она давала уроки музыки детям влиятельных в городе лиц.
Шергины занимали две комнаты во флигеле. Флигель имел чердачное помещение, не очень просторное, но сухое, со скудным светом, падающим в слуховое окно. Чердак был заброшен, и поэтому Мария Александровна очень удивилась, когда Павел и его товарищ Миней застеклили чердачное окно.
Павел объяснил:
– Да неудобно как-то: стекол в окне нет, перила на крыльце поломаны…
И заодно починил перила.
Мария Александровна была доверчива и нелюбопытна. Белье сушила во дворе, на чердак никогда не поднималась.
На чердаке-то и хранилась библиотека.
Весной каменное здание гимназии, словно снежным облаком, окутывалось белым цветом черемухи. Ветви деревьев льнули к оконным стеклам.
Директор, действительный статский советник Адам Адамович Козей, считал открытые окна в учебном заведении затеей вредной: учащийся приходит в гимназию для получения знаний, а не для того, чтобы высовываться в окна по пояс и перемигиваться с прохожими.
В актовом зале мерцал натертый до жаркого блеска паркет.
На стене против света висел портрет молодого императора во весь рост.
Под ним стояла бронзовая доска с датой посещения гимназии государем, тогда еще наследником – Николаем Александровичем. Под стеклом на подставке, на чистом листе развернутого альбома – подпись самодержца и ручка, коей он сию подпись учинил. Еще во время высочайшего посещения было замечено, что гимназисты «имеют расхлябанный вид», приветствуют не дружно, а кто во что горазд. Адам Адамович принял мудрое решение: затребовал из резервного батальона дюжего фельдфебеля с рыжеватыми усами. Усы были смешные: тонкие, а на концах пушистые кисточки. Из-под усов выглядывали зубы, редкие и острые, как у грызуна.
С первого взгляда гимназисты прозвали его «тарбаганом». На доске рисовали тарбагана на задних лапах в бескозырке и мундире.
У фельдфебеля была громкая фамилия: Скобелев. Гимназисты упорно отбрасывали первую букву. Рыжий был не обидчив. «Напррра-во! Нале-во! Подбери живот! Грудь колесом, зад ящиком!» – раскатывалось по гимназическому двору.
Гимназисты все делали наоборот.
За кустами прятались первоклассники, наблюдали за происходящим, улюлюкали и свистели. У фельдфебеля чесались руки, но насчет мордобоя было специальное упреждение от начальства: господ гимназистов выучить без рукоприкладства.
Рыжий совсем потерял голову: полк новобранцев легче обработать!
Репетировали посещение высокопоставленного лица.
– Я есть, допустим, его превосходительство губернатор… Подходю. Отчиняю дверь. Здоровкаюсь. Здорово, ребята! – взревел фельдфебель.
Класс загудел, как улей, засвистал, заухал.
Служака растерянно стоял посреди класса, кисточки на его усах дрожали.
Тогда поднялся Павел Шергин. Стройный, подтянутый, он спокойно и деловито объявил от имени всех, что они, гимназисты, люди штатские, муштре не поддадутся и лучше всего ему, фельдфебелю К о б е л е в у, от этого дела отказаться.
После этого «тарбаган» в гимназии не появлялся. А инспектор Кныш, не будучи в курсе дела, пожелал проверить выучку семиклассников: «Посмотрим, сколь усвоена вами наука обращения с лицами высокопоставленными». Он поднял жирные плечи и медовым голосом провозгласил: «Здравствуйте, господа!» Никто не ответил. Прошла минута, другая. Широкое лицо инспектора начало медленно покрываться розовыми пятнами. Но в это время из-за спины его раздался звучный голос:
– Здравствуйте, дети!
– Здравствуйте, Кирилл Денисович! – стройным хором ответили великовозрастные ученики..
Учитель литературы раскланялся с инспектором и пошел к кафедре. Урок начался, будто ничего не случилось. В классе стояла напряженная тишина, но это была тишина уже совершенно другая, потому что Кирилла Денисовича Мандрыку любили.
Мандрыка был широкоплеч, ходил по-медвежьи, косолапя, синий форменный сюртук сидел на нем неловко. Жил он один, так и не сблизившись ни с кем в городе.
Когда учитель литературы шел по гимназическому двору в черной широкой пелерине, тяжело ступая и наклонив к плечу большую голову, он казался гимназистам очень одиноким и кем-то обиженным.
Кирилл Денисович любил литературу и был требователен к ученикам. Если гимназист начинал мямлить у доски, он тотчас обрывал его: «Иди, иди, пономарь! Тебе только над покойником псалтырь читать!»
Говорил он всем «ты», и если сердился, то называл учеников «милостивыми государями», мягко произнося «г», почти как «х».
Он любил хорошее, выразительное чтение и заставлял на память повторять целые страницы, особенно из Гоголя.
Класс замирал, когда сам Кирилл Денисович своим звучным голосом начинал читать: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!..» Слова, произнесенные им, приобретали чудесную силу, раздвигали ненавистные стены казенной гимназии; они говорили о далекой и неизвестной им, сибирякам, и все же русской, природе, с кувшинками на затянутых тиной ставках, с белыми хатами-мазанками в вишневых садочках, о людях, которых никогда не видели читинские гимназисты – в смушковых шапках и шароварах «шириною с Черное море». Родина, Россия-мать представлялась просторной, величественной, от моря и до моря.
И перед гимназистами стоял уже не мешковатый, стареющий человек с припухшими глазами, с красными жилками на дряблых щеках. Богатырски расправлялись плечи учителя, чу́дным огнем сверкали его глаза, и звучный голос уводил в мир народной фантазии.
Как-то Ипполит Чураков спросил:
– Что хотел сказать Гоголь, уподобляя Россию чудесной птице-тройке? Всем известно, что Россия государство отсталое, плетущееся в хвосте Европы. Как же понять слова писателя о России, перед которой «летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»?
Кирилл Денисович рассердился, сказал в сердцах:
– Гениальный писатель наш Николай Васильевич Гоголь любил… да-с, любил народ русский! И в безграничной любви своей верил в его великое предначертание. Убежден был в том, что он поведет за собой другие народы и страны. А каким путем сие возвеличение произойдет, то уж не дело литературы. Так-с, милостивый государь!
Мандрыка запивал редко, но тогда уже неделями его не видели в гимназии.
Говорили, что в такие дни Мандрыка мечется по квартире, ломает все, что попадет под руку, и, плача, кричит, что злодеи свели с ума великого Гоголя. И нет справедливости на земле.
Инспектор же Кныш, растягивая в злорадной улыбке лягушачий рот, объявлял классу: «Господин Мандрыка вновь изволил «захворать», – и уроки литературы заменял французским языком.
Француза ненавидели так же, как самого инспектора. Наружность этого учителя удивительно точно выражала его душевные свойства. Круглые глазки, острые и бездумные, впивались в лицо ученика. И французская речь в его устах раздавалась каким-то птичьим клекотом, особенно когда он повторял:
– Ке фэт ву? Ке фэт ву?[3]3
Что вы делаете? (франц.).
[Закрыть]
Он открыто презирал своих учеников и «сибирскую глушь», куда занесла его судьба. Не скрывал и того, что только выгодная женитьба на богатой читинской купчихе держит его в этой дыре. Фамилия его была Барбас, но называли его Барбосом, хотя, по мнению гимназистов, даже это прозвище было для него слишком благородным.
Павел Шергин и его друзья возмущались:
– Это ничтожество, которое у себя, в каком-нибудь французском захолустье, подвизалось бы лакеем в ресторане, нас учит!
…Гимназия жила бурной жизнью. Впрочем, это была буря в стакане воды. Так и сказал Миней, Павел удивился:
– Но ведь у людей зреет протест! Ты понимаешь, как это важно?
– Не увлекайся. Во-первых, не у всех он зреет. Во-вторых, у многих он просто дань моде.
– Ну нет! – вскипел Павел. – У нас в классе все единодушно против.
– Против чего?
– Ну… против администрации, против Кныша и вообще…
– Вот то-то, что «вообще». Каждый протест должен иметь точный адрес, должен быть направлен.
– Против кого?
– Против самодержавия.
Федя Смагин никогда не помышлял о борьбе с самодержавием. Самый маленький в классе, тихий черноглазый крепыш, он любил географию и мечтал стать учителем в глухой забайкальской деревне так же, как тридцать лет назад стал им его отец, Анатолий Павлович Смагин. Сначала ему придется очень трудно, крестьяне будут плохо к нему относиться, но потом все переменится: он завоюет любовь и доверие, как это было с его отцом. И вот длинными зимними вечерами учитель Федор Анатольевич сидит за столом и при свете керосиновой лампы читает тетрадки своих учеников. Улыбка не сходит с его лица, даже когда он хмурит брови. Ведь Федор Анатольевич учит детей добру. Надо быть честным, всегда надо быть честным. Так его самого учил отец.
Но для того чтобы эта мечта стала действительностью, Феде надо было окончить гимназию. И он старался изо всех сил.
Задумчивый Смагин был самым неприметным учеником в буйном шестом классе. И поэтому всех поразило то, что с ним произошло.
Закон божий преподавал отец Илларион, тучный, волосатый и неряшливый. Лиловая ряса его вечно была в сальных пятнах, в бороде застревали крошки. У него была смешная особенность: букву «е» он предпочитал произносить, как «ё», и этим несказанно веселил своих учеников: «подзёмный», «Микёны» и даже «имёнинник».
Но самой замечательной чертой духовного пастыря была непреодолимая сонливость. На уроках, уронив голову на белую веснушчатую руку, отец Илларион засыпал мертвым сном.
Вот тут-то в классе и начиналось веселье.
Однажды батюшка вызвал к доске первого попавшегося ему на глаза ученика и сонным голосом приказал:
– Расскажи про чудо в Кане Галилейской.
Спрашиваемый – это был Антон Щаденко – тотчас же забормотал нечто бессвязное. Продолжая нести всякую чушь, Антон подошел к доске и нарисовал мелом спящего на кафедре законоучителя. Сбоку же крупными буквами написал четверостишие, не очень складное, но смешное, потому что в нем как раз повторялись словечки отца Иллариона:
Хвала тебе, о поп подзёмный,
Шедёвр микёнских мастёров!
Как иудёйский царь, надмённый
И кровожадный, аки лёв!
Хохот и шум поднялись невообразимые! Не стоило стеснять себя, поскольку отец Илларион никогда не просыпался до самого звонка, служившего ему своего рода будильником.
Антон, как артист, раскланялся у доски и пошел на свое место.
В это мгновение распахнулась дверь, и в класс вошел инспектор Кныш. Ученики, глядевшие на Кныша, словно кролики на удава, не заметили, как Федя Смагин, постоянно сидевший из-за малого роста на передней парте, метнулся к доске. А через несколько секунд все увидели Федю у доски с тряпкой в руке, и за эту же руку его держал инспектор Кныш.
С доски были уже стерты и рисунок и стихи. Остались только слова «аки лёв».
– Пр-еккррасно! – проквакал Кныш и потащил Федю из класса.
Федя предстал перед директором.
Адам Адамович Козей был почти гном, с лицом гладким и розовым, без всякой растительности, даже без бровей. На совершенно голом лице мерцали за стеклами очков круглые желтоватые глаза.
Директор сидел в высоком кресле на кожаной подушке, а Федя стоял перед ним, вытянув руки по швам.
Адам Адамович, выходец из Швейцарии, неизвестной национальности, но православного вероисповедания, говорил по-русски преувеличенно правильно, старательно выговаривая согласные. На вопрос, что было написано на доске, Федя простодушно ответил: «Четверостишие». По требованию директора он привел его полностью.
– Кто является автором сего пасквиля?
– Стихи сочинил я, – ответил Федя запинаясь.
Директор отнюдь не собирался подымать шум по поводу четырех забавных строчек. Стоит только раздуть этот незначительный инцидент, и в городе сейчас же начнутся толки о том, что в гимназии «беспорядки».
Он разъяснил гимназисту Смагину, что шалость его особенно нетерпима по отношению к законоучителю, и патетически воскликнул:
– Да верующий ли вы, гимназист Смагин?
Гимназист молчал. Впервые в жизни он задал себе вопрос: в самом деле, верующий ли он?
Федя верил в добро, в высшую справедливость. Но что общего имело это с глупыми сказками о разных чудесах? Даже первоклассники знают, что вино производят на винокуренных заводах, а не «претворяют» из воды, и кто же поверит, что пятью хлебами можно накормить целую ораву голодных!
Нет, видимо, он Федор Смагин, неверующий человек в том смысле, в каком понимает это директор. По-честному надо было бы так и сказать директору. Но на это Федя не решался. Он молчал.
Адам Адамович возмутился:
– Я вижу, вы не поняли всей тяжести своего проступка! Отец Илларион – особо уважаемый наставник, и уроки его – особо важные уроки.
Федя не мог с этим согласиться, так как не умел лгать. Но у него не хватало мужества сказать правду, и он продолжал молчать.
Тогда директор понял, что модные атеистические веяния проникли во вверенное ему учебное заведение и что гимназист Смагин закоренелый безбожник.
– Идите к себе на квартиру и ждите решения. Полагаю, что вы будете исключены из гимназии, – строго сказал директор, нажимая на согласные.
Для Феди наступила новая и страшная пора жизни. Он не видел выхода и считал себя погибшим. Больше всего его угнетала мысль: что будет с отцом, когда он обо всем узнает?
Хозяйка квартиры напрасно звала Федю к обеду. Он лежал на кровати лицом в подушку и в сумерках не попросил зажечь лампу для обычных занятий.
Гораздо позже того часа, когда гимназистам разрешалось появляться на улицах, калитка скрипнула, послышались чьи-то шаги под окном Фединой комнаты. Постучали. Федя поднял занавеску и узнал своего одноклассника Андрея Алексеева. Рядом с ним стоял Павел Шергин, восьмиклассник. С Алексеевым Смагин никогда не дружил: Андрей, казалось Феде, держал себя гордо – вероятно из-за отца, которого все уважали. Даже сам губернатор с Алексеевым-отцом считался, даром, что тот из ссыльных. Шергина же Федя знал только в лицо.
Федя пошел открывать. Он никак не мог понять, зачем пришли к нему Андрей и этот восьмиклассник.
Федя провел их к себе в комнатку и, засунув руки под ремень с бляхой, растерянно смотрел на нежданных гостей.
Павел подошел к нему, крепко пожал его руку и сказал торжественно, будто стихи читал:
– Мы, восьмиклассники, знаем все и выражаем тебе свою солидарность!
Федя удивился этим словам, не знал, что ответить, и только тихонько вздохнул.
Павел продолжал другим, уже деловым тоном:
– Теперь давайте поговорим.
Он придвинул к себе стул, на другой стул уселся Андрей. Больше стульев в комнатушке не было, и Федя присел на кровать, не понимая, почему эти малознакомые ему юноши обсуждают положение, в которое он, Федор Смагин, попал. Ведь оно касалось только его самого, да еще его отца.
Павел говорил рассудительно:
– Дело твое, Смагин, сложилось неважно. Поп заявил, что ты написал на доске за его спиной богопротивные слова, каких он, поп, как лицо духовное, повторить не может.
Павел поглядел на Федю. Тот тоже покраснел от негодования:
– Но ведь это ложь! Это клевета!
– Поп, конечно, врет. В этом нет ничего удивительного. Это его специальность, – небрежно бросил Павел. – Директор предлагает исключить тебя. Вряд ли кто-нибудь на педагогическом совете выступит против него. Но мы твоего исключения не допустим. Мы объявим забастовку. Мы все перестанем ходить в гимназию. Директор уже знает об этом.
Федя был потрясен. Никогда в жизни он не слыхал ничего подобного.
Гости рассказали ему, что одноклассники заставили Антона Щаденко пойти к директору и признаться, что стихи сочинил и написал на доске он, а не Смагин. Но директор не поверил Антону. Антон был сыном ловкого мужика, разбогатевшего на рогожном промысле и дававшего деньги в рост. Сын Щаденко, по мнению директора, не стал бы заниматься такими глупостями, да и на вопрос, «верующий ли он», Антон ответил утвердительно.
Адам Адамович сказал, что понимает благородные чувства гимназиста Щаденко, заставившие его взять на себя вину товарища. Но пусть он не хлопочет – вина Смагина неоспорима.
– Однако все это не имеет значения, – заключил Павел. – У Козея, когда он услышал про забастовку, поджилки затряслись.
– Не тужи! Мы не допустим! – добавил Андрей, косясь на Павла и, видимо, подражая ему.
Когда гимназисты ушли и Федя остался один, он долго не спал и мысленно повторял необыкновенные слова: «солидарность», «забастовка»… Он знал их и раньше, только ему никогда не приходило в голову, что они могут иметь к нему, Феде Смагину, какое-нибудь отношение.
Последующие дни прошли без каких-либо изменений. В гимназию Федя не ходил, и осенние дни оказались вдруг необыкновенно длинными. Федя тосковал, не находил себе места, глядел в окно, по которому струились прозрачные ленты дождя, необычного для Забайкалья.
Анатолий Петрович приехал рано утром. Увидев отца, усталого, с неподстриженной бородкой, с красными от бессонницы глазами, Федя представил себе, как тот спешил в город издалека, чтобы помочь ему, Феде, в этой первой в его жизни беде. И, припав к плечу отца, он впервые за все время заплакал.
Отец отказался от чая, вынул из корзины сюртук, хорошо знакомый Феде с раннего детства – отец надевал его в особых, исключительных, случаях, – прицепил университетский значок и пошел к директору.
Вернулся он не скоро, растерянный, жалкий, и сказал, что Федя обязан извиниться перед священником.
Отец и сын проговорили всю ночь.
– Но разве я неправ? Почему я должен лгать? Я не уважаю этого попа, и никто у нас его не уважает. Над ним смеются даже первоклассники. И он выдумал про меня, будто я что-то такое написал на доске!
И отец, который всегда говорил: «Надо быть честным, прежде всего надо быть честным», – отводя глаза, сбивчиво, каким-то чужим, фальшивым голосом объяснял Феде, что «бывают обстоятельства, когда правду приходится оставить при себе». И жалостно говорил, что, если Федю исключат, это будет концом всех их мечтаний. Без аттестата не попадешь в университет.
Федя сказал то, что думал:
– Папа! Не все же учатся в гимназии… Вот Тима Загуляев кончает городское училище и пойдет работать на постройку железной дороги…
И тут отец рассердился не на шутку. Он сказал, что Федя должен получить образование, напомнил, каких трудов стоит ему содержать сына в городе, платить за квартиру и право учения. Он добавил еще, что все свои сбережения ему пришлось вложить в эту злосчастную поездку: он день и ночь гнал на обывательских лошадях, платил втридорога, измучился…
И Федя обещал сделать так, как хочет отец.
Но утром следующего дня все переменилось. Гроза исключения миновала. Федя получил десять суток карцера. Отец ходил благодарить директора, виновато простился с сыном и поспешно уехал.
А Федя сидел в каморке с покатым потолком и неотступно думал о том, что произошло. Он не понимал, почему невежественный поп может безнаказанно оклеветать его, а бездушный, чужой всем «выходец из Швейцарии», директор, – лишить его, Федора Смагина, возможности получить образование в родной стране. Почему его честный и порядочный отец должен унижаться перед людьми, которые ниже его по образованию, уму, да по всему, по всему… И как жить в этом мире?
Он часто обращался к Павлу Шергину и Андрею Алексееву. Он мысленно разговаривал с ними.
«Это вы не допустили моего исключения», – говорил им Федя.
«Да, это мы», – подтверждал Павел.
«Но почему директор испугался вас?»
«Потому что мы все вместе: захотим и забастуем! Что нам директор?! Мы еще не такого испугаем!»
Иногда шум большой перемены долетал до Феди. Гимназисты прыгали через ступеньки лестницы, громко распевая:
Много есть имен на «ИС»…
Потом все стихало. Под полом скреблись мыши. Федя боялся их. Он сидел на скамейке, поджав ноги, и думал:
«А я никогда, наверное, не смогу быть таким смелым, как Шергин или Алексеев…»
Когда он пришел в класс, его встретили как героя. Шутка сказать – из-за него чуть не начались «беспорядки»!
Несколько дней спустя Андрей отозвал Федю в сторону и сказал, что Шергин предложил вовлечь его, Смагина, в кружок учащихся. Кружком руководит один человек. Такой… ну, словом, настоящий человек!
Федя растерялся:
– А что делают в вашем кружке?
Андрей ответил, оглядываясь по сторонам:
– Мы читаем, спорим – и готовимся… – Он нагнулся к уху Феди и прошептал: – Мы против существующих порядков.
Федя был потрясен. Все-таки он опросил:
– А почему Шергин предложил меня?
Андрей не знал этого и ответил наугад:








