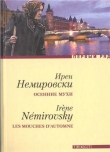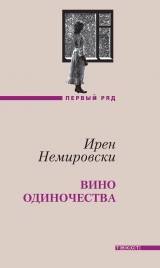
Текст книги "Вино одиночества"
Автор книги: Ирен Немировски
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
6
Мадемуазель Роз умерла в тот же вечер в больнице, куда ее привезли полицейские. Она потеряла сознание в каком-то закоулке. Ее опознали по найденному в кармане пальто последнему письму из Франции: на конверте было ее имя.
Каролям сообщили о ее смерти. Элен сказали, что она не мучилась. Ее изношенное сердце просто перестало биться. Скорее всего, от тоски по родине у нее случился очередной приступ бреда... Должно быть, она уже давно была больна.
Мать сказала Элен:
– Бедняжка моя... Она была так к тебе привязана... Мы бы платили ей небольшую ренту, и она могла бы жить спокойно... С другой стороны, после нашего отъезда она оказалась бы в полном одиночестве, мы бы не смогли взять ее с собой... Может, так оно и лучше.
Но вокруг умирало столько людей, что ни у кого, ни тогда, ни после, не нашлось и минутки, чтобы утешить Элен.
Все только повторяли:
– Бедная девочка... Представьте, как она перепугалась... Лишь бы не заболела... Только этого не хватало...
Прошел день, и Элен осталась в пустой комнате наедине с вещами покойной и старой фотографией, на которой ее, двадцатилетнюю, едва можно было различить среди сестер. На снимке ее легкие, как дым, волосы обрамляют лицо, бархатка на шее, тонкая округлая талия затянута поясом с пряжкой. Элен долго смотрела на нее. Она не плакала. Ей казалось, что слезы наполняли ее сердце, тяжелое и твердое, как камень.
Отъезд был назначен на послезавтра. Они уезжали в Финляндию. Кароль должен был отвезти их, а затем вернуться за слитком золота, оставленным у друга в Москве. Макс тоже ехал. Его мать с сестрами бежали на Кавказ, но он отказался следовать за ними. Кароль закрывал на все глаза. Элен слышала, как в соседней комнате родители пересчитывали и зашивали в одежду украшения Беллы. Она прислушивалась к их приглушенному шепоту и позвякиванию золота.
«Если бы я только знала, если бы только сумела понять, что бедняжка сходит с ума... – думала Элен. – Я бы предупредила взрослых... Мы бы позаботились о ней, вылечили ее, и она бы еще была жива...»
Но через секунду она усмехнулась, грустно покачав головой. Господи, да кто бы стал ухаживать за ней? Кому сейчас дело до чьего-то здоровья, чьей-то жизни? Даже если кто-то умер, а кто-то еще жив, кому от этого легче? По городским улицам носили мертвых детей, зашитых в мешки, потому что их было слишком много, чтобы выдавать гроб на каждого. Ей вспомнилось, как несколько дней тому назад, в перерыве между двумя уроками, она, маленькая девочка в передничке, с крупными кудрями и чернильными пятнами на руках, застыла, прильнув бледным лицом с синюшными губами к окну, и, не отводя глаз, наблюдала, как расстреливали человека. Пятеро солдат в шеренге, напротив, у стены, раненый, с перебинтованной, качающейся, как у пьяного, головой, весь в крови мужчина. Он упал, и его унесли, как однажды унесли неизвестную мертвую женщину, завернутую в черную шаль, и как унесли оголодавшую собаку с кровоточащей раной на худом боку, приковылявшую умирать под это же самое окно. Девочка вернулась за парту и, запинаясь, при слабом свете свечи принялась повторять урок:
– Расин изображает людей такими, какие они есть, а Корнель такими, какими они должны быть...
В учебники истории тогда еще не внесли поправки:
– Отца нашего горячо любимого императора Николая Второго звали Александр Третий, он взошел на трон в...
Жизнь, смерть – какие пустяки...
Ее голова тяжелела, но сна она боялась больше всего... Не заснуть, не забыть, не искать утром родное лицо на пустой кровати, когда осознание несчастья еще столь смутно, неясно...
Она сжимала зубы, отворачиваясь от света, но тень пугала ее, рисуя лица со страшными гримасами, бурлящую черную воду... Туман оставил на окне бледную, освещенную лунным светом дымку. Казалось, запах воды просачивался сквозь рамы затворенных окон, сквозь щели паркета, добирался до нее, и, в ужасе оборачиваясь, она видела перед собой пустую постель...
«Иди же, – шептал ей внутренний голос, – позови родителей. Тебя уложат спать в другой комнате, а потом уберут отсюда эту одинокую кровать». Но ей хотелось сохранить хотя бы свою гордость.
«Стало быть, я еще ребенок?.. Стало быть, я боюсь смерти, горя? Боюсь одиночества?.. Нет... Я не буду никого звать на помощь, а тем более их. Они не нужны мне. Я сильнее их! Они никогда не увидят, как я плачу! Они не достойны того, чтобы помогать мне! Я больше никогда не произнесу ее имя... Они не достойны слышать его!»
На следующий день Элен сама перебрала все ящики, сложила в чемодан немногочисленные пожитки мадемуазель Роз; поверх ее белья, книг, блузок, на которых она знала каждую складочку, каждую зашитую дырочку, она положила ее до сих пор пропитанное запахом тумана пальто, которое им вернули; потом закрыла чемодан, повернула ключ и больше никогда не произносила при родных имя мадемуазель Роз.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Сани мчались к едва заметному огоньку, который то скрывался за снежными сугробами, то вновь приветливо мигал. В ту ясную ночь стоял крепкий мороз. Заснеженное поле Финляндии простиралось сплошным ледяным потоком, без единого холмика до самого горизонта, а за ним становилось покатым, словно огибало земной шар.
Элен выехала из Петербурга утром. Ноябрь только начинался, но здесь уже вовсю правила зима. Было безветренно, хотя чувствовалось, как от земли веяло холодом. Студеный воздух радостно устремлялся к черному небу, к звездам, свет которых дрожал, будто свеча на ветру. Их блеск тускнел, как тускнеет зеркало, если слегка подышать на него. Через несколько мгновений эта ледяная дымка исчезала, и они снова сияли, отбрасывая синеватые отблески на снег, словно поблизости развели костер. Стоило только протянуть руку... вот сейчас лошади поравняются с ним, и можно будет дотянуться... Но не тут-то было, упряжка мчалась вперед, а слабое мерцание отступало и, точно подразнивая, продолжало играть бликами.
Они повернули; свет приближался; колокольчики звенели все радостнее. Элен чувствовала, как от быстрой езды в ушах шумит ветер, но вскоре упряжка замедлила ход, и звон снова стал тише и спокойнее.
Она сидела в глубине саней, между отцом и матерью, напротив Макса. Элен отодвинулась от них, открыла закутанное шалью лицо и, словно отпивая большими глотками ледяное вино, ртом глотала воздух. Три года она дышала только затхлым запахом гниющих вод Петербурга, а теперь снова наслаждалась чистым воздухом, наполняющим грудь до самого сердца, которое забилось сильнее и бодрее.
Кароль указал рукой на ближайший огонек:
– Это, наверно, гостиница?
Из-под копыт лошадей летели комья снега, и Элен вдыхала запах сосен, мороза, снежных просторов и ветра – незабываемый аромат севера.
«Как же хорошо», – подумала она.
Гостиница приближалась. Это был простой двухэтажный деревянный дом. Заснеженные ворота со скрипом отворились.
– Вот вы и приехали! – сказал Кароль. – Я пойду выпью водки и обратно.
– Как? Сегодня ночью? – трепеща от радости, воскликнула Белла.
– Да, – ответил Кароль, – так надо. Медлить опасно... Границу могут закрыть с минуты на минуту...
– Ах, что же с нами будет! – вскричала Белла.
Он наклонился и поцеловал ее. Но Элен уже ничего не видела. Она спрыгнула с саней и, сияя от счастья, топала каблуком сапога по твердой земле. Она вдыхала чистый морозный воздух, дыхание зимней ночи; в одном из окон загорелся яркий красный огонек; в пустынной деревне раздалась мелодия вальса.
Элен почувствовала безмятежность и глубокий душевный покой, каких она еще не знала за всю свою, пусть и короткую, жизнь. Ее вдруг охватил детский восторг, и она побежала к дому. Родители разговаривали в дверях со своими друзьями. Через распахнутую дверь до нее доносились слова:
– Революция... Красные... Это продлится как минимум всю зиму...
– Здесь все так спокойно...
Мужской раскатистый голос прогремел:
– Ягнята, бараны, здешние коммунисты... Да хранит вас Господь... У нас есть масло, мука, яйца.
– Муки нет, не придумывай, – сказала женщина. – Если мне скажут, что в раю еще осталась мука, я и тогда не поверю.
Все засмеялись; Элен тихонько вошла в сени. Потом, возвращаясь с улицы, она будет часто снимать здесь свои коньки. Через открытую дверь было видно столовую с большим столом человек на двадцать. Пол, стены и потолок были из светлого дерева, липкого и блестящего, еще пахнувшего свежесрубленной сосной, сок которой течет по глубоким срезам сердцевины. Но больше всего Элен поразило то, что дом был наполнен радостным гулом, – до нее доносились детские крики, молодые голоса – звуки, которые она уже успела позабыть. Дети возвращались с улицы с санками или коньками на плечах; в заснеженных шапках, с горящими от ночного мороза щеками они толпились в сенях. Однако Элен лишь бросила на них пренебрежительный взгляд, покачала головой и по-старушечьи вздохнула. Она была старше. Ей уже исполнилось пятнадцать. Она выросла так быстро, и этот возраст, о котором она мечтала когда-то в Ницце, маленькой девочкой, еще при жизни мадемуазель Роз, пришелся на такие грустные времена... Ее сердце наполнилось болью. Она сделала несколько шагов, открыла дверь и увидела бедно обставленную гостиную, в которой танцевали девушки. Они встретили ее холодным взглядом. Тогда она вернулась в сени, где играли двое светловолосых, пухлощеких, румяных мальчиков. На пороге появился молодой человек, весь в снегу. Дети с криками «папа!» кинулись к нему, и он взял их на руки. Затем дверь открыла красивая женщина с аккуратно уложенными волосами и ласковым, безмятежным выражением лица, она нежно и насмешливо обратилась к молодому человеку:
– Господи, Фред, посмотри на себя! Отпусти детей, ты же их завалишь снегом!..
Мужчина, смеясь, отряхнулся, снял меховую шапку и, заметив Элен, улыбнулся ей. Он подошел к жене, и она взяла его под руку. За детьми прибежала служанка; они повисли на пышных, шуршащих материнских юбках из черной тафты, и та наклонилась поцеловать их. Элен заметила длинные сережки с двумя жемчужинами, сверкающими в черных волосах. Ее платье украшал батистовый плиссированный воротничок; обнаженные руки были очень красивы. Женщина почувствовала на себе пристальный взгляд Элен и улыбнулась в ответ. Потом ее муж открыл дверь, и они ушли в комнату. Элен услышала шелест шелкового платья, и снова раздался звук пианино; женщина теплым, мягким голосом запела французский романс. Элен замерла в восхищении от происходящего и едва услышала, как отец позвал прощаться. Она подбежала к нему; как обычно, он поцеловал ее с какой-то осторожной, немного неловкой нежностью, затем устроился в дожидавшихся у крыльца санях, которые привезли их сюда, и уехал.
Элен бросилась в сад, бесцельно покружила по нему, всей грудью вдыхая запах снега. Протоптанная ею белая мерзлая дорожка поблескивала, отражая свет фонаря на крыльце. Как же приятно бегать по снегу... Ее ноги, уже по-женски округлившиеся, были по-прежнему быстрыми. Зазвенел колокольчик, созывая обитателей дома к ужину. Элен порадовалась этому умиротворяющему порядку приятных будней. Бедное маленькое пианино бросало в торжественную ночь аккорды романса, а теплые звуки голоса легко поднимались к поблескивающему небу, словно пение птицы.
Из темноты выскочил большой рыжий пес и, подбежав к Элен, уткнулся мокрым носом ей в ладошку. Она прижала его к себе и поцеловала. В воздухе пахло горячим овощным супом и выпечкой на крахмале, который в ту пору заменял муку.
Элен почувствовала, что голодна, и побежала в дом. Это позабытое ощущение так отличалось от отвратительной, навязчивой необходимости есть, которую она иногда испытывала в Петербурге, когда еда еще не была в катастрофическом дефиците, но уже становилась редкостью. Она прошлась по дому, подошла к кухне, посмотрела на красную печь, зажженную лампу, свет которой падал на женщину в белом фартуке... Во всем этом было столько спокойствия! Она снова подумала о мадемуазель Роз, но это воспоминание, пусть еще такое свежее, уже не казалось столь тягостным... Видимо, из-за трагического ужаса, который она пережила, в ее памяти оно постепенно превращалось во что-то вроде поэтического мрачного сна...
Вопреки всему, на душе остались лишь беззаботность, равнодушие и облегчение, от чего ей даже стало стыдно, но она тут же решила: «Теперь, что бы они ни сделали, ничто не заставит меня страдать, потому что моей бедняжки больше нет».
С наслаждением проваливаясь в плотный глубокий снег, поскрипывающий под ногами, она вернулась к окнам малой гостиной. Комната была освещена лампой с накинутой на нее красной материей. Женщина в черном, которая давеча крикнула «Фред!», спокойно наигрывала мелодию вальса. Ее молодой муж склонился к ней и поцеловал в плечо. Элен охватило чувство странной поэтичности, легкого восторга. Она спрыгнула с сугроба, на который залезла, и они заметили ее бледную тень, вмиг растворившуюся в ночи. Женщина, улыбнувшись, вновь склонилась к пианино, а молодой мужчина, смеясь, погрозил ей пальцем. Сердце Элен радостно колотилось, и она тихонько смеялась, прислушиваясь к позабытому звуку собственного смеха.
2
Границу еще не закрыли, но каждый проходящий через нее поезд казался последним. Всякая поездка в Петербург была настоящим подвигом, проявлением безумия и героизма одновременно. Однако раз в неделю Белла Кароль и Макс под разными предлогами возвращались туда, потому что нигде им не было так спокойно, как в их заброшенной петербургской квартире: Кароль застрял в Москве и никак не мог оттуда выбраться. Сафроновы уехали с Кавказа, но Макс не знал, удалось ли им добраться до Персии или Константинополя. В начале декабря он получил письмо от матери с мольбами приехать к ней, она писала, что осталась одна, старая и больная, упрекала, что он бросил ее ради «этой жалкой женщины...», добавляя: «Ты пропадешь из-за нее... Берегись...», «Я умру, так и не повидав тебя. Ты же любишь меня, Макс. Я не прощу тебя, если ты не откликнешься. Приезжай, сделай все, что угодно, чтобы приехать ко мне...»
Но он откладывал свой отъезд до тех пор, пока белые не заняли юг России и попасть туда стало совсем невозможно. В день, когда Макс узнал об этом, он вошел к Белле и, не обращая внимания на Элен, сказал: – Я чувствую, что больше не увижу родных. Во всем мире у меня только вы одна.
Когда они уезжали в Петербург, Элен оставалась на попечении постояльцев гостиницы, в частности Ксении Рейс, той молодой женщины, которую она заметила еще в первый день, и пожилой мадам Хаас, что очень нелестно отзывалась о Белле:
– И это мать?.. Карикатура на мать, да и только!
В Финляндии, в мудром согласии, словно вместе пережидающие вечернюю бурю путешественники, дружили независимо от общественного статуса и финансового положения и русские, и евреи «из хороших семей» (те, что разговаривали между собой по-английски и с гордым смирением следовали религиозным обычаям), и нувориши, скептические вольнодумцы с карманами, набитыми деньгами.
Они вместе проводили вечера в маленькой обшарпанной гостиной. Вокруг стола для бриджа сидели всегда одни и те же игроки: толстый, красношеий, пузатый Соломон Леви, барон и баронесса Леннарт, русские шведского происхождения, оба высокие, худые и бледные, почти неразличимые в дыму своих сигарет. У барона был мягкий, приглушенный голос, тонкий смех, чем-то напоминающий девичий, в то время как его жена горланила, как гренадер, рассказывала непристойные истории, выпивала за вечер графин коньяку и при этом машинально крестилась при всяком упоминании имени Господа.
Приходил сюда с пледом на плечах и старый Хаас, измученный сердечник. По его опухшим глазам было видно, что смерть уже медленно грызла его тело. Он играл, а сидевшая рядом жена не сводила с него беспокойного, полного надежды и досады взгляда, свойственного тем, кто ухаживает за неизлечимо больным родным человеком. Лишь иногда она отворачивалась, вскидывала свою седую голову над толстым, как ошейник, ожерельем из мелких жемчужин и нацеливала на попадающих в ее поле зрения людей сверкающий лорнет. Служанки зажигали керосиновые лампы. Сидевшие на неудобных, скрипящих и шатких бамбуковых диванчиках молодые женщины колдовали иголками над вышиванием. Мадам Рейс была среди них. Женщины перешептывались о ней:
– Она хороша... – И спустя минуту: – И у нее очень милый муж...
Потом, слегка покачав головой, они говорили с невольно промелькнувшей в уголках рта снисходительной улыбкой и тем лицемерным, оскорбленным и в то же время гордым видом женщины, которая знает секрет и, если только захочет, может поведать намного больше:
– Этот Фред... Тот еще повеса...
Фреду было тридцать лет, но из-за его черных блестящих глаз, живого, радостного взгляда с хитринкой и белоснежных зубов он выглядел совсем юношей. Он, словно ребенок, не мог усидеть на месте, всегда скакал, катался с горки, не мог обойти стул, потому что его можно было перепрыгнуть, бегал и играл со своими сыновьями, в то время как его спокойная, немного неповоротливая, но красивая жена с улыбкой и материнской нежностью наблюдала за ними. Фред Рейс был серьезным только со своим старшим сыном, одного его он по-настоящему любил. Он мог легко увернуться от всякой неприятности, избежать любой ответственности или переживания, рассмешив кого угодно шуткой или ловким пируэтом. Его заразительный, почти детский смех лился ручьем. Шутки его были тонкими и ироничными. С женщинами, в частности со своей женой, он вел себя как избалованный ребенок; ему даже удалось добиться расположения госпожи Хаас. Повсюду он был источником радости. Это был один из тех мужчин, которые, кажется, останутся молодыми навечно, которые не умеют взрослеть, однако, внезапно постарев, превращаются в злобных, раздражительных тиранов. Но он еще был молод...
Между тем в доме все шло своим чередом. Няньки поднимались укладывать детей, которые цеплялись за их фартуки, просились на руки. Замерзшие окна потихоньку запотевали; мерцающая лампа коптила.
Евреи толковали о делах и то ли забавы ради, то ли чтобы не потерять навык, продавали друг другу земли, шахты и дома, конфискованные большевиками еще много месяцев тому назад. Верить, что это правительство задержится надолго, считалось кощунством. Некоторые допускали, что оно продержится два-три месяца... Пессимисты же пророчили ему всю зиму... Они также спекулировали на обмене рубля, финской марки и шведской кроны. Курс валюты был таким капризным, что в этой захудалой крохотной гостиной, отделанной плюшем и бамбуком, пока за окном шел снег, неделя за неделей сколачивались и исчезали целые состояния.
Поначалу русские слушали их с презрением, затем с некоторым любопытством и интересом, потихоньку подходя все ближе. А в конце вечера они уже сердечно обнимались с теми, кого называли «израильтянами».
И правда, напрасно на них наговаривают. Некоторые из них очень даже приятные люди...
Евреи же говорили:
– Они далеко не так глупы, как мы думали. А из князя получился бы отличный биржевой брокер. Конечно, если бы ему пришлось зарабатывать на жизнь.
Таким образом, в те бедственные времена мирились два, казалось, непримиримых народа и, разделяя друг с другом интересы, повседневные радости и горести, объединялись в небольшое, но дружное братство.
Дым сигар медленно поднимался и таял в воздухе; пачки банкнот, ценность которых падала день ото дня, валялись на полу, разодранные собаками; никому и в голову не приходило подбирать их. Иногда постояльцы гостиницы выходили на террасу, заваленную скрипящим снегом; на горизонте виднелся слабый огонек.
– Териоки горит, – равнодушно говорили они и возвращались в дом, отряхивая с плеч снег.
Из гостиной доносились звуки маленького черного пианино, на котором играла хрупкая чахоточного вида девушка, высокая, с отрешенным взглядом и льняными волосами. Целыми днями напролет она неподвижно сидела на террасе, закутанная в меховую накидку. А с наступлением вечера, точно летящая на приманку ночная птица, напуганная огнями, она, не останавливаясь и не отвечая на дружелюбные вопросы, перебегала гостиную, садилась на маленький, обитый зеленым бархатом табурет и с пылающими от вечерней лихорадки щеками беспрерывно играла, переходя с ноктюрна Шопена на рондо Генделя, а потом на Тарарабумбию[13]13
Популярная в начале 1890-х гг. песня, впервые исполненная в водевиле «Смокинг», позже известная во всей Европе.
[Закрыть].
Девушки учили Элен шить и вышивать. Она чувствовала себя умиротворенной и счастливой, вновь обретая здоровье и бодрость; благодаря снегу, ветру, долгим пробежкам по лесу ее лицо порозовело и посвежело; проходя мимо зеркала, она украдкой, с застенчивой улыбкой бросала взгляд на свое отражение.
– Эта малышка меняется на глазах! – говорили женщины, с нежностью глядя на нее. – Удивительно, какое у нее теперь здоровое личико!
Больше всего Элен нравилось проводить время в компании мудрых матрон, которые, поджав губы, слушали истории баронессы Леннарт, толковали о своих детях, обменивались рецептами варенья; склонившись под лампой, они вырезали маленькими позолоченными ножницами тонкие узоры на полотняных лоскутках. Вдалеке пылал растущий огонь пожара...
Субботними вечерами они ездили в деревню смотреть на танцы красногвардейцев[14]14
Финские красногвардейцы, главным образом рабочие и бедняки, которые участвовали в Гражданской войне 1918 г.
[Закрыть] и прислуги. Они бочком забирались в крестьянские сани, застеленные мехом и бараньими шкурами, потому как сидеть всем вместе в них было тесно, и ехали, при каждом толчке наваливаясь друг на друга.
Мадам Рейс оставалась дома с малышами, однако ее муж ни за что на свете не пропустил бы местный «бал». Он брал с собой старшего сына, но поручал его госпоже Хаас, а сам устраивался в санях возле Элен. Улыбаясь, он пытался в темноте взять ее за руку, тихонько снимал варежку из толстой грубой шерсти и сжимал ее тонкие, чуть дрожащие пальцы. Элен с колотящимся сердцем смотрела ему в глаза; его лицо было освещено лунным светом и коптящим, дрожащим огнем фонаря, висевшего на перегородке саней. На трепещущих, по-женски чувственных губах Фреда читались ирония и нежность; его шапка покрывалась кристалликами сверкающих твердых снежинок. От усталости Элен закрывала глаза; она бегала и играла в снегу целыми днями напролет. Когда не было санок, они со всей силы толкали с вершины холма распряженные сани, которые непременно задевали занесенный снегом камень и, перевернувшись, оказывались в глубокой, заросшей колючим кустарником рытвине, в мягком густом снегу... Элен вновь обрела мальчишеские замашки, страсть к опасным играм и хулиганству.
Субботние балы проходили на гумне, где сквозь щели между досками потолка, как в рождественских яслях, виднелось черное небо, слабо освещенное мерцающими звездами. Оркестранты с барабанами и трубами усаживались верхом на лавки; мужчины танцевали, задрав вверх стволы заряженных ружей; широкие тесаки с плоскими лезвиями, насаженными на рукоятки из оленьих копыт, для охоты на медведя, раскачивались на их поясах; они топали сапогами по дощатому полу, и из-под него от сена, которое хранили в подвале, поднималось ароматное облако. На девушках были красные передники, и, всячески подчеркивая свою преданность красным, они вплетали в русые волосы алые ленты, а под задирающимися в танце платьями можно было разглядеть нижние юбки красного цвета.
Иногда дверь раскрывалась, и по комнате проносилась волна ледяного воздуха. Через порог виднелись посеребренные луной ели; они стояли прямо, неподвижно, и каждая замерзшая, твердая ветка сверкала в ночи, словно стальная. Печка урчала; в нее заталкивали свежие, заснеженные поленья. В комнате было дымно и душно; от широкополых пальто и меховых шапок танцующих шел пар. Свесив ноги, Элен сидела на деревянном столе; Фред Рейс стоял рядом, крепко сжимая ее щиколотку. Элен было отодвинулась, но прямо за ней, полулежа на столе, целовалась парочка. Она снова придвинулась к Фреду, молча наслаждаясь душевным спокойствием, обжигающим жаром его тела и его прикосновениями. Впервые в жизни она кокетливо улыбалась, подставляя Фреду свою матовую, гладкую и румяную от молодой горячей крови щеку, смеялась, показывая сверкающие белизной зубы, намеренно свешивала со стола свою маленькую смуглую руку, чтобы Фред прижал ее к себе. Керосиновые лампы под потолком начинали медленно раскачиваться с началом танца, похожего на бурре, но вскоре переходящего в какой-то безумный вихрь, от которого скрипели и стонали половицы. Элен, бледная, сжав губы, подпрыгивая и крутясь в объятиях Рейса, чувствовала сладкое головокружение. Вокруг нее мелькали ленты, и длинные косы девушек, как кнуты, хлестали по щекам танцующих, когда пары натыкались друг на друга.
Натанцевавшись и напившись контрабандного спирта, мужчины принимались стрелять в потолок из своих маузеров. Стоя на столе, обеими руками опираясь на Рейса, Элен наблюдала за этой игрой, вдыхая уже знакомый ей запах пороха и не замечая, как от возбуждения она впивалась ногтями ему в спину. Старший сын Рейса, с коротко остриженной, точно весенний газон, головой, в выглядывающей из-под распахнутого пальто хлопковой рубашке, радостно скакал на одном месте. Когда патроны заканчивались, начинались драки.
Фред с горечью сказал:
– Ну, пора домой. Что скажет моя жена? Уж почти полночь, скорее же...
Они вышли на улицу, где, нюхая замерзшую землю и встряхивая заснеженными головами, их ждали лошади; от трясущихся на шеях колокольчиков по лесу и замерзшей реке проносился мягкий, загадочный звон. Лошади бежали в гору; покачиваясь в санях, Элен и Рейс дремали. Щеки Элен горели, веки закрывались от бессонной ночи, усталости и дыма; глаза лениво искали восходящую в зимнем небе розовую луну.