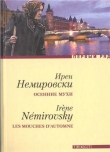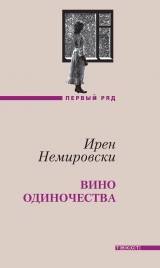
Текст книги "Вино одиночества"
Автор книги: Ирен Немировски
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
3
Мадемуазель Роз была тоненькой, хрупкой женщиной, с мягкими, нежными чертами лица. В молодости она была грациозной, веселой и по-своему красивой, но теперь ее красота увяла; вокруг ее маленького впалого рта проступали морщинки, какие появляются у женщин после тридцати, – печать горя и страданий. У нее были красивые черные живые глаза, характерные для выходцев с юга Франции, пушистые и легкие, как дым, каштановые волосы, уложенные по тогдашней моде в «корзинку», обрамляли гладкий лоб. Ее нежная кожа пахла дорогим мылом и фиалковым маслом. Она носила на шее тонкую черную бархатку, белые батистовые или черные шерстяные блузки, прямые юбки, остроносые ботинки на пуговичках. Она гордилась своими маленькими ножками и изящной талией, которую затягивала замшевым поясом со старинной серебряной пряжкой. Спокойная, мудрая, мадемуазель Роз воплощала умеренность и рассудительность. Несмотря на тревогу и уныние, которые внушали ей эта странная семья, безграничная страна и диковатый характер Элен, на протяжении всех этих долгих лет она сумела сохранить простодушную жизнерадостность. На всем белом свете Элен любила только ее. По вечерам она сидела за своей партой и при свете лампы рисовала или вырезала картинки, слушая рассказы мадемуазель Роз о ее детстве, о сестрах и брате, о монастыре сестер-урсулинок, где она выросла.
– Когда я была маленькой, меня называли Розетт.
– И вы были послушной?
– Не всегда.
– Послушнее меня?
– Ты очень послушная, Элен, но иногда в тебя словно черти вселяются.
– А я умная?
– Да, но ты считаешь себя умнее, нежели ты есть на самом деле. И потом, Лили, ум – это далеко не все... он не сделает тебя ни счастливее, ни несчастнее. Главное, быть доброй и смелой. Не для того, чтобы совершать какие-то необыкновенные поступки, ты ведь еще маленькая девочка, а для того, чтобы принять волю Божью.
– Да. А мама плохая, правда?
– Что ты такое говоришь, Элен?.. Она не плохая, ее просто всегда баловали, сначала ее мама, потом твой папа, он ведь так любит ее, да и сама жизнь. Ей сроду не приходилось работать или пытаться достичь чего-либо... Ну-ка, попробуй нарисовать мой портрет...
– Я не умею. Мадемуазель Роз, спойте мне, пожалуйста.
– Ты уже знаешь наизусть все мои песни.
– Ну и что. Спойте «Vous avez pris l’Alsace et la Lorraine, mais malgré vous nous resterons Français»[4]4
Французская военная песня конца XIX века: «Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но мы все равно останемся французами».
[Закрыть].
Мадемуазель Роз часто пела. У нее был небольшой, но чистый голос и хороший слух. Она пела «Malbrough s’en va-t-en guerre», «Plaisir d’amour ne dure qu’un moment» и «Sous ton balcon je soupire, bientôt paraîtra le jour...»[5]5
Популярные французские песни XVIII-XIX вв.: «Мальбрук в поход собрался»; «Любви утехи длятся миг единый...» (перевод Михаила Кузмина); «Под твоим балконом я вздыхаю, скоро новый день настанет...».
[Закрыть].
Каждый раз при слове «любовь», она вздыхала и принималась перебирать волосы Элен. Любила ли она кого-нибудь? Потеряла ли своего возлюбленного? Зачем она приехала в Россию воспитывать чужих детей? Этого Элен так никогда и не узнала. Ни тогда, будучи маленькой девочкой, ни позже, она не отважилась спросить у нее об этом. Ей хотелось сохранить в своем сердце нетронутым воспоминание о той чистой и спокойной женщине, которую она знала: не испорченной страстями, с невинными глазами, что видели во всем только хорошее.
Однажды мадемуазель Роз задумчиво сказала:
– Когда мне было двадцать, я была так несчастна, что едва не утопилась в Сене.
Взгляд ее застыл и стал бездонным. Элен догадалась, что она настолько погрузилась в свои воспоминания, что могла излить душу даже ребенку, а может быть, только ребенку. Сердце девочки охватил странный, непреодолимый стыд. Она угадала на ее дрожащих губах ненавистные слова: «любовь», «поцелуи», «жених»...
Резко откинувшись назад, Элен во все горло запела, качаясь взад-вперед на стуле и топая ногами. Мадемуазель Роз удивленно посмотрела на нее, смиренно вздохнула и замолчала.
– Спойте, пожалуйста, мадемуазель Роз. Спойте «Марсельезу». Помните куплет детей? «Nous entrerons dans la carrière...»[6]6
«Когда мы в свой черед пойдем сражаться...» (перевод М.И. Венюкова).
[Закрыть] О, как бы я хотела быть француженкой!
– Да, Лили. Это самая прекрасная страна в мире...
Элен засыпала под крики, ругань и звон бьющейся посуды, но рядом с мирно вышивающей у лампы мадемуазель Роз она чувствовала себя словно за каменной стеной и лишь равнодушно слушала звуки далекой бури, как, сидя в тепле и уюте, слушают завывания ветра за окнами.
До нее доносился голос Беллы:
– Если бы не дочь, я бы ушла, я бы бросила тебя!
И так всякий раз, когда муж сердился, что она не следит за хозяйством, что жаркое пригорело, а на скатерти красуется дырка, прикрытая забытой коробкой с торчащим из нее розовым пером от новой шляпы. На все это Белла отвечала, что она никогда не претендовала на роль хорошей хозяйки, что она ненавидит домашние хлопоты и ей хочется жить в свое удовольствие. «Ты должен принимать меня такой, какая я есть», – заявляла она.
Борис Кароль начинал было кричать, но вскоре замолкал, ибо проще молча нести бремя семейной жизни, чем топтать ее в разгар очередной ссоры и потом долго собирать по кусочкам. К тому же в глубине души он боялся, что Белла может действительно уйти. Кароль знал, что она нравится мужчинам, знал, как они ее обхаживают... И он любил ее...
«Господи, – в полусне думала Элен, переворачиваясь на другой бок и упираясь длинными ногами в деревянную перекладину кровати, из которой она давно выросла, – Господи, пусть же она поскорее уйдет. Хоть бы она умерла!» Она свернулась клубочком под атласным одеялом с тонкой вышивкой, из которого торчали клочки ваты, хотя мадемуазель Роз ежедневно штопала его.
В каждой вечерней молитве «Боже мой, дай здоровья папе и маме...» Элен заменяла «маму» на «мадемуазель Роз», при этом в глубине души надеясь на смерть матери.
«Ну к чему эти крики, эти бесполезные угрозы? Зачем все эти пустые разговоры?.. Эта женщина невыносима, эта женщина – мой крест...» – думала она.
Сама с собой Элен говорила умными взрослыми словами, но понимала, что в ее возрасте говорить так с другими будет столь же нелепо, как разгуливать по улицам в дамском наряде. Ей приходилось выстраивать их в простые, банальные, неуклюжие фразы, отчего она терялась и заикалась, чем ужасно раздражала мать.
– У этой девочки иногда вид какой-то дурочки. Она точно с луны свалилась!
Только по ночам яркие сны, в которых она радостно кричала во все горло, переносили Элен в настоящее детство.
Вскоре Кароль уехал, и вечера снова стали спокойными. Он нашел место управляющего золотым месторождением в Сибири, в азиатской тайге. Это был первый шанс сколотить состояние. Дом опустел. Дедушка и мать после ужина расходились по своим углам, и только бабушка тенью бродила из комнаты в комнату. Элен наслаждалась детским безмятежным сном, источником сил и покоя. Утром она просыпалась от солнечного света. Мадемуазель Роз протирала старую, с облупившейся краской мебель. На ней был черный, в мелкую складку шелковый фартук, но она уже была аккуратно причесана и одета, в корсете, с застегнутым золотой брошкой воротничком и в туфлях. Никогда ее не увидишь растрепанной, в небрежно подвязанном халате или в бесформенной юбке, какие носят русские толстухи. Она была аккуратна, пунктуальна, педантична. Француженка до кончиков ногтей, чуть-чуть надменная, чуть-чуть насмешливая. Ни громких слов, ни телячьих нежностей. «Люблю ли я тебя? Ну конечно. Я тебя люблю, когда ты слушаешься меня». Вся ее жизнь была посвящена Элен: причесать ей кудри, сшить новое платье, накормить обедом, погулять и поиграть с ней. Никаких нравоучений, лишь простые привычные указания:
– Элен, убери свои вещи. Дорогая, пора учиться быть аккуратной девочкой. Наводи порядок в своих вещах, и в жизни у тебя будет порядок, а люди будут любить тебя за это.
Так проходило утро, и чем ближе был обед, тем тяжелее становилось у Элен на сердце. Мадемуазель Роз, расчесывая кудри Элен, тихо говорила:
– Смотри, веди себя хорошо за столом. Твоя мать в дурном настроении.
Кароль уехал так давно, что Элен начинала забывать его лицо. Она вообще плохо представляла себе, где именно он находился. Теперь она была в полном распоряжении матери.
Как же Элен ненавидела эти обеды!.. Сколько из них закончилось слезами... Даже спустя несколько лет при одной только мысли об этой мрачной душной столовой она вновь чувствовала солоноватый вкус слез, из-за которых все перед глазами сливалось, они текли по ее лицу и капали прямо в тарелку. Ей еще долго казалось, что у мяса был тот самый соленый привкус, а хлеб был пропитан горечью.
С балкона в столовую пробивался грустный зимний день. Сколько раз, из гордости пытаясь не расплакаться, она глядела на эту обитую искусственным шелком стену сквозь туман слез, которые стояли в глазах, а голос ее предательски дрожал...
«...Держись прямо... Закрой рот... Посмотри на свою противную физиономию с открытым ртом... Эта девчонка становится дурочкой, честное слово!.. Осторожно, ты же сейчас опрокинешь стакан! Ну вот, пожалуйста, что я тебе говорила?.. Разбила стакан... А теперь в слезы, давненько мы их не видали... Конечно, вы всегда ее прощаете!.. Прекрасно, я больше не вмешиваюсь в воспитание мадемуазель Элен. Пусть она ведет себя за столом как крестьянка, если ей так угодно, я больше ни во что не вмешиваюсь... Может, ты перестанешь смотреть в тарелку, когда мать разговаривает с тобой?.. Смотри на меня... И ради этого жертвуешь собой, хоронишь свою молодость, губишь лучшие годы!» – говорила мадам Кароль, со злостью думая, что каждый раз ей приходится таскать эту девчонку за собой по всей Европе, иначе можно не сомневаться, что по прибытии в Берлин она получит тревожную телеграмму от матери: «Возвращайся. Дочь больна». И из-за какого-нибудь насморка или ангины ей придется проколесить обратно весь путь, только что проделанный с такой радостью. Ребенок... Ребенок... Все только о нем и твердили: муж, родители, друзья...
– Вы должны посвятить себя ребенку... Подумай о ребенке, Белла...
Ребенок, этот ходячий упрек, обуза... Над ней все трясутся. Чего ей еще надо? Через несколько лет она будет только рада, что у нее молодая мать, которая разбирается в жизни. «Моя же только и делала, что жаловалась... Разве это лучше?» – думала Белла, раздраженно вспоминая тоскливый дом, состарившуюся прежде времени женщину с красными глазами, вечно твердящую: «Кушай. Ты устала. Не бегай...» Старческое пустословие, что гасит порывы радости и любви, отравляет молодую жизнь... «Я была несчастна, теперь я могу пожить в свое удовольствие, ведь я никому не мешаю... Вот когда состарюсь, тогда и буду причитать с утра до вечера, стану целомудренной и спокойной, как все старухи», – говорила себе она, ведь старость была еще далеко...
Обед закончился. Однако Элен еще предстояло сделать самое трудное – поцеловать это белое ненавистное лицо с ярко-красным холодным ртом. Ей придется приложиться губами к щеке, которую ей так хотелось расцарапать, да еще сказать: «Извини, мама».
Она чувствовала, что ее переполняет мучительная, странная для ребенка гордость, как будто в ее детском теле была закована чья-то взрослая раненая душа.
– Ты даже не попросишь прощения?.. О дочь моя, ради Бога, я не настаиваю... Мне не надо извинений, которые произносят губами, не прочувствовав сердцем. Ступай отсюда.
Только если по прихоти в ней просыпалась материнская нежность, сцена завершалась по-другому: «Эта девочка... В конце концов, у меня есть только она... Мужчины такие эгоисты... Позже она будет мне подругой, компаньонкой...»
– Ну же, Элен, не распускай нюни, – говорила она, – хватит обижаться... Я тебя побранила, ты поплакала, и кончено, теперь можно позабыть об этом... Иди сюда, поцелуй маму...
Во время ужина ее не бывало дома. Перед сном старик Сафронов бродил по полутемной гостиной, освещенной холодной зимней луной. Он хромал и одной рукой опирался на плечо идущей рядом Элен, другой поглаживал свежую розу, круглый год украшавшую его петлицу. Пианино с закрытой крышкой и лысина Сафронова, еще весьма видного старика, блестели в лунном свете. Он учил с Элен стихи Гюго, читал ей Шатобриана. Некоторые слова, торжественный и меланхоличный ритм останутся в ее памяти неразрывно связанными с его тяжелым, размеренным шагом, с давящей на плечо костлявой, но все еще красивой рукой.
Эти длинные, медленно тянущиеся дни, какими они всегда кажутся в детстве, завершались вечерней молитвой и сном. По ночам она просыпалась от того, что хлопала дверь, слышались голоса, смех матери и звон шпор провожающего ее офицера, и снова засыпала под эти звуки, как под музыку. Порою сон переносил ее на несколько лет назад в прошлое, в раннее детство до мадемуазель Роз, когда служанка ночью уходила пить на кухню, оставляя Элен одну. Тогда она в тревоге просыпалась и спрашивала:
– Мадемуазель Роз, вы здесь?
Через какое-то время в темную комнату входила белая светящаяся фигура – мадемуазель Роз в длинной просторной сорочке с белой накидкой:
– Я здесь.
– Дайте мне попить, пожалуйста.
Элен пила, что-то бормотала спросонья и не глядя отдавала стакан, зная, что заботливые руки подхватят его:
– А вы... хоть немножко меня любите?
– Да. Спи.
Она не ждала поцелуев – Элен терпеть их не могла. Без всяких нежностей, объятий, сюсюканий – она их презирала. В этой ночной темноте она просто должна была услышать: «Да. Спи». Больше ей ничего не было нужно. Она согревала подушку дыханием и ложилась на теплое место, мирно погружаясь в сладкий сон.
4
Элен шла рядом с мадемуазель Роз, довольная своей муфточкой, нежное тепло которой разливалась по всему телу. Был зимний день, три часа. В это время года темнело рано; на улице зажигались фонари, и лавки казались сказочными, таинственными и жутковатыми из-за редких огоньков, качающихся под вывесками: то скрипящий на ветру ржавый сапог, то большая позолоченная булка, покрытая толстой коркой льда, или огромные ножницы с раздвинутыми лезвиями, которые вот-вот лязгнут на черном полотне неба. На обледенелых порогах сидели дворники. По обе стороны тротуара возвышались твердые и плотные, искрящиеся в свете фонарей снежные сугробы в человеческий рост.
Они шли к Гроссманам, с детьми которых дружила Элен. Это была богатая, степенная буржуазная семья, презиравшая мадам Кароль. Дверь отворила горничная.
Из соседней комнаты донесся женский смех: «Не все сразу, девочки, вы растреплете мне волосы, вы меня задушите!» И вслед за ним, на все лады, как безупречные гаммы, бегущие с одного конца клавиатуры в другой, послышались радостные детские крики: «Мама, мама!» А потом мужской голос: «Тише, милые мои, оставьте маму в покое...» Элен молча стояла на пороге, глядя в пол. Мадемуазель Роз взяла ее за руку, и они вошли.
Смех тут же смолк. Мебель в их гостиной была такой же, как у Каролей: золотистый торшер, черное пианино, бархатные пуфы. Все молодожены привозили такие из Парижа после медового месяца. Однако здесь все казалось Элен светлее и веселее. Посреди комнаты на цветастом диване лежала женщина.
Элен знала мадам Гроссман, но никогда не видела ее такой: в новом пеньюаре из розового батиста, окруженная детьми. Ее муж, молодой лысый мужчина с толстой сигарой во рту, стоял у дивана, наклонившись к жене. Казалось, он умирал со скуки; его рассеянный, нетерпеливый взгляд переходил от сгрудившихся у его ног домочадцев к двери, через которую он бы с радостью сбежал. Но Элен не смотрела на него, она словно зачарованная любовалась молодой женщиной. Ее черные волосы были растрепаны нетерпеливыми ручонками. Самая маленькая девочка висела на шее матери и, как щенок, пыталась укусить ее за шею и щеки.
«Эта дама не пудрится», – с горечью подумала Элен.
Две другие дочери сидели у ее ног. Самая старшая была бледная, болезненная и томная, с черными косами, закрученными баранками над ушами, а у средней щеки были пухлыми, как сочные персики, которые так и хотелось надкусить.
«А у меня не такие красивые щеки», – подумала Элен, но тут она заметила Гроссмана, его натянутую улыбку и замерший на двери взгляд. «Ему жутко скучно», – со злорадством подумала она. Иногда ей казалось, что она может понимать и угадывать мысли других.
– Здравствуй, Элен, – тихо сказала мадам Гроссман.
Она была худой, некрасивой, но живой и по-лебединому грациозной женщиной. В голосе ее проскользнули нотки жалости.
Элен опустила голову; шуба душила ее своей тяжестью. До нее донеслись слова:
– Я принесла выкройку воротничка для Натали...
– О мадемуазель Роз, вы так добры... Элен может раздеться и поиграть с моими девочками, хочешь, Элен?
– Нет, спасибо, мадам. Уже поздно...
– Ну тогда как-нибудь в другой раз...
От розовой лампы исходил искрящийся, теплый и мягкий свет... Элен смотрела на пеньюар с воланами из батиста, на утопающих в его складках, прижимающихся к мадам Гроссман трех девочек, которые не боялись помять его. Во время разговора мать гладила их темноволосые головки – по очереди то одну, то другую.
«Они такие уродливые и глупые, – в отчаянии думала Элен, – прицепились к мамочкиной юбке, как малышня. Какой позор!.. И даже эта Натали, а сама ведь на голову выше меня...»
Дети молча рассматривали ее. Натали, видимо, поняла, что Элен было неловко и, радуясь этому, то и дело выглядывала из-за юбки матери, когда та не видела ее, надувала щеки, вытягивала губы в трубочку, высовывала язык, косила глаза, строя мерзкие рожицы; но как только взгляд матери останавливался на ней, она тут же превращалась в милого пухлощекого ангела и расплывалась в улыбке. Элен снова услышала:
– Месье Кароль уехал?.. На два года, кажется?
– На разведку золотых месторождений, – отвечала мадемуазель Роз.
– В Сибирь – какой ужас...
– Он не жалуется; похоже, он неплохо переносит климат.
– На целых два года! Бедная малышка...
Мадемуазель Роз погладила Элен по голове, но та резко отстранилась.
Впервые в жизни ей было стыдно за то, что ее бросили, и ей не хотелось, чтобы гувернантка жалела ее на глазах у этих людей.
Они ушли. Теперь впереди шла Элен, и каждый раз, когда мадемуазель Роз пыталась взять ее за руку, она отстранялась, тихонько, но настойчиво, как щенок, который пытается освободиться от ошейника. На перекрестках резкий ветер так сильно хлестал по лицу, что на глаза наворачивались слезы; она украдкой вытирала веки и нос заледенелым кончиком меховой варежки.
– Прикрой лицо муфточкой... Держись прямо, Элен... – долетали до нее глухие слова.
Она на минуту выпрямлялась, но потом снова опускала голову. Впервые она задумалась, стараясь разложить по полочкам мысли о своей жизни, о семье, отчаянно пытаясь найти в своем существовании хоть какую-то радость и постоянство; ей было несвойственно предаваться унынию.
«Вот когда я сижу в своей комнате, у лампы... Мы сейчас воротимся домой... И я непременно сяду за свою желтую парту...»
Она с нежностью представляла свою маленькую детскую парту из крашеного дерева, зеленый фарфоровый колпак керосиновой лампы, которая освещает молочным светом лежащую под ней книгу.
«Нет, я не стану читать... Все эти книги ужасно меня огорчают и тревожат... А мне надо быть счастливой, как все... Сегодня вечером, перед тем как почистить зубы, я выпью стакан молока с бутербродом и съем шоколадку... Потом потихоньку от всех спрячу под подушкой “Мемориал”... Или нет, нет. Сегодня вечером я буду вырезать картинки и рисовать... Я счастлива, я просто хочу быть счастливой маленькой девочкой», – думала она. Застывшая под навесом, точно статуя, мрачная ледяная глыба, темные окна, на которых, как слезы, таяли и стекали по стеклу снежинки, – все вдруг расплылось в ее глазах, превращаясь в беспокойное черное море.
5
Сколько Элен себя помнила, воскресенье она встречала с грустью и тревогой: после обеда мадемуазель Роз уходила к своим подругам-француженкам, оставляя ее во власти невыносимой бабушкиной нежности. Уроки выучены, и не было никакой возможности избежать этих нескольких часов мучительного безделья, когда ей приходилось наблюдать, как в лучах заходящего солнца сверкает серебряный наперсток, да слушать позвякивание фарфоровой чашки на комоде. По воскресеньям, едва она открывала книгу, бабушка начинала причитать:
– Дорогая моя, сокровище мое сахарное, ты испортишь свои красивые глазки...
Как только она принималась играть:
– Не ползай по полу, поранишься. Не прыгай, упадешь. Не кидай мячик о стену, ты мешаешь дедушке. Иди, посиди у меня на коленках. Дорогая, дай я обниму тебя...
Юной Элен казалось, что бабушкино усталое сердце бьется с трудом, но в то же время лихорадочно и тревожно, а этот устремленный на нее старческий взгляд с робкой надеждой искал в ней хоть какое-то сходство с матерью...
– Ну, бабушка, оставь меня, – говорила Элен.
Когда Элен уходила, бабушка до вечера ничего не делала. Она сидела, сложив на коленях худые руки, еще красивые, но потемневшие и потрескавшиеся от возраста и домашней работы, которой она внезапно предалась, находя в стирке и глажке белья, в грубом обращении кухарки что-то вроде удовольствия от собственного унижения. Вся ее жизнь была чередой неудач и несчастий; она испытала бедность, болезни, смерть близких, измены и предательства. Бабушка чувствовала, что дочь и зять с трудом выносят ее. В родных и знакомых кипели силы и энергия била ключом, а она родилась уже старой, беспокойной и усталой. Находясь в полной власти своей пророческой грусти, она больше боялась будущего, нежели плакала о прошлом. Жалобы бабушки угнетали Элен, неосторожные слова пробуждали в глубине души, видимо, унаследованный страх. Ее преследовали чувство незащищенности, тревога, страх смерти, темноты, одиночества, боязни, что мадемуазель Роз однажды уйдет и больше не вернется. Сколько же раз Элен приходилось слышать, как матери ее подружек говорят, глядя на нее притворно нежным взглядом, как смотрят на ребенка, если не хотят, чтобы он что-то заподозрил:
– Если вы только согласитесь... Мы можем предложить пятьдесят рублей в месяц или даже больше. Я говорила с мужем. Он полностью согласен. Вы жертвуете собой, мадемуазель Роз, но ради чего? Дети так неблагодарны...
Все в жизни было зыбко, скоротечно, менялось на глазах. Неумолимый поток далеко и навсегда уносил близких людей, спокойные дни. Иногда мирно сидящую с книжкой в уголке Элен охватывала паника, какое-то предчувствие вселенского одиночества. Комната вдруг становилась враждебной, страшной; вокруг узкого кружка света лампы сгущались тени, подкрадываясь к ней. Мрак душил ее, она махала руками, пытаясь разогнать его, как пловец рассекает толщу воды. Белая полоска света, проникающая в комнату из-под двери, вызывала у нее ужас. Наступал вечер, мадемуазель Роз еще не было дома... и ей казалось, что она уже никогда не придет...
«Она не вернется. Когда-нибудь она уйдет навсегда», – думала Элен.
А ей ничего не скажут. Однажды от нее уже скрыли смерть ее собаки. Чтобы она никому не надоедала своим плачем, ей просто сказали: «Она захворала, но скоро вернется», – добавляя к ее горю еще и муки надежды. В тот день, когда мадемуазель Роз уйдет, ей опять ничего не скажут. Она будет сидеть за поздним ужином и смотреть на их лживые лица.
– Ешь. Иди спать, мадемуазель задерживается, но скоро вернется.
Ей чудилось, что она уже слышит эти притворные жалкие голоса. Элен с ненавистью оглядела комнату – лишь пустота, тишина да изощренно терзающий сердце мрачный покой. Эта тревога была у нее в крови, и ей следовало смириться с ней, как с наследственной болезнью; страх искажал ее бледное лицо, давил ей на грудь, сковывал слабое тело.
Однако когда ей исполнилось десять, она стала находить в этом воскресном одиночестве какое-то меланхоличное очарование. Элен любила необычную тишину этих долгих дней, которые спокойно шли один за другим, словно вращающиеся вокруг своей оси маленькие темные планеты.
Солнечный луч медленно скользил по розовой выгоревшей обивке, которая когда-то была бордовой. Добравшись до лепного карниза, он превратится в узкую светлую полоску, потом медленно исчезнет, и тогда лишь потолок будет отражать белое свечение неба.
Стояли первые осенние дни, когда воздух становится холодным и прозрачным. Прислушавшись, можно было уловить звоночек проезжающего мимо по бульвару торговца мороженым. Листва на деревьях во дворе поредела от августовского, но в этих местах уже осеннего ветра. Ветки, одетые в трепещущие на ветру и просвечивающие на солнце розовые сухие листья, казались совсем хрупкими.
Однажды Элен забрела в комнату матери. Она любила приходить сюда, втайне надеясь застать мать врасплох, выведать ее секреты. Девочку стала интересовать ее загадочная жизнь, что в ту пору проходила большей частью за пределами дома. Элен питала к своей матери странную ненависть, растущую вместе с ней, для которой, как и для любви, у нее не было ни одной и вместе с тем тысяча причин, которую, как и любовь, она могла объяснить только так:
«Потому что она – это она, а я – это я».
Она вошла, заглянула в ящики стола, поиграла со стеклянными украшениями, безделушками из Парижа, что валялись в шкафу. Из соседней комнаты ее позвала бабушка:
– Что ты там делаешь?
– Ищу тряпки, чтобы нарядиться.
Она сидела на ковре, держа найденную на дне ящика комода нижнюю рубашку.
Ткань была разорвана в нескольких местах, вероятно, грубой сильной рукой, резко дернувшей кружева на плече так, что лента еле держалась на нескольких шелковых нитях. От рубашки исходил странный запах, смесь ненавистных духов ее матери, табака и какого-то терпкого, теплого и удивительного для нее аромата, который Элен не могла ни угадать, ни узнать и от которого ей стало не по себе и отчего-то ужасно стыдно.
«Какой же мерзкий запах», – подумала она.
Она то подносила шелковые лохмотья к лицу, то опускала их. На дне ящика лежали и янтарные бусы. Она взяла их, повертела в руке, потом снова схватила рубашку и закрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти что-то давно забытое. Но нет, она ничего не помнит, просто в глубине ее детской души впервые пробудились чувства, от которых ей стало почему-то стыдно и смешно. В конце концов она свернула рубашку в комок, швырнула ее в стену, потопталась по ней и ушла из комнаты, но этот запах сохранился на ее руках и передничке. Элен чувствовала его даже лежа в постели, он проникал в ее детские сны, как зовущий далекий голос, как звуки музыки, как хриплый крик или воркование диких голубей по весне.