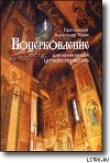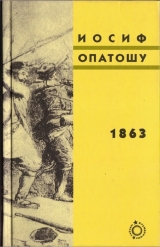
Текст книги "1863"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Вокруг огня
Вечер ложился пятнами на влажную землю, которая становилась твердой и покрывалась инеем.
Зуавы рассыпались по полю и начали готовить места для ночлега.
Мордхе с Вержбицким соорудили из палок и веток шалаш, напоминающий собачью будку, накрыли его соломой и присыпали землей, чтобы ветер не разметал ветки.
Там и тут разжигали костры, появились тени, они становились все плотнее, рядом с кострами расположилась ночь.
Солдаты по десять-двадцать человек сидели вокруг костра, пекли картошку, жарили на прутьях кусочки колбасы и разговаривали наперебой. А когда разговоры вокруг костра иссякли, кто-то затянул песню. Солдаты кутались в бурки, выбивали трубки и, сгорбившись, расходились на ночлег.
Краснопольский с кисточкой на феске сидел на коленках и был похож на турка. Он выпустил дым из маленькой трубки и изящно сплюнул в костер. Куртка расстегнулась, огоньки костра отражались на его красной рубашке. Ночью у костра он не казался маленького роста, а в голосе звучала такая уверенность, что все чувствовали себя рядом с ним вполне надежно.
– Как они могут сравнивать себя с Гарибальди? – Краснопольский по привычке переводил с польского на французский каждую фразу.
– Или с Мерославским? – отозвался сторонник генерала.
– Мерославский все проиграл, и с позором, – вмешался третий.
– Так и есть, панове. – Краснопольский сплюнул прямо в костер. – Герою нельзя проигрывать!
– Чем мог помочь генерал со своими шестьюдесятью солдатами, – пытался оправдать генерала его сторонник, – когда враг окружил его со всех сторон? Здесь бы даже Гарибальди не помог!
– Если он позволил себя окружить, – Краснопольский поспешно затянулся трубкой, – оставалось одно из двух: или разбить врага, или пасть самому на поле боя, а не бежать, когда его шестьдесят солдат резали, как скотину!
Священник в белом плаще с глубоким капюшоном подошел к костру. Он прислушался, вытаращив глаза, осенил крестом солдат и крикнул сдавленным голосом:
– Да здравствует Лангевич!
Крик прозвучал странно в холодной ночи. Прежде чем солдаты успели оглянуться, священник уже стоял у другого костра. Издали эти слова прозвучали как плохое известие.
– Слишком много штатских у нас в штабе, – сказал гарибальдиец.
– И слишком много женщин!
– Это уже не так страшно!
– Грешите, панове!
– Я бы всех дворян повесил.
– А я – священников! – отозвался итальянец.
– Если бы не священники, крестьяне не пошли бы воевать!
– А так они идут, эти мужланы?
– Без священников они бы вовсе не пошли!
– Они так и так не идут!
– Боргия прав, дворян и священников надо повесить!
– А вы уверены, что Гарибальди нам поможет? – перебили Краснопольского.
– Он приведет армию!
– А Кошус, говорят, ведет вторую!
– Вы думаете, французы будут молчать?
– Дураки эти французы, пусть помалкивают!
– Мы быстро дойдем до Варшавы?
– О, братцы, там-то нас и ждут!
– А где твоя Ядвига, Янек?
– В Варшаве.
Глаза загорелись. Радость озарила озябшие лица. Кто-то принес флягу с водкой, глотнул из горлышка и пустил флягу по кругу.
Подошли несколько солдат с восковыми свечами в руках.
– Что за процессия?
– Кто-то умер?
– Это меняют вахту.
– Со свечами?
Солдаты свернули в поле, оставив после себя отсвет пламени, и исчезли в темноте. Над кострами звучали крики священника:
– Многая лета Лангевичу!
– Когда он перестанет орать?
– Как белая летучая мышь!
– Не богохульствуйте! – Пожилой солдат опустился на колени и принялся креститься.
– У нас не крестятся!
– Иди в церковь!
– Для этого мне надо было тащиться за пятьсот миль, из самой Венгрии?
– Не спорьте, братья! Давайте лучше споем что-нибудь! Где учитель из Млавы?
– Вот он!
Учитель, высокий и худой мужчина, наклонился вперед и начал глубоким голосом, неожиданным для столь изможденного тела:
Солдаты придвинулись поближе к учителю и тихо подхватили:
Z czola spływa pot strumieniem,
A krew na odzieży.
Крестьяне, словно тени, окружили певцов. Учитель, воодушевленный присутствием публики, вышел в центр круга. На его лицо упал красный отблеск, голос стал мягче и печальнее:
И над костром раздалось долгое эхо:
Czy zwyciężym, czy zginiemy,
Zawsze sława nam!
Мордхе отступил назад и освободил место остальным. Вержбицкий последовал за ним. Они молча прошли мимо собравшихся вокруг костров людей, которые были похожи на торчащие корни деревьев.
Мимо проскакал на лошади Комаровский, но, увидев Мордхе, вспомнил о чем-то и повернул обратно:
– Тебе привет, Алтер, от пани Фелиции.
– Пан полковник получил от нее письмо?
– Она только что была в штабе. Приехала с поручением. Я отвез ее к границе. – Комаровский передал поводья Мордхе и, махнув рукой, попросил: – Отведи лошадь в конюшню.
От лошади шел пар. Мордхе снял с себя бурку, накрыл мокрую спину лошади и пошел, с трудом передвигая ноги. Он вспомнил о Вержбицком, огляделся. Вокруг никого не было. В темноте выл волк, долго и протяжно. Голова наполнилась звуками.
Жар опалил Мордхе. Он больше не был один и чувствовал присутствие кого-то близкого, словно не лошадь шла рядом, а близкий, очень близкий человек. Он спрятал лицо в лошадиную гриву.
Окрестная тишина вздрогнула: подал голос жеребец. Кобыла вытянула гибкую шею, почувствовала в его руке ночную тоску. Она заржала один раз, второй и зашлась в плаче. На ее губах появилась пена.
Мордхе обнял лошадь за шею, прижался щекой к гладкой белой шерсти и так и стоял в конюшне, вдыхая резкий лошадиный запах и испытывая жажду новых ощущений.
Вержбицкий уже спал. Мордхе с трудом на четвереньках забрался на лежанку, закрытую с трех сторон землей. Влажный теплый воздух дохнул ему в лицо. Он подоткнул под себя солому, залезавшую в уши и в нос и согревавшую продрогшее тело, и поплотнее закутался в бурку, как будто отгораживаясь от товарища и не желая никого впускать в свой мир.
Голоса рассыпались на звуки, раздавались с приглушенным свистом, рассказывали о Мерославском. Через четверть века диктатор лелеял свою мечту, пугая ей королей. И когда он со своей свитой перешел границу, желая воплотить мечту в жизнь, на него напал враг и всех уничтожил. Потерянный, забытый стоит Мерославский в чистом поле, обнимает свою лошадь и плачет.
Глава пятаяМариан Лангевич
Лангевич слегка приоткрыл дверь своей комнаты и вышел поглядеть, все ли в штабе спят. Пробираться было неудобно: люди лежали на столе, на полу. Дежурный сидел у входа на мягком стуле. Он спал, запрокинув голову и раскрыв рот, фуражка, сползшая на сторону, поднималась в такт его дыханию.
Лангевич вернулся в комнату и запер дверь, довольный, что может заняться своими делами, не боясь чужих глаз. В свете таявшей свечи он уселся за стол, снял через голову сумку с кассой, которую всегда носил на груди, вынул маленький блокнот, куда записывал все расходы и доходы, и пересчитал каждую банкноту, каждую бумажку, поступившую за день. Кассу он никому не доверял, проверял ее каждый вечер, складывая банкноту к банкноте. Франки, кроны и польские злотые укладывались в пачки, и Лангевич, с очками на носу, с всклокоченной бородой и горящими глазами, словно алхимик, превращал их в оружие и амуницию. И каждый раз, когда речь заходила о деньгах, он докладывал, что в кассе столько-то и столько-то пушек.
Лангевич спрятал банкноты в холщовую сумку, повесил ее на грудь и стал просматривать свежие сведения о расположении врага. Он быстро начертил карту и решил, что спокойнее будет остаться в Гоще. Враг сюда доберется дня через три-четыре. Однако с каждым днем уменьшаются запасы продовольствия. Солдаты опустошили все соседние деревни, забрали у крестьян картошку, муку и скот. Может, Езиоранский прав – Лангевич встал и зашагал по маленькой комнатке, у такой плохо подготовленной, неповоротливой армии всегда будут проблемы с продовольствием. Значит, надо поделить армию на отряды, это может приостановить восстание, затянуть его на месяц-два, но в конечном счете все закончится победой. Россия каждый день стягивает войска. Скоро она займет все деревни и леса, посылая один отряд за другим. У армии со штабом есть адрес. Нам обязательно помогут. Франция выступает за то, чтобы между Россией и Германией появилась свободная Польша. Не ради Польши, а во благо Франции. Если б только мы, поляки, желали освободить Польшу! Но мы не хотим! Винницкий сеет раздор, Езиоранский завидует и деморализует армию. Чаховский молчит, но может в любое время забрать свой полк и уйти. Поди стань диктатором с такой армией! И нужно четко все оговорить, а то, глядишь, завтра Мерославский захватит власть! Этот демагог наводнил Гощу своими прокламациями. Варшава молчит, уже неделю нет известий. Граф Грабовский вызывает подозрения. Должно быть, тут готовится какая-то игра, на кону – свободная Польша. Странно, что дворянам вдруг понадобился диктатор. Они хотят собрать все польские силы, передать их врагу и положить конец восстанию. Они могут в этом преуспеть. А если нет – в истории всякое случалось, – всех дворян повесят на деревьях.
Лангевич устало присел к столу, посмотрел, как оплывает светильник, и чем темнее становилось в комнате, тем больше тени расползались по углам и ложились посреди комнаты. Он вынул часы, время позднее. На дворе уже давно наступила ночь. Что-то беспокоило Лангевича. Он рассердился, что его оставили одного, что Генрика так задерживается. Уже час прошел с тех пор, как она ушла с Чаховским на позиции. Хоть бы Генрика осталась с ним! За то, что в Гоще собралась армия, нужно благодарить только ее. Она заставила его объединиться с Езиоранским. И кто знает, может быть, добровольцы, которые прибывают каждый день, тоже приходят ради нее? Вся Польша говорит о Генрике!
Голова у Лангевича отяжелела и опустилась на грудь. За стеной царил сон, убаюкивая все вокруг, словно кваканье лягушек на весеннем лугу. Сон перенес Лангевича в другой мир, где враг был разбит, Польша свободна, а сияющая Генрика подняла «диктатуру», валяющуюся у ног Лангевича, и надела ее ему на голову.
Вдруг Лангевич вскочил со стула, схватил револьвер и с перекошенным лицом бросился к двери, за которой слышались голоса.
Посреди комнаты стоял Чаховский с хлыстом в руке и, глядя пустыми серыми волчьими глазами, успокаивал разгоряченных солдат, наставивших на него револьверы.
– Что такое? Что случилось? – спросил Лангевич.
Никто его не услышал. Чаховский твердил:
– Ему свиней пасти, а не мундир носить! Дежурному нельзя спать! На месте Лангевича я бы вас всех разогнал, отправил свиней пасти!
– Пан полковник не имеет права распускать руки! – возразил бледный длинноносый дежурный.
– Надо было тебя пристрелить! – Чаховский пристально следил за каждым движением солдат и офицеров, парализуя их взглядом. – Солдату не положено спать на посту! А этот еще перечит. Заткни рот!
Чаховский прошелся по комнате, успокоился, косо посмотрел на Лангевича, как будто говоря: «Это твоя работа!», – и вышел на улицу.
Усталая досада прорвалась из-за расстегнутых мундиров. Кто-то сел, кто-то встал:
– Он думает, что мы кто?
– Нас можно обижать?
– Поднимать руку на равного?
– Хватит молчать!
– Не кормят!
– Спать не дают!
– Пусть извинится перед нами!
– Кто пойдет со мной к генералу?
– А генерала он слушает?
– Нас послушает!
– Идемте!
Сабли зазвенели, началась суета. В суматохе никто не обращал внимания на Пустовойтовну, пока она не сказала добродушно:
– Что вы так кипятитесь, панове? Ну и что, что Чаховский нас не уважает? Солдат он хороший и обращает в бегство врага. Я из знатного рода, как и вы, и даже если бы он назвал меня «серой сукой», но при этом выигрывал сражения, я бы промолчала и не стала возмущаться.
– Пусть не распускает руки! – попытался кто-то возразить.
– Если дежурный спит на посту, его надо пристрелить! Каждый из вас об этом знает!
Речь Генрики остудила пыл. Офицеры стали укладываться на пол. Тут и там еще слышалась ругань. Однако вскоре комната погрузилась в сон.
Лангевича, наблюдавшего за этой сценой, нисколько не волновало происходящее, он злился, что в этой суете все забыли о нем. Никому и в голову не пришло обратиться к генералу, стоявшему в дверях. Никого не волнует, что он генерал, а завтра станет диктатором! Как будто это не его дело! Ну и что, что он бьет врага? Генрика бы никогда за него не вступилась! Она отрицает, но Лангевич уверен, что она неравнодушна к Чаховскому и все еще любит его…
Он опустился в глубокое кресло, положил голову на спинку и прислушался, как кровь стучит в висках.
Тихо вошла Генрика, посмотрела на сгорбленного генерала, который в кресле выглядел меньше ростом, и поняла, что он переживает из-за нее. Она погладила его коротко стриженные волосы. Этого было достаточно. Лангевич поднялся с кресла и усадил в него Генрику, готовый простить ей все прегрешения. Его нахмуренное лицо посветлело.
Генрика вела себя так, что было ясно: в комнате находятся не генерал с адъютантом – здесь сидит избалованная самовлюбленная дама, которая не слушает, что ей говорят, и смотрит на свой офицерский мундир, как будто впервые надела его.
– Что скажешь, Генрика? – Лангевич положил пальцы правой руки между двумя пуговицами мундира, нащупал кассу, висевшую на груди, и почувствовал себя увереннее. – Они все тут настаивают, чтобы я стал диктатором…
– Кто это все? Ты имеешь в виду шляхту из Вавеля? – перебила она. – Армия распадается, Езиоранский и его штаб поддерживают тебя из милости, и вдруг – диктатор! Над кем?
– Почему ты против? – Его голос дрожал.
– Ты же слышал, – она по-мужски закинула ногу на ногу, – я совсем не против. Но я хочу, чтобы ты добился диктатуры собственными руками, а не брал ее из рук шляхты, как подарок, делая себя предметом насмешек любого сукиного сына в штабе. Ведь это так просто! Диктатура валяется под ногами, просто нагнись и подними, и все заткнутся. Если ты, Мариан, получишь ее от шляхты, тебе этого никогда не простят! Ты не знаешь Езиоранского и, главное, этого интригана, пресловутого рябого Винницкого…
– А что говорит Чаховский? – спросил Лангевич, спохватился, что сказал лишнее, попробовал исправить ситуацию, но только ухудшил ее. – Он, конечно, против!
– Я с ним об этом не говорила.
– Не говорила?
– Чаховский – прирожденный солдат. Он не вмешивается в политику и злится, что мы сидим в Гоще, ничего не делаем, а враг тем временем подбирается все ближе.
– Ты все время об этом твердишь, я это уже слышал, а что говорит Чаховский?
Она пожала худыми плечами, будто стряхивая что-то неприятное, и продолжила:
– Сидят люди в Гоще и хотят делать историю. Но историю не делают, она получается сама по себе.
– Генрика, ты все еще любишь его?
– Кого?
– Чаховского.
Не ответив, она свернула папиросу из его табака и закурила. Она выглядела как пансионерка, переодевшаяся в военный мундир.
– Что ты молчишь, Генрика? – Он подошел к ней. – Говоришь, не надо принимать диктатуру?
– Нет.
– Тогда ее возьмет кто-то другой.
– Другого нет.
– А Мерославский?
– Ты в каждой тени видишь конкурента. Мерославскому никогда не простят поражения при Кшивосондзе.
– Так что ты посоветуешь, дорогая Генрика?
– Сначала надо победить врага!
– Мы этим и занимаемся!
– Сейчас, Мариан, бьют нас, и не забывай, что, когда ты станешь диктатором, враг не будет сидеть сложа руки. Он соберет против тебя армию побольше, чтобы разбить нашу кучку солдат, а ты уже подумал, каково быть диктатором без армии?
Лангевич стоял перед Генрикой, гладил ее мягкие стриженые волосы и удивлялся, почему в ее присутствии в нем появляется такая уверенность. Все узлы превращаются в петли и с легкостью развязываются.
От ее светлого пробора исходило свечение, которое видел только он, Лангевич, и верил, что всегда, когда это свечение появляется, опасность исчезает. Он наклонился над ней, и, когда Генрика ускользнула от него, Лангевич все еще стоял согнувшись, наслаждаясь светлым теплом, которое Генрика оставила в комнате.
Глава шестаяДиктатор
Лангевич проснулся в полдень. Как обычно, хмурый и печальный, он сам объехал позиции. Он забыл, что обещал вчера Генрике, и был уверен, что если сегодня он не примет диктатуру, то завтра диктатором станет Мерославский.
Лангевич ехал по лесу. Военная часть уже с рассвета маршировала по полю в долине. Кавалерия галопировала взад-вперед. Солдаты в коротких полушубках, в вытертых кафтанах, в уланских мундирах, в охотничьих шинелях пробегали мимо него. Монахи в белых рясах с четками в руках сновали среди солдат. Люди шли с косами, длинными саблями, крутились вокруг кузниц, где плавили пики, косы, железные пруты. Серое утро наполнялось искрами и веселой песней:
– Do broni, ludu, powstanmy wraz[67]67
Народ, к оружию, будем держаться вместе (марш Мерославского, 1848 г.).
[Закрыть].
Холодное промозглое утро освежило Лангевича. Он почувствовал себя увереннее, уселся поудобнее в седле, будто с детства ездил верхом, и взглянул на армию, маршировавшую в долине. Его взгляд упал на палатки, костры, солдат, сходящихся в круг и перестраивавшихся в шеренги до самого дома ксендза. Все это было дело его рук. Это грело душу. Еще вчера он тайно пересек границу, питался хлебом с молоком, которые выпрашивал у крестьян в деревнях, и, если одно чудо с ним произошло, значит, чудеса будут продолжаться. Лангевич почувствовал себя лидером, который не останавливается перед сложностями, сметает все на своем пути, пусть даже на нем окажется Генрика, и верит, что завтра-послезавтра он будет стоять с огромной армией под Варшавой.
Лангевич пустил лошадь по лугу и проехал мимо конюшни, где солдаты разгружали телегу с мешками.
Офицер, шляхтич лет сорока, с пышными усами, закрывающими рот, стоял, прислонившись к двери конюшни, скрестив ноги, и курил трубку.
– Что вы разгружаете? – спросил Лангевич у солдат.
– Собрали немного овса для лошадей, – процедил офицер, не вынимая трубки изо рта.
– Кто послал вас собирать овес для лошадей? – спросил Лангевич строже.
– Никто меня не посылал, – небрежно ответил шляхтич, продолжая курить.
– Когда говоришь с генералом, убери трубку от морды! – почти крикнул Лангевич.
– Это у лошади морда, а не у шляхтича.
– Заткни рот!
– Нет уж!
– Молчи, я прикажу тебя арестовать!
– Эй, хлопцы, – крикнул шляхтич солдатам, – поехали! Раз обижают вашего офицера, больше мы здесь не задержимся!
Лангевич дрожал от волнения, но не успел он и глазом моргнуть, как солдаты со своим офицером были уже далеко в поле.
Лангевич растерялся. Перед ним стоял чужой лагерь. Никто не стремится освободить Польшу, все только рвутся к власти. Завтра все могут покинуть его – Езиоранский, Чаховский, и он останется диктатором лесов.
Он ехал между палатками, отпустив поводья, чтобы лошадь шла, куда хотела. Его хмурое лицо было печально.
Вержбицкий вылез на четвереньках из шалаша. Когда Лангевич подъехал, Вержбицкий, забыв, что его руки и ноги затекли от холода, встал по стойке «смирно». Его голубые глаза преданно смотрели на генерала, он был готов оказать ему любую услугу, даже если для этого придется пожертвовать собственной жизнью.
Лангевич проехал мимо, не заметив солдата; когда Мордхе выполз из шалаша, Вержбицкий дернулся, будто хотел побежать вслед за генералом, и вдруг обнял Мордхе.
– Какие из нас солдаты? Мы только глаза продрали, а наш генерал уже объезжает позиции!
После завтрака Лангевич выслал адъютантов из комнаты, поставил у двери пост из косиньеров[68]68
Крестьяне, вооруженные косами.
[Закрыть], чтобы те не пропускали посторонних, и молча ждал, когда народ начнет собираться.
Сидя в четырех стенах, он спорил сам с собой. Куда бы ни падал его взгляд, везде он видел врага. Он боялся, что с Беханским, делегатом от народного правительства, будет труднее договориться, чем с Езиоранским.
Диктатура перестала быть для него предметом гордости. Его совесть корчилась, запутавшись в сетях, и никак не могла освободиться. Он предчувствовал – хотя боялся говорить об этом вслух, – что в любом случае, даже если он станет диктатором и дойдет со своей армией до Варшавы, ему предстоит поражение. Страх стать диктатором без армии не мешал ему принять диктатуру, а только усиливал отчаяние, делая ожесточеннее и без того хмурое лицо. Достоинство Лангевича состояло в том, что он никогда не жаловался, если проигрывал.
Первыми пришли Езиоранский с Винницким. Их сапоги были испачканы по голенища, но лакированная кожа кое-где просвечивала сквозь засохшую грязь. Шинели были измазаны и измяты, будто офицеры бродили в полях вместе с солдатами.
– А мы думали, что опоздаем. – Винницкий, в своей манере, говорил за себя и за своего товарища.
– А вот и Валигурский! – стал оправдываться Лангевич, словно был виноват в том, что не все еще пришли.
Лангевич решил сегодня держаться, как обычно, приветливо. Он проскользнул между Винницким и Езиоранским, сделал с ними несколько шагов, тут же оставил Винницкого и взял Езиоранского под руку. Они прошли из одного угла комнаты в другой. Лангевич собирался прощупать почву, узнать у Езиоранского, что тот о нем думает, но разговор повернулся в другую сторону, и Лангевич заговорил о пустяках. В дверях появился командующий армией Бентковский. Лангевич извинился и подошел к Бентковскому.
Езиоранский вскинул голову, на которой красовалась фуражка с перьями. Он сел посреди комнаты и поставил саблю между коленями. Винницкий наклонился к нему:
– Хотел узнать, каковы его шансы?
– Я не сказал ему ни слова! – Езиоранский застегнул шинель с помятой цветной лентой на плече и принял театральную позу. Винницкий улыбнулся. От его рябого лица, словно изборожденного следами оспы, веяло холодом. Растрепанные волосы были жесткими, а маленькие злые глаза смотрели так, как смотрят глаза убийцы.
Валигурский, тихий, суеверный, забился в угол; глядя на Винницкого, сидевшего напротив него, он чувствовал себя весьма неуютно и совершенно не понимал, что этот человек с дьявольским выражением лица делает здесь. Он смотрел на Лангевича своими мягкими глазами, словно уверял его: «Как ты прикажешь, так я и сделаю, генерал». Он не совсем понимал, что здесь будет происходить, однако заметил, что Винницкий плетет интриги против Лангевича, и еще больше возненавидел рябого.
Валигурский держал правую руку в кармане брюк, где лежали несколько злотых. Он неустанно перебирал их, насчитал уже несколько тысяч и верил, что, если дойдет до десяти тысяч к началу совета, Лангевич станет диктатором.
Беханский, делегат от народного правительства, с подвижным, редко улыбающимся лицом бродил по комнате в задумчивости, теребил тонкие усы, казалось, все его тело выражало сомнение, а высокие плечи твердили: «Что вы делаете, люди? Что вы задумали? Это же заговор против народного правительства!»
Бентковский, глава штаба с внешностью дипломата, велел убрать со стола колбасу и хлеб. Он ходил по комнате с блокнотом, где с немецкой дотошностью отмечал каждую мелочь.
Граф Грабовский с двумя помощниками щеголяли салонными манерами. Надушенный и причесанный Грабовский разглядывал присутствующих в монокль, и его красивое аристократическое лицо было уверенно и спокойно.
Чем больше собиралось народу, тем больше Лангевич замыкался и совсем не принимал участия в разговоре, словно все это его не касалось. Он нашел где-то пару очков на широкой тесемке, надел их и стал больше похож на немецкого профессора, нежели на генерала.
Беседовали по два-три человека. Возгласы поднимались над головами, крики раскатывались по столу, в комнате стоял шум и гам. Люди не снимали шапок и зимних мундиров – все говорило о том, что здесь решения принимаются спешно, на скорую руку.
Езиоранский схватил Бентковского за руку и сказал:
– Понимаете, в принципе я против того, чтобы он становился диктатором, я глубоко убежден, что каждый из нас имеет на это такое же право, как Лангевич. Но во имя патриотизма я поддержу его кандидатуру!
– Мы поддержим его, если он откажется одновременно командовать армией, – добавил Винницкий.
– Это верно, – почти шептал Бентковский Езиоранскому. – Вы, генерал, и Чаховский будете командовать солдатами.
– Кто, Чаховский? – На рябом лице Винницкого резче обозначились оспины. – Потому что он за свою жизнь застрелил много диких кабанов? Или, может, потому, что он флиртует с Пустым Войтеком?
– С кем? – удивился Бентковский.
– Не слушайте этого шутника, – развеселившись, Езиоранский закрыл Винницкому рот рукой, – он говорит о Пустовойтовне.
– Некрасиво так говорить о коллеге, и к тому же о женщине, – обиделся Бентковский.
– Дело идет к дуэли, пане Бентковский. – Винницкий сделал серьезное лицо.
– Между кем?
– Между Лангевичем и Чаховским.
Вдруг стало тихо. Лангевич, бледный, как обычно, сказал:
– Панове и коллеги, поскольку в моем присутствии вы будете себя чувствовать несвободно и не сможете разговаривать откровенно, я лучше выйду, чтобы дать каждому из вас возможность…
– Исключено, исключено! Генерал останется с нами! – крикнуло несколько человек.
Езиоранский подошел к Лангевичу и обнял его:
– Ты нам не помешаешь, останься.
Они присели на скамейку. Стало тихо. Граф Грабовский, сидящий во главе стола, оглядел в монокль собравшихся и начал с достоинством, приличествующим дипломату:
– Всем известно, по какому поводу мы здесь собрались, это ни для кого не секрет. Временное народное правительство, панове, не может работать тайно. Старое правительство, не способное управлять восстанием, распущено. Однако Европа, которая готова прийти на помощь Польше, требует сформировать новое правительство. Я уполномочен, прибегнув к помощи армии, принять участие в его создании. Вчера мы проводили в Кракове собрание с представителями всех партий и единодушно проголосовали за то, чтобы правительство возглавил наиболее подходящий для этой миссии человек – генерал Лангевич.
– Да здравствует генерал Лангевич! – воскликнул Валигурский, его тут же поддержали остальные.
– Кто из вас, панове, против, пусть выскажется, – продолжил граф.
Все смотрели на высокого и худого Беханского, делегата от народного правительства, который стоял лицом к окну, заложив руки за спину. Его длинные тонкие пальцы не лежали спокойно, а нервно дергались, споря друг с другом, будто вели собственную жизнь и не имели отношения к телу.
Беханскому не удалось выступить. Из угла неожиданно подал голос Винницкий:
– Можно ли увидеть письмо графа Грабовского?.. Я имею в виду, панове, кто видел письмо, которое нам отправило народное правительство через графа?
– У меня, оно у меня, – ответил Хржановский так убедительно, что никто не обратил внимания на претензии Винницкого.
Кагане, которого до этого не было видно в комнате, вдруг появился рядом с Грабовским. Они посмотрели друг на друга. Безмятежность покинула лицо графа. Кагане поклонился:
– Я считаю, что вопрос, который задал полковник Винницкий, очень важен…
– Вас приглашали на собрание? – перебил его Бентковский.
– Меня никто не приглашал, но у меня есть важное сообщение, – снова начал Кагане.
– Не сейчас, не сейчас. – Бентковского злило отсутствие дисциплины в штабе. – Вы мне его передадите лично.
– Кто это такой? – спросил один из краковчан, когда Кагане вышел из комнаты.
– Из лагеря Мерославского, – ответил другой. – Разве не видно?
Настроение в комнате вдруг изменилось. Все, кто с утра сомневался в Лангевиче и сделал его диктатором только потому, что никто не хотел отдавать эту должность кому-то другому, – все эти люди теперь сочли необходимым подойти к Лангевичу и сказать ему несколько фраз, весомых и кратких. Каждый говорил от имени остальных и непременно подчеркивал, что для него было чрезвычайно важно, чтобы Лангевича сделали диктатором. Первым поднялся граф Грабовский и пожал Лангевичу руку:
– Сегодня мы хорошо поработали. А знает ли пан диктатор, какие трудности мне пришлось преодолеть?
– Я знаю, я знаю. – Лангевич схватил руку Грабовского и весь затрясся от волнения.
– Мы сделали еще кое-что, – подхватил второй, – мы устранили Мерославского.
– Сегодняшний день останется в истории благодаря тому, – Езиоранский выпрямился во весь рост, – что Европа узнает наш «адрес», адрес Польши, я имею в виду. – Он наклонился к диктатору, обнял его и напыщенно произнес: – Наш адрес это ты, Лангевич!
– Да здравствует Лангевич! Да здравствует наш Лангевич! – раздались крики, к ним присоединились голоса во дворе.
На этом празднике Лангевич чувствовал себя потерянным. Слова падали на него, как камни, и, хотя он добродушно улыбался то одному, то другому, он понимал, что это не игра. Генрика права: есть ли смысл становиться диктатором, если враг не разбит.
Лангевич больше не слышал, что ему говорят, не чувствовал рукопожатий. Он вгляделся в задымленный воздух, пытаясь отыскать Генрику, и спросил у присутствующих:
– Где Пустовойтовна?
Женщина вошла и отдала честь:
– Я здесь, пан генерал!
Лангевич обменялся с ней взглядом, нахмурился и заговорил с соседом, но взгляд Генрики не оставлял его и напоминал: нужно найти врага, вызвать его на бой и разбить. Он знал, что, стоит ему оступиться, все, кто радуется сейчас вместе с ним, первыми бросят ему в лицо слово «предатель». Что случилось с Скржинецким[69]69
Скржинецкий Ян (1787–1860) – польский генерал, командующий польской армией во время восстания 1830 года, потерявший доверие войск после поражения под Остроленкой.
[Закрыть]? С князем Йозефом? В Польше нужно создать государство за один день, иначе пропадешь.