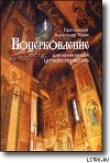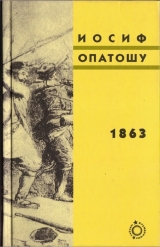
Текст книги "1863"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Иосиф Опатошу
1863
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ «В ПОЛЬСКИХ ЛЕСАХ»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ПАРИЖЕ
Глава перваяНорвид Циприан[1]1
Польский писатель и живописец (1821–1883). С 1855 г. жил в эмиграции в Париже. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть]
В библиотеке Парижского арсенала за длинными массивными столами несколько человек засиделись до самого вечера. Усталый библиотекарь с сероватым, словно покрытым пылью лицом семенил вокруг столов, помогая посетителям собирать книги и складывать их на тележку. Проходя мимо мужчины лет сорока, дремавшего над книгой, он разбудил его и стал сердечно извиняться за беспокойство. Мужчина открыл глаза, схватился за книгу обеими руками и привился шевелить губами, чтобы показать, что он вовсе не спит. Какой-то посетитель качался на стуле, поглаживая мягкую бородку, как у Наполеона Третьего на портрете, висевшем на стене, и глядя на императора влюбленными глазами.
В узкие открытые окна, выходившие на площадь Бастилии, ворвались солнечные лучи. Они отразились в золотых полетах императора, упали на каменный пол, на толстые книги и осветили золотом Мордхе, который сидел над книгой с закрытыми глазами и размышлял.
Мордхе забыл, что находится в библиотеке Парижского арсенала, что вокруг сидят люди, наблюдают за его жестами и смеются над его гримасами. Тысячи книг в шкафах, стоявших вдоль стен, значили для него больше, чем слова или призрачные тени. Его окружали люди разных стран и поколений, это были не чужие лица, проходящие мимо с пустым взглядом, как на ярмарке. Он различал морщины, узнавал улыбки, знал родословную каждого из них. Обыденность скучна, но существует и другой мир. Возишься в пыли и слышишь движение миллионов невидимых слов, напоминающих о том, что их час уже пробил. Слова, пришедшие преждевременно в этот мир и не получившие исправления при жизни, превращаются в искры и воскресают вновь[2]2
Согласно каббалистическим представлениям, искры Божественного присутствия рассеяны по миру. Исправление мира заключается в возвращении Божественных искр к их источнику. Важная роль в процессе исправления и спасения мира отводится человеку.
[Закрыть]. Бог радуется слову, которое человек обновляет и возвышает, Он целует слово, венчает его семьюдесятью узорчатыми коронами. Увенчанное короной слово парит над семьюдесятью мирами, пока, очищенное, не приходит к Ветхому старцу. А слова Ветхого старца – это слова мудрости, полные тайны: Ветхий старец берет трепещущее слово, венчает его тремястами семьюдесятью коронами, и из слова рождается небо, а ты, человек, обретающийся в пыли, исправляешь забытые слова и становишься участником Сотворения мира.
Голубые круги, плавающие перед закрытыми глазами Мордхе, росли и краснели, словно невидимая рука выжимала капли крови на их трепещущую голубизну. Лучи света падали на веки, зажигали тысячи огней и приносили с собой тоскливый голос бакалейщика. Слова ворвались с площади Бастилии и прорезали тишину библиотеки:
– Ран-до-ла! Ран-до-о-ла-а!
Крик раскатился по залу, прозвучало знакомое имя, и Мордхе увидел, как в распахнутом черном пальто, с длинными волосами до плеч входит Пико делла Мирандола[3]3
Итальянский мыслитель и каббалист эпохи Возрождения (1463–1494).
[Закрыть], чья душа изучала каббалу в Вавилоне. Он кладет свои семьдесят тезисов к ногам папы Юлия и обещает оплатить дорожные расходы всякого ученого, который осмелится вступить с ним в публичную дискуссию. Никто из придворных мудрецов не двигается с места. Мордхе выступает из толпы и кланяется папе:
– Я принимаю вызов.
Подошел библиотекарь, увидел, что юноша сидит с закрытыми глазами, потянул его за рукав и попросил прощения за беспокойство.
Мордхе открыл глаза. Свет, соединявший его с иными мирами, вдруг исчез, он недовольно поглядел на пыльного библиотекаря.
Из какого-то переулка все еще доносился крик торговца, потерявший свою магическую силу. Солнце садилось. Мордхе посмотрел на библиотекаря, сидевшего за кафедрой в середине читального зала и вырезавшего что-то ножницами из газеты, и подумал: ходил ли прежний библиотекарь, Адам Мицкевич, между столами, мешая посетителям сосредоточиться? Мордхе взглянул на императора, вспомнил оду, которую Адам Мицкевич написал для него на языке Горация[4]4
Последняя ода А. Мицкевича, написанная на латыни в честь англо-французской победы в битве за Бомарзунд и обращенная к Наполеону III.
[Закрыть], и сердце у него защемило.
Было почти семь часов вечера. Мордхе закрыл книгу и удивился, что еще не пришел его знакомый, с которым он должен был встретиться в библиотеке с пяти до шести. Мордхе направился к выходу. В длинном полутемном коридоре с каменными винтовыми лестницами сидел консьерж. Он чистил проволочкой изогнутую, как вопросительный знак, трубку и следил, чтобы никто не выносил книги из библиотеки.
Мордхе остановился у открытого окна, оглядел площадь Бастилии, откуда улочки и проулки устремлялись на широкую улицу Риволи, распределяя поток прохожих по обеим сторонам тротуара. Старые домишки на маленькой площади словно придвинулись друг к другу и слились с серым вечером, они выглядели точно нарисованные. Эти маленькие сооружения напомнили Мордхе рыночную площадь в Варшаве, пахнуло домом. Он почувствовал руку на плече и обернулся.
– Прости, Мордхе, что я заставил тебя так долго ждать, – поклонился Кагане. – Я случайно познакомился с офицером, известным Виньи, французом, удивительным человеком, говорю тебе! У него обучаются военному делу сотни юношей: они занимаются физической подготовкой и учатся быть хорошими солдатами, а он сможет стать их командиром, если понадобится. Я хочу, чтобы ты записался к нему!
– Не кричи. – Мордхе повернулся к выходу. – Консьерж подумает, что мы ссоримся. Видишь, как он смотрит на нас.
– Что? Я кричу? – улыбнулся Кагане, подхватил Мордхе под руку, и они вышли на улицу.
Широкая улица Риволи выглядела празднично. Тротуары слепили светом, как паркет в танцевальном зале. Кричащие неоновые лампы над магазинами тянулись вдоль всей улицы, изгибались и выглядели словно нанизанные на нитку полумесяцы. Красные лампочки горели, подсвечивая вывески над окнами кабаре, манили и уверяли, что профурсетки понимают на всех языках.
На террасах ресторанов уютно расселись посетители, они ели, пили и читали газеты при свете фонарей. У ювелирных лавок, как заколдованные, стояли толпы народу. Прохожий мог разглядеть себя в витрине со всех сторон, он словно становился прозрачным и наблюдал, как разложенные бриллианты мерцают огненными каплями. Заснувшие было желания начинали просыпаться, таращить зеленые глазки и гримасничать. Они трепетали перед огненными каплями вспыхивающим зеленым и красным светом, гаснущим, снова загорающимся и отражающимся в светлых жемчужинах. Мерцающие огоньки соединялись маленькими радугами.
Мордхе с Кагане молча свернули на площадь, где какой-то еврей, нагнувшись над тележкой с орехами, непрерывно кричал по-французски и на идише, подзывая прохожих:
– Орехи, орехи, орехи! Покупайте нислах[5]5
Орехи (идиш).
[Закрыть]!
Потом он устал и, поскольку покупателей не было, перешел на новолетний напев:
– Ой, ве-нислах лехол адас…[6]6
И будет прощено всей общине (Бемидбар [Числ.], 15:26). Строка из молитвы на религиозный праздник Новолетия (Рош а-Шана) – начало года по еврейскому календарю.
[Закрыть]
Кагане рассмеялся. Мордхе засмеялся вместе с ним, не понимая, отчего ему становится тоскливо. Он остановился.
– Куда мы идем?
– Да, я же совсем забыл. – Кагане остановился, но тут же снова взял Мордхе под руку, и они отправились дальше. – Завтра Куржина[7]7
Секретарь польского революционера, генерала Людвика Мерославского (1814–1878).
[Закрыть] уезжает в Льеж. Он займется организацией местных студентов и попробует выслать партию ружей. Я получил письмо с жалобами на первую партию. Половина ружей никуда не годится. Они послали брак: ружья без отверстий в стволах, без курков, лишь бы послать! Я отправлю письмо капитану Годебскому, он хороший человек…
– Вы знакомы?
– Лично мы не знакомы. За этим я и иду к Норвиду. Он обещал передать письмо. Норвид в хороших отношениях с капитаном…
– К поэту?
– Да.
– А мне можно с тобой? Я ведь его не знаю.
– Ничего страшного, Мордхе. Норвид – один из самых достойных и глубоких людей, которых я знаю. Он тебе понравится. Правда, он немного болтлив и любой разговор сводит к Иисусу. Норвид живет здесь. – Кагане показал на высокий узкий дом. – Заходи!
Мордхе последовал за Кагане, и чем выше он поднимался по ступеням, тем тяжелее становился шаг. Он понимал, что идет к человеку, имя которого в определенных кругах упоминают рядом с Мицкевичем и Словацким, и думал о том, что он сам, Мордхе, нисколько не изменился. Еще года три назад он с таким же трепетом входил в дом к Коцкому ребе.
Кагане постучал. Послышались шаги, дверь открылась, из нее выглянула лохматая голова:
– А, пане Кагане… Проходите! Простите, что принимаю вас в темноте, сейчас зажгу свечу.
Мужчина взял с окна свечу, зажег ее, вставил в медный подсвечник и поставил его на столик рядом с Остробрамской Богоматерью[8]8
Икона Богоматери на городских воротах Вильнюса, одна из главных католических и православных святынь Литвы.
[Закрыть].
– Это мой коллега, – Кагане представил Мордхе. – Знакомьтесь, Мордхе Алтер…
Норвид горячо пожал руку Мордхе и пододвинул стул:
– Садитесь, пане Алтер… Чувствуйте себя как дома. Без церемоний. «Пане» – это на старый польский манер, ничего более! На самом деле я имею в виду – «брат»…
Услышав это, Мордхе почувствовал себя уютно.
Маленькая комнатка была увешена картинами и напоминала музей. У стены стоял диван, покрытый итальянским покрывалом. Над диваном на двух крюках висел гамак. В комнате было всего три стены, и из-за острого угла казалось, что потолок низко нависает над головой.
Норвид, заросший, с косматой бородой, в рубашке с глубоким вырезом, был немного похож на Христа, каким его обычно изображают на православных иконах. Оба стула, стоявших в комнате, он предложил гостям, протянул им открытый портсигар, а сам устроился на диване и принялся посасывать трубку, наполняя комнату дымом и болтая без умолку:
– Значит, Куржина едет завтра… Хорошо, я приготовил для него письмо. Но что вы стоите? Садитесь и рассказывайте, что нового! Судя по новостям в «Дзеннике Познаньском»[9]9
«Дзенник Познаньский» – польская газета, издававшаяся в Познани (1859–1939).
[Закрыть], со дня на день можно ждать восстания. Если нападения на Варшаву продолжатся, то оно может случиться в любую минуту.
– Оно закончилось бы неудачей, пане, – перебил его Кагане. – Народ пока не готов! Если нам удастся еще год поработать, я уверен, что мы выгоним москалей из Польши… Европа с нами! Каждый день на собраниях к нам записываются десятки добровольцев! Я не говорю о поляках. Записываются французы, итальянцы, немцы – они готовы пожертвовать своей жизнью ради освобождения Польши! А что вы скажете о поддержке Карла Маркса? Я имею в виду его лондонское воззвание помочь Польше. Говорю вам, пане Норвид, евреи обязательно поддержат, они не останутся в стороне. Больше тысячи лет прожить бок о бок, дышать одним воздухом, встречаться каждый день – уже только это говорит о наших глубоких корнях, похожих на щетину, которая прорастает на бритом лице и всем бросается в глаза! Как только евреи услышали, что их уравняют в правах, они тут же откликнулись и еще как откликнулись! От варшавского раввината этого можно было бы ожидать в последнюю очередь, а он первым стал участвовать во всех демонстрациях! Везде, где судьба Польши стоит на кону, свиток Торы примирился с крестом! Представьте только, – от воодушевления Кагане даже встал, – правоверный еврей, верящий всей душой, что он часть избранного народа, что его предназначение – служить и славить еврейского Бога, не получая никакого вознаграждения, быть готовым в любую минуту умереть во имя Его, – этот еврей вдруг забыл о всех преследованиях со стороны польского народа и начал дарить церкви серебряные подсвечники, канделябры…
Норвид, окутанный дымом и похожий на небожителя, выглядывающего из облаков, вдруг поднялся, подошел к Кагане и обнял его:
– Мы забыли о несправедливостях, поляк стремится к согласию, он хочет видеть в еврее друга, равного себе…
– Об этом я и говорю, – подхватил Кагане. – Когда народ достигает такого уровня развития, он получает право на свободу…
– Я думаю, – продолжил Норвид, – что, пока пророк не будет признан в своем городе, своим народом, народ не может стать свободным. Это великая цель, к которой должен стремиться каждый народ. Это его главная задача, об этом говорил еще пан Иисус. Только через любовь придет спасение. Я глубоко убежден: учение о том, будто каждый человек должен быть готов умереть за свой народ, ошибочно, особенно если учесть, что с отдельным человеком никто не считается. Это исключительно еврейские представления. Поляки постигли высшую истину – «либертум вето», когда ради одного невиновного нужно жертвовать целым народом.
– Возможно, «либертум вето», – отозвался Мордхе, – и погубило Польшу…
– Я тоже так думаю, – сказал Кагане Норвиду, собиравшемуся развивать свою мысль дальше. – Теория без практики бесполезна! Еще не было такого народа, который жил бы в соответствии с теорией христианства, и никогда не будет! Потому что христианство не совместимо с реальностью. Отдать последнюю рубашку первому встречному или эта история с пощечинами – все это красивые жесты, на которые способны лишь немногие, а как воплотить эту теорию в жизнь? Покажите мне народ, я имею в виду христианский народ, впитавший Евангелие с молоком матери и следующий его заветам в повседневной жизни. Вы не найдете такого! Взгляните на еврейский народ! Он не пошел по этому пути, а лишь возносит похвалы Всевышнему, поэтому, как мы видим, справедливость и равенство станут синонимами для еврейского большинства…
Кагане принялся ходить по комнате, отодвигая в сторону все, что попадалось ему на пути, и остановился у неоконченной картины распятия. Иисус, похожий на Норвида, глядел с полотна. Кагане вглядывался в него с минуту и сказал:
– Даже если бы еврейский народ даровал христианскому миру один лишь крест – что мы, евреи, отрицаем, – христианские народы должны были бы относиться к нам лучше, нежели сейчас…
– Об этом я однажды писал, – отозвался Норвид, и его глаза заблестели в полумраке комнаты. – Я показал, что разные народы приходят к искусству разными путями, привнося свое «я». Еврейский народ пришел к искусству через поэзию и молитву к Богу… Отсюда появляется ожидание, упование… Глаза широко раскрыты, обращены к небу… «Распять!»… И тут появляется крест. И когда Мессия пришел, вы, евреи, не смогли его принять. И не вы одни. Даже греки не смогли принять Сократа, испугались, как бы философ не поднял народ, не посеял смуту среди него…
– И именно мы, – перебил его Кагане, – которые не смогли принять Мессию, получили более тридцати шести мессий!
Норвид затянулся трубкой и ничего не ответил. В комнате стало тихо, наступило неловкое молчание. Со стен смотрели рисунки, черно-белые изображения. На полу были разбросаны пачки книг, напоминая разрушенную стену. На маленьком столике лежали открытое Евангелие и рукопись, на титульном листе которой было выведено «Quidam»[10]10
Поэма Норвида.
[Закрыть]. Рядом мелкими буквами кто-то добавил перевод на польский: «Неизвестно кто, какой-то человек».
Мордхе еще никогда не видел в глазах у человека столько печали, как теперь у Норвида. Он спрашивал себя, что могло так обидеть Норвида и зачем Кагане заговорил о неприятных вещах. И Мордхе вновь потянул ниточку, чтобы распутать клубок. Что означает, что евреи не смогли принять Мессию? Он имеет в виду, что большинство было важнее личности? Наверное, это верно для древних иудеев, но не для нас – народа Мессии…
Кагане подошел к Норвиду:
– Извините.
Норвид рассеянно улыбнулся, поднял свои большие глаза. В них были какая-то инфантильность и неуверенность. Он огляделся по сторонам и извиняющимся тоном сказал:
– Я думаю, чем бы вас угостить… Сейчас у меня в доме, как назло, пусто… – Он схватил шляпу.
– Нет, пане, – Кагане преградил ему путь и забрал шляпу из рук, – не беспокойтесь.
Норвид снова сел на диван, посмотрел на оплывающую свечу и заговорил. В его голосе, в манере говорить притчами было что-то новозаветное. Часто было неясно, что он хочет сказать. Фразы получались острыми, как спицы, и выплетали оригинальные, глубоко религиозные слова.
– Я полагаю, – приятно звучал его голос, – с могилы Шопена начинается нечто истинно польское, что принесет полякам освобождение, и они смогут заявить миру: «Это наш вклад»… Вы когда-нибудь вслушивались в музыку Шопена? Мелодии, у которых нет ни отца, ни матери, неуловимые и принадлежащие целому народу, через свои душевные переживания Шопен смог поднять их до общечеловеческого уровня, до уровня вечности… Но я не это хотел сказать! Сейчас… Я имею в виду мысли, далекие от нас, парящие где-то в чужих мирах, и лишь отзвук трепетания, движения их крыльев достигает нас. В этом магия музыки. Когда мысли приближаются к нам, но их трудно разглядеть невооруженным глазом, появляется художник и переносит эти мысли на холст с помощью радуги красок. А когда они принимаются хлопать своими легкими крыльями над церквями, над дворцами, начинают перешептываться, словно в поисках ночлега, появляется скульптор и дает им приют в спокойном обработанном камне. Там мысли спят в течение поколений, плетут свои сны и часто пребывают в забытьи, но снова возрождаются, когда рушатся церкви и дворцы, и из их руин поэт ткет свое сказание… Вот так происходит процесс творения…
Норвид рассказывал о Красиньском[11]11
Зигмунт Красиньский (1812–1859) – польский поэт и драматург.
[Закрыть], который сидел за несколько месяцев до смерти за тем же самым столом, где сейчас сидит Мордхе, и читал «Quidam». Он рассказывал о Шопене, Словацком, Мицкевиче. Это звучало как Легенда, хотя еще вчера эти люди поднимались по таким же ступеням, сидели в маленьких комнатках, как у Норвида, спасали от забвения сказания, создавали предания о польском народе и его истреблении.
В комнате стало темнее. Мордхе закрыл глаза и прислушался к речи Норвида. Его слова стали превращаться в отдельные звуки и краски. Мордхе увидел голову той красоты, которой афинские аристократы возносили молитвы. Он увидел изящное тело Юлиуша[12]12
Юлиуш Словацкий (1809–1849) – польский поэт и драматург.
[Закрыть]. На темном потрепанном диване вырисовывалось его белое исхудавшее лицо с черными горящими глазами и орлиным носом. Юлиуш был воплощением измученной, настрадавшейся Польши. Вокруг цветочных горшков на подоконниках прыгали и щебетали воробьи. Мордхе увидел, как пан Адам сидит в своей натопленной комнатке в старой одежде, держит в руке сучковатую палку и разгребает угли в печи. Вокруг сидят его ученики, и он заучивает с ними отрывки из Товяньского[13]13
Анджей Товяньский (1799–1878) – польский религиозный философ-мистик, оказавший сильное влияние на А. Мицкевича.
[Закрыть]. А за ними виднелся бледный Норвидский Бар-Кохба[14]14
Предводитель восстания иудеев против римлян в 131–135 гг. н. э.
[Закрыть] – маленький, худенький, он родился и вырос в Риме, а когда уехал поднимать восстание, оставил на родине своего двойника, чтобы враг не заметил его отсутствия.
Поздно вечером Кагане и Мордхе попрощались с Норвидом. Они молча шли по почти пустынным улицам. Мордхе было горько, что Словацкий умер в изгнании где-то на чердаке. Мицкевичу пришлось провести свои лучшие годы в библиотеке Парижского арсенала, с трудом сводя концы с концами. А Норвид? Норвид скитается по свету и голодает. Народ никогда не признает своего настоящего пророка при жизни… А мы, евреи? Разве мы не смеемся над Моше Гессом[15]15
Моше Гесс (1812–1875) – один из первых еврейских немецких социалистов и предвестник сионизма.
[Закрыть]? Разве не поносим последними словами Сальвадора[16]16
Жозеф Сальвадор (1796–1873) – еврейский французский историк и предвестник сионизма.
[Закрыть]?
Подул свежий ветерок. С той стороны, где башни Нотр-Дама возвышались над домами, донесся колокольный звон. Звуки колыхали воздух, отдавались один в другом.
Кагане считал удары часов. Когда бой часов прекратился, но в тихом ночном воздухе еще стоял гул, он сказал:
– Десять часов.
Они посмотрели в сторону Нотр-Дама, вспомнили о «Quidam» Норвида, о его большой любви к Бар-Кохбе, и холодное безмолвие церкви поглотило отзвук колокольного звона. Кагане и Мордхе переглянулись и пожали друг другу руки. Кагане спросил:
– Ты сейчас домой?
– Нет, пойду в винный погребок, поем что-нибудь.
– Я тоже, может, позже зайду. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Глава втораяВ винном погребке
Мордхе прошел несколько улиц, не глядя по сторонам, пока зазывалы не остановили его. Голодный, он вошел в винный погребок, уселся за первый свободный столик, заказал бифштекс и огляделся. Липкий пар, смешанный с табачным дымом, словно туман, скрывал лица людей, сквозь него пробивались только доносившиеся со всех столов звуки польского, немецкого и французского языков. Папиросы зажигались и гасли, и в погребке было не продохнуть.
Высокий близорукий мужчина с черными стрижеными усами подсел к Мордхе за столик, положил рядом пакет с книгами, вгляделся в его лицо и поприветствовал по-немецки:
– Как поживаете, господин Алтер?
– А вы, пане Рабинович?
– Работаем потихоньку.
– По-прежнему над переводом?
– Видите ли, медицина отнимает у меня полдня. Потом словарь. На перевод остается мало времени…
– Вы переводите «Писания»?
Рабинович кивнул, вынул из пакета с книгами толстую исписанную тетрадь и протянул ее Мордхе. На его озабоченном лице было что-то от приличного мальчика, который хочет отличиться и хвастается своей работой.
– Здесь я делаю пометки, я собираюсь написать книгу о Христе.
– И это у вас называется «работать потихоньку»? – улыбнулся Мордхе, разглядывая мелкий почерк.
Подошел официант с бифштексом и спросил Рабиновича:
– Как всегда, месье Рабинович?
Лицо Рабиновича осталось неподвижным, и только глубокая морщина на переносице на мгновение стала четче.
Мордхе налил два бокала красного вина и пододвинул один Рабиновичу:
– Выпейте!
– Спасибо, я не пью!
Глаза привыкли к табачному дыму в погребке, и Мордхе разглядел разгоряченные лица в фуражках, разглядел немцев в мягких рубашках с отложными воротниками. Дамы сидели нога на ногу и аккуратно курили, словно боясь обжечься. Юные брюнетки с высокими прическами прогуливались между столиками, пересаживались с одних коленей на другие, и их щебетание ласкало, завораживало и раззадоривало публику.
Официант принес Рабиновичу тарелку колбасных обрезков и нарезанный хлеб.
Мордхе смотрел на бывшего главу ешивы[17]17
Высшая талмудическая школа.
[Закрыть], который знает наизусть Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, окончил медицинский факультет, работает над словарем на пяти языках и переводом «Писаний» и собирается писать о Христе. Он удивлялся, что этот аскет, который каждый день довольствуется тарелкой колбасных обрезков и черствым хлебом, которому, кажется, ничего не нужно, этот человек ни о ком хорошего слова не скажет и ни с кем не общается.
– Вы все же считаете, пане Рабинович, – Мордхе разрезал бифштекс, – что нужно перевести Талмуд на французский?
– Если бы я так не считал, я бы этим не занимался! Вам, господин Алтер, не стоило задавать мне этот вопрос! Я бы ожидал его, скорее, услышать, от Шнеира Закса или от Гольдберга! – сердито ответил он, запивая колбасу водой и подбирая слова, чтобы выразить свою мысль. – Они, маскилы[18]18
Сторонники еврейского Просвещения.
[Закрыть], полагают, что Талмуд – это обуза для еврейского народа, а я убежден, что если евреи что-то и создали – я имею в виду, что-то еврейское, – так это Талмуд! Пусть себе смеются эти гольдберги и считают мою работу глупостью… Но я знаю, что им досадно! Когда мой Талмуд выйдет по-французски, он лишит заработка многих дельцов!
– Что вы имеете в виду?
– Я вам скажу. Когда вы читаете Ренана, то удивляетесь, как так получается, что нееврей, знаток Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, стал антисемитом? Местные евреи все еще нянчатся с ним! А я вам скажу, что он антисемит! И этот гой развел демагогию о том, что древнееврейскому языку нечем гордиться, что даже по сравнению с достижениями славянских языков древнееврейский – это просто усовершенствованное варварское наречие! Вы полагаете, что он знает древнееврейский? Помилуйте! Могу поклясться, – Рабинович ударил себя в грудь кулаком, – я собственными глазами видел, как он с помощью словаря разобрал две странички респонсов[19]19
Жанр раввинистической литературы, содержащий вопросы о еврейском законе и судебных решениях и ответы авторитетных ученых.
[Закрыть] и слово «завещание», повторявшееся несколько раз, – речь шла о больном человеке – он все время переводил как «испражнения». Вот на этом он строит свои теории! И с каким апломбом он рассуждает на еврейские темы, вставляет в свою речь стихи из Писания, которые ему подсовывает реб Береле Гольдберг[20]20
Бер Гольдберг(1800–1884, акроним – Баг) – польский еврейский ученый.
[Закрыть]. Умнейший человек этот господин Баг, мудрец, вы же его знаете. Вы не найдете в нем недостатков, как нет недостатков, к примеру, у пилы! Его отец, я имею в виду отец Гольдберга, служил у польского помещика, был крестьянином, а сын торгует старыми рукописями, поет ту же песню только по-французски. Вот таким дельцам и не нравится мой перевод!
Прилично одетый молодой человек подошел и поздоровался с Рабиновичем. Мордхе было знакомо это лицо, но он не мог вспомнить, где его видел. И когда молодой человек уже собрался уходить, Мордхе остановил его:
– Простите, вы не из Плоцка?
– Да.
– Шмуэль?
Незнакомец несколько растерялся. Было ясно, что ему не хочется называть свое имя. Вдруг на его лице появилось удивление:
– Да. Я все-таки узнал вас. Я не ошибся… Мордхе Алтер, да? – Он пожал Мордхе руку. – Вы давно в Париже?
– Второй год.
– Интересно, интересно! – Он протер сиденье кресла носовым платком, присел и снял шляпу. – Человек встречает человека… Вот так совпадение, здесь можно жить годами и не встречаться друг с другом. Вы курите?
– Нет.
Молодой человек достал сигарету, закурил, посмотрел, прищурившись, на колечки дыма над головой, потянулся и спросил:
– Что вы делаете в Париже? Учитесь?
– Нет.
– Просто живете. – Он презрительно улыбнулся и показал на сидевших вокруг посетителей. – Что они так кричат? Видите того в пелерине? Как он тут оказался? Гамлет!
– Вы его знаете? – спросил Мордхе.
– Зачем мне его знать? – Шмуэль затянулся сигаретой и прищурился. – С кем ни заговоришь, все – гамлеты! Каждый мечтает спасти мир, перекроить его карту, но они не знают, эти гамлеты, что из-за них и случаются все беды…
– Как так? – удивился Мордхе.
– Мне кажется, – продолжил Шмуэль, – что каждому здесь хочется изобразить из себя героя, все мечтают стать наполеонами, а на самом деле это мелкие авантюристы и интриганы… Взгляните! Разгоряченные лица, синие носы, рваные ботинки, в одной рубашке без пиджака, кажется, что вы сидите не среди художников и общественных деятелей, а в компании карманников и головорезов! Воздух здесь… – Шмуэль втянул носом воздух.
Мордхе с удивлением вслушивался в слова своего бывшего учителя, сидевшего напротив него, одетого с иголочки, и поймал себя на мысли о том, что Шмуэль остался таким же маскилом, только несколько отдалился от еврейства. Речь Шмуэля задела Мордхе, ему не понравилась его самодовольная ухмылка, и он спросил:
– А что вы здесь делаете?
– Я? Я работаю в императорской библиотеке.
– Библиотекарем?
– Нет, читаю древнееврейские и арабские рукописи. Вы слышали о Ренане? Прежде чем уехать в Палестину, он дал мне рекомендацию на этот пост. На этой работе есть куда расти, нужно только много учиться, а если терять время здесь, в погребке, можно стать разве что общественным деятелем… Впрочем, это не важно, – Шмуэль положил руку Мордхе на колено, – помните, как мы последний раз виделись в Коцке? Реб Иче все-таки стал Коцким ребе, да? Я тороплюсь, – Шмуэль встал и взял шляпу, – приходите ко мне в воскресенье, пообедаем вместе. А потом поедем в Булонский лес… Посмотрите на новый дворец, который построили Ротшильды… Придете? Обязательно приходите! – Он вынул из кармана пиджака визитную карточку, отдал ее Мордхе и пожал ему руку: – Адье!
Мордхе сидел смущенный, у него было чувство, будто его прилюдно раздели. Он порвал визитную карточку, даже не прочитав ее. Ему стало обидно, что он промолчал, надо было хотя бы опрокинуть тарелку с колбасными обрезками на светлый пиджак Шмуэля. Теперь ему стало ясно, что смысл речи Шмуэля заключался в том, чтобы показать Мордхе: Париж не Коцк, где потакают бесталанным и ленивым. В Коцке у тебя, Мордхе, были привилегии, а в Париже ты никто, человек без имени, без места в обществе. А у меня, Шмуэля, ученика ешивы, подвизавшегося у твоего деда, есть место. И если раньше со мной никто не считался, то теперь все будет по-другому…
Конечно, Шмуэль не говорил этого, а может быть, и не думал. Просто Мордхе сделал такой вывод. Он был убежден, что Шмуэль то и дело хвастается своим новым положением, и очень удивлялся, как тот смог когда-то лишить Мордхе веры, если сам никогда ни во что не верил.
Юные годы замелькали перед Мордхе, будто он сидел в растерянности над книгой с картинками и время от времени спрашивал себя, неужели все это произошло с ним? Отец действительно отказался от него, порвал его письма, оставив их без ответа? А мать? Каждую неделю она присылала открытку с одним и тем же коротким текстом: «Мой единственный сын, покайся и вернись домой!» Первое время эти открытки почти сводили с ума Мордхе. Он каждый раз с нетерпением ждал их, и, несмотря на то что клочок бумаги следовал за ним по пятам, как всевидящее око, следящее за каждым его шагом, Мордхе очень боялся, что открытки перестанут приходить. Неделя за неделей все та же открытка с тем же текстом: «Покайся и вернись домой!» И если бы приятели не вытянули из него деньги, он бы через три месяца поехал домой. Мордхе не знал, что делать, стеснялся говорить, как его обобрали, и решил, что он не лучше тысячи других, обретающихся на берегах Сены в окрестных пивных и на рынках. За два месяца он не встретил ни одного знакомого, ночевал на лестницах чужих домов, на скамейках. Он не останавливался ни перед чем, жил как придется, ничем не брезговал. Нельзя упускать самую ничтожную возможность. За каждым твоим шагом следят сотни внимательных глаз, они ждут, когда ты оступишься, поскользнешься, окажешься беззащитным. Тогда они выскочат из своих укрытий и будут радостно смотреть, как ты истекаешь кровью, и добьют тебя при малейшем сопротивлении. Сытые и довольные, они залезут обратно в свои норы и продолжат говорить о справедливости.
А когда ненависть к людям перегорела в Мордхе, он осознал свою неправоту и вновь оказался в польской колонии[21]21
Польский квартал на острове Сен-Луи.
[Закрыть]. Молчаливый, он жил замкнутой жизнью, сам для себя. Никто не знал, где он жил раньше, его поведение казалось подозрительным, и если бы не Кагане, никто не общался бы с ним.
Очнувшись, Мордхе понял, что сидит за столом вместе с Рабиновичем, и хотел извиниться. Рабинович уже доел колбасу и смотрел своими близорукими глазами в книгу, делая пометки в толстой тетради. Он был спокойным и трудолюбивым человеком и верил, что на таких, как он, зиждется мир.
Мордхе, не желая ему мешать, тихо встал из-за стола и хотел расплатиться с официантом.
В дверях стоял широкоплечий человек с длинной светлой бородой пшеничного цвета. Он пришел со своей свитой, как генерал со штабом.
С соседних столиков его приветствовали, приглашали присесть. Мужчина держал одну руку за лацканом застегнутого пиджака, в другой руке мял перчатку. Он посмотрел поверх голов, словно стоя на постаменте, хотел что-то сказать и одарил публику улыбкой.
Это был генерал Мерославский, самый популярный человек в колонии, на которого возлагала надежды молодежь, верившая, что он освободит Польшу.
Костуш, поэт колонии, – пожилой человек с большой головой и еще большим животом – выкатился вперед и, растолкав всех своими маленькими локтями, освободил генералу место. Он поклонился генералу со всей возможной элегантностью, поднял глаза к потолку, приложил руку к груди и начал:
Nad ludy í nad króle podniesiony
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony
………………
………………
Z matki obcej……
A imię jego czterdzieści cztery[22]22
Отрывок из драматической поэмы А. Мицкевича «Дзяды»:
Он встал и над царем, и над народом.На три короны встал, но сам он без короны.……………………………………………………Мать – из земли чужой……А имя – сорок и четыре. (Перевод В. Левина.)
[Закрыть].
На широком с римским профилем лице Мерославского появилась презрительная улыбка. Он взглянул на маленького Костуша, как лев на мышь, которая попала в его клетку. Любопытная публика напирала со всех сторон.