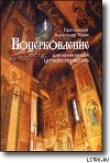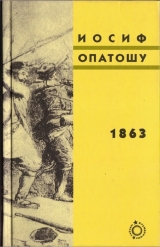
Текст книги "1863"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Вокруг Вавеля[57]57
Холм и замок на левом берегу Вислы в Кракове.
[Закрыть]
Нервы у Мордхе были обострены до предела, на него нахлынули чувства, которых он раньше не испытывал.
Какими практичными должны быть евреи, если, где бы они ни находились, даже на самом дне бездны, они вбивают сваи в воду и думают, что осели здесь навсегда?
Над Казимежем возвышались башни Вавельского замка. Вот так же в течение сотни лет польская культура господствует над жизненным укладом еврейского гетто, держа сгрудившиеся домики в тени и в страхе.
Польские короны, выкованные евреями, святые иконы итальянских эпигонов, польские короли, кто с первой женой, кто со второй, кто с обеими женами и с детьми покоились под сводами замка, словно в просторных королевских опочивальнях.
Не хватало только трепетного слова взамен разрушенным ешивам, и, пока пламенные речи Мицкевича или Норвида не превратятся в меч, евреи могут и дальше вбивать сваи в воду, но чудо обязательно произойдет – человеческое слово, божественное слово всегда будут противостоять мечу.
Вбитые сваи не уплывут, даже если опустить их в бездну, а огромный Вавельский замок не может тягаться с убогим Казимежем.
Варвары могут прийти со всех четырех сторон и предать Вавель огню, но Ванда и Кракус[58]58
Легендарный основатель Кракова и его дочь.
[Закрыть] будут и дальше спокойно спать под горой пепла и ждать какого-нибудь Норвида, способного воскрешать мертвых, никто не может отнять его у Польши.
День был в разгаре, когда Мордхе вышел из гетто. Ему было неловко за то, что оставил Вержбицкого одного на вокзале. Несколько человек чинно бродили по залам, останавливаясь перед каждой картиной, перед каждой скульптурой.
Австрийские полицейские стояли по углам залов и наблюдали за людьми. Австрийский орел вместо польского гордо висел над входом.
Враг вошел в Вавель, пронзил белого орла, а сыновья и дочери смотрели, как орел истекает кровью.
Враг водрузил в храме римского орла. Была пора жатвы. Народ побросал серпы, оставил урожай на полях, и десятки тысяч мужчин, женщин, детей отправились к прокурору просить не осквернять Божий дом. Народ осаждал дворец днем и ночью. Прокурор никак не мог избавиться от этих людей, поэтому он послал армию, вооруженную саблями, чтобы истребить их всех до единого, если они не разойдутся.
Больше двадцати тысяч голов потянулись к обнаженным саблям:
– Или вынеси римского орла из храма, или уничтожь нас! Мы не можем жить с окровавленным сердцем!
Вержбицкий шел навстречу Мордхе вместе с лохматым юношей:
– Как ты здесь оказался, Юшка?
– Я встретил на вокзале Боймфелда, вы не знакомы? Это мой школьный приятель, знакомьтесь. Что скажешь, Алтер, про Вавель? Тот, кто это увидел, никогда не скажет, что Польша родилась под забором и у нее нет никакой культуры.
– Верно, Юшка, верно!
– Все носятся с парижским Пантеоном, – отозвался Боймфелд. – Но что он по сравнению с Вавелем? Как новоиспеченный шляхтич рядом с потомственным графом.
– Алтер, а ты был в Смоче яме[59]59
Драконье логово (польск.) – карстовая пещера в Кракове.
[Закрыть]? – спросил Вержбицкий.
Боймфелд перебил Алтера, он говорил, глядя прямо перед собой, будто выступал перед публикой:
– Это редкое зрелище, Смоча яма, я имею в виду. Она напоминает человеку о днях творения. От грубых каменных арок дух захватывает, они напоминают о бездне, извергающей пламя. Черное пламя окаменело по велению Господа: «Стань камнем!» – и пропасть повисла над пропастью. В глубине виднеются искаженные лица, застывшие руки и ноги, которые многоголовое чудовище утащило к себе в пещеру.
– А теперь, – улыбнулся Вержбицкий, – туда приходят флиртовать влюбленные пары.
Звон сотряс воздух. Проехал ксендз. Прохожие упали на колени в снег.
Боймфелд склонил уставшую голову, словно хотел встать на колени, и перекрестился.
– Я думал, вы еврей, – сказал Мордхе удивленно и тут же пожалел об этом.
– Я еврей по рождению, – ответил он гордо, как будто ждал этого вопроса, – но я не могу представить себе Польшу без католицизма. Еврей поляк – это абсурд. Обе культуры, еврейская и польская, истощились и перестали приносить плоды. Нужно их объединить, как это делают франкисты. Необходима новая кровь, чтобы родился новый польский гений, который превзойдет мицкевичей и словацких, рожденных франкистским движением.
– Разве они еврейского происхождения? – Мордхе от удивления вытаращил глаза.
– И Мицкевич, и Словацкий – евреи по материнской линии.
Возле Вавеля в поле показалась полиция. Боймфелд горько улыбнулся, давая понять, что не хочет попасть в руки австрийской полиции, сгорбился, засеменил, как ученик ешивы, и исчез.
– Кто он?
– Крестившийся еврей.
– Это я вижу.
– Ученик Товяньского. Я встретился с ним в Париже, где он читал лекции о каббале.
– А что он здесь делает?
– Агитирует против восстания.
Мордхе взглянул на Казимеж. Сгрудившиеся домики-развалюхи давили на него своими стенами, его тело чувствовало гнет жесткой каменной земли. Кто прав?
Всадники выстроились вокруг Вавеля в две шеренги и следили, чтобы дорога к открытым воротам оставалась пустой. Полицейские с шашками наголо вели двадцать юношей в польских мундирах. Юноши шестнадцати-семнадцати лет кто без шапки, кто без пальто шли парами.
– Это же наши?
– Наши!
– Где их поймали?
– Кто знает?
– Под Меховым.
– Их ведут в тюрьму в Вавель?
– Их ведут пороть!
– Что?
– Что слышали!
Отцы, мрачные поляки, перепуганные евреи в штраймлах шли, понурившись, словно на похоронах. Правительство воспитывало отцов, приказав им смотреть, как порют их плохих сыновей и делают из них хороших граждан.
Полиция стала зазывать собравшуюся публику. Толпа попятилась назад, и за несколько минут квартал опустел, словно вымер. Из боковых ворот время от времени выглядывали люди, осторожно осматривались, озирались в нерешительности и тихонько пробирались в замок.
Сердце кровью обливалось. Мордхе не слушал, как Вержбицкий бранится, сыплет проклятия на каждом шагу, перед его глазами, полными слез, еврейские юноши проходили через легендарные ворота. Когда это было? И зачем еврейских детей ведут на порку? По колено в крови бежит человек встречать конец света, о каком спасении может быть речь, если сам Бог не может даровать евреям Землю Израиля без войны? И если без крови пришествие Мессии невозможно, кому нужно такое спасение?
– Куда мы идем, Алтер?
– Обернись.
– Что это, синагога?
– Старая синагога.
Железные ворота были открыты. В углу стоял еврей и молился. Слова, раздававшиеся в холодной тишине синагоги, были отчетливо слышны. Служка сидел у открытой коробки и пересчитывал свечи.
Женщина с развевающимися, как крылья, кончиками цветного платка, размахивая руками, вбежала в синагогу и устремилась к орн-койдешу[60]60
Священный ковчег со свитком Торы, расположенный у восточной стены синагоги.
[Закрыть].
Пустая синагога со стрельчатыми окнами наполнилась плачем. Мать молила Бога у открытого орн-койдеша, чтобы он послал ее ребенку выздоровление.
Служка с гусиным пером стоял у выхода. Еврейка положила монету, и служка написал ей записочку.
Напротив синагоги между голыми деревьями виднелось маленькое кладбище. Из трещин на надгробии Рамо[61]61
Рамо – акроним краковского раввина, одного из крупнейших поздних законоучителей Моше Иссерлеса (1520–1572).
[Закрыть] торчали записочки.
Мордхе рассказал Вержбицкому, как люди приходят к могиле Рамо со своими горестями. Вержбицкий посмотрел на старое кладбище, на ряд могил, в которых лежала семья Рамо, и вздохнул:
– Давай оставим записку.
Мордхе дал ему блокнот. Вержбицкий нарисовал могендовид и принялся писать по-польски:
– Святой Рамо, я, больной поэт из больного арийского народа, кланяюсь тебе, я благоговею перед твоим языком, на котором ты жил и творил. Это язык, которому не нужны посредники, на нем можно напрямую обращаться к Богу. У греков и римлян были посредники. По-древнееврейски Бог говорил с праотцами, с пророками. Помоги мне! Я хочу помочь своим братьям преодолеть изгнание. Помоги бедному певцу, святой Рамо, святой ребе.
Он поклонился перед могилой, положил записку и молча ушел вместе с Мордхе.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ВОССТАНИЕ
Глава перваяГраф Комаровский
Первого марта после полудня помещичьи сани с двумя пассажирами пересекли границу в Бадане. Поля, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, сменились лесом. К вечеру сани остановились.
Вокруг избы, обшитой тесом, царила суета. Разгоряченные лошади не могли стоять на месте, они расшвыривали копытами снег и крутили мордами в упряжи. Шея потянулась к шее, и жеребец укусил кобылу. Заливистый смех раскатился между деревьями, пронесся где-то по пустым полям, где живет нечистый, и отозвался страхом и беспомощностью.
Люди приезжали, уезжали, стараясь не шуметь, протоптанная дорожка к избе блестела темным серебром. В избе у маленького стола над картой склонился граф Комаровский. Из-за холода он не мог долго сидеть на месте. Время от времени он поднимался из-за стола, шагал взад-вперед, и его тело немного согревалось, а темные мысли становились светлее.
Комаровский провел здесь уже три недели, занимаясь поставкой рекрутов для новой армии Лангевича.
Он устал. Много дней подряд он работал по восемнадцать-двадцать часов в сутки, стараясь ничего не упустить, сердился, что ничего не готово, и если бы не верил в чудо, то давно уехал бы из леса.
Сам будучи солдатом, Комаровский понимал, что плохо спланированное выступление двадцать второго января провалилось.
Сотни пунктов, в которых поляки, согласно плану, атаковали русских, в одно мгновение на его глазах были потеряны. Везде одно и то же: заброшенные города, деревни. Ни душевного подъема, ни четкого плана. Каждый командовал своими солдатами по своему разумению. Оставалась надежда только на Плоцк. Все-таки там был Падлевский со своими идеями о великой Польше. Поэтому о других населенных пунктах просто-напросто позабыли.
Первую ночь восстания Комаровский уподоблял в своих мыслях огромному орлу, который сражался что было сил. Потом он утомился и в изнеможении упал на землю.
Комаровский немного согрелся. Он уже не чувствовал себя солдатом, не сидел в холодной избе и забыл, что на дворе первое марта и не сегодня-завтра он окажется у Лангевича. Перед его мысленным взором вставали польские земли. Он больше не смеялся над сотней фантазеров, мечтавших о том, что темной ночью двадцать второго января русские офицеры, сочувствующие Польше, раздадут солдатам холостые патроны. Он забыл, что городские и сельские жители разобщены, и, как тысячи его единомышленников, был исполнен смешных и наивных мечтаний вроде таких, что жердь начнет стрелять, коса пойдет в атаку, а охотничье ружье будет метать ядра.
Выстраданные идеи миллионов поляков настолько овладели его сознанием и придали ему сил, что измученный голодом и недосыпанием Комаровский чувствовал себя молодым. Голубые глаза, светлая борода, красивые белые зубы – его вид наполнял холодную избу радостью.
В дверь постучали.
Очнувшись, он остановился посреди комнаты, положил руку на пистолет, вспомнил, что должен отправить последнюю партию в Гощу, и крикнул:
– Войдите!
Комаровский расцеловался с Мордхе и с Вержбицким и сердечно приветствовал их:
– Проходите, пожалуйста!
Он поставил на стол бутылку водки, достал тарелку с колбасой:
– Грейтесь, панове! Были трудности на границе?
– Все в порядке.
– Кагане предупредил меня, что вы должны приехать.
– А где он?
– Он в Гоще. Завтра, с Божьей помощью, мы тоже там будем.
Мордхе выпил, закусил колбасой, и, когда немного согрелся, ему вдруг стало не по себе.
Его охватила грусть, он замолчал, и чем больше он старался понять, что с ним происходит, тем больше путались его мысли.
У окна остановился всадник. Вскоре в двери появился пожилой мужчина в фуражке с закрученными вверх усами. Лицо было искажено от мороза, глаза слезились.
– Где хлопцы, Стах? – спросил Комаровский.
– Несчастье, пане полковник, несчастье!
– Что случилось?
– Священники не хотят отпускать грехи.
– Что? – Голубые глаза графа вспыхнули.
Мордхе никогда раньше не видел, чтобы Комаровский так смотрел. Путаница в его голове превратилась в петлю, которая с легкостью развязалась. На мгновение его жизнь вспыхнула, затем погрузилась во мрак, и в темноте высветился образ Фелиции. Где она теперь?
Перед глазами проносились льдинки, далекие незнакомые звуки окружили его и шептали, что это игра с дьяволом, что враг наступает со всех сторон и что оружие надо держать наготове.
Мордхе старался заглушить эти звуки, утопить их в собственной крови, в крови тысячи других поляков, пожертвовавших собой ради Польши.
Он страдал, что не верил в собственные силы, злился на отсутствие стойкости, стыдился навязчивой мысли, твердившей: некому будет даже сообщить родителям, где он лежит.
Мордхе схватил бутылку, стал пить прямо из горлышка и услышал слова крестьянина:
– …Пане полковник, это моя вина… хлопцы попросили отвезти их в церковь. Сказали: «Мы идем воевать, никто не знает, доживет ли до завтра, хотим исповедаться, хотим, чтобы священники отпустили нам грехи».
– Хорошо, отвези их в церковь!
– Я отвез, пане полковник.
– Так чего тебе надо?
– Священники не хотят отпускать грехи.
– Почему?
– Я не знаю. Они твердят, что настоящим католикам нельзя идти воевать.
– Так где же они? – Голубые глаза снова полыхнули, как спички.
– Не хотят уезжать из церкви, говорят, что без отпущения грехов никуда не пойдут.
– Позвольте мне, граф. – Вержбицкий задрожал от негодования.
Не дождавшись ответа, он схватил Мордхе за руку, и все трое вышли из избы.
Они сели на лошадей, Стах показывал дорогу. Вержбицкий то и дело проверял пистолет:
– Я их расстреляю! Всех расстреляю! Сравняю церковь с землей!
Стах ехал впереди, привставал в седле, он срезал дорогу, присвистывал, крутил замерзшие усы. Его смущало, что он, улан 1831 года, едет вместе с двумя сопляками, которые наверняка принимают его за городского сапожника.
Он поравнялся с Мордхе и Вержбицким и резко сказал:
– Мы устраиваем засады, нападаем на врага, словно убийцы… А как выглядят наши солдаты? Как попало… Вытаскивают крестьянина из кровати, дают в руки косу – иди воюй!
– А в тридцать первом году было по-другому? – улыбнулся Мордхе.
– Э, пане, пане, в то время мы ни в чем не уступали врагу, мы шли в бой с песней… Наши мундиры, кони – все сверкало! А теперь мы болтаемся по полям, по лесам, как цыгане, и уж если заноем, так у солдат сразу руки опускаются. Тогда было лучше, панове, веселее…
В стороне, среди дубов показалась церковь. За ней тянулись беленые дома, заснеженные кресты маленькой церкви вырисовывались на сером небе.
Народ у входа посторонился и пропустил всадников.
Вержбицкий передал поводья Стаху и скрылся вместе с Мордхе за железными воротами церковного двора.
В темной церкви царила суета. Молодые крестьяне стояли на коленях, упрашивая упрямых священников и церковную братию, целовали их длинные рясы. Другие, видя, что ничего не помогает, угрожали:
– Мы отсюда не уйдем!
– Мы идем сражаться за Польшу!
– За нашу страну!
– Мы хотим исповедаться!
– Пусть ксендзы сжалятся!
– Я оставил жену и детей!
– Вы должны отпустить нам грехи!
– Вы должны!
Мордхе смотрел на измученных священников, на дородную лицемерную церковную братию, которые стояли среди толпы с вытаращенными глазами, наставляли паству и призывали крестьян разойтись.
Вержбицкий подошел к священникам, словно тень:
– Что ж вы делаете, святые отцы? Польский народ вас никогда не простит, никогда! Это преступление!
– «Не убий» – одна из десяти заповедей, – перекрестился высокий изможденный священник с большими голодными глазами.
Со всех сторон остальные подхватили его слова:
– Не убий!
– Не убий!
– Не убий!
Эти два слова, выплывшие из темного угла, закачались над головами, словно тяжелый колокол, и церковная братия повторяла их, как тайное заклинание, способное защитить от несчастья.
Один священник, маленький, толстенький, с полным свежим лицом, засунул большие пальцы за слабо затянутый пояс, внимательно поглядел на остальных братьев, будто антиквар, осматривающий старую картину, и его гладкая речь полилась внушительно и уверенно:
– Какое отношение имеем мы, духовные лица, к государству? Если сейчас есть надежда, что католицизм станет мировой религией и получит власть над миром, то они со своей свободной Польшей разрушают эту надежду. Товяньский прав, выступая против горячих голов! Какое место займет Польша среди таких монстров, как Россия, Германия и Австрия? Прежде чем Польша встанет на ноги, ее снова разорвут на части! Да, выступить во имя католицизма, это мне понятно! Чтобы сто миллионов русских стали католиками! Но им захотелось свободной Польши, чтобы ею правил какой-нибудь невежда! Мы, духовные лица, должны и будем этому противостоять!
Шум нарастал. В церкви стоял запах ладана, больше похожий на запах тлена.
Глаза Вержбицкого засверкали, на губах выступила пена, лицо исказилось, словно от боли, он не говорил, а кричал:
– Но когда поляк идет в русскую армию, идет убивать своих братьев, поляков, его не наказывают? Ему вы отпускаете грехи, да? Какие вы поляки, какие из вас пастыри? Вам должно быть стыдно, отцы! Вы дрожите за собственную шкуру! Не хотите понять, что если не будет польского народа, то не будет и польских ксендзов! Что вы молчите? Отпустите бедному крестьянину грехи, дайте исповедаться!
– Никто не имеет права нам приказывать! – Босой священник, кожа да кости, поднял крест, висящий у него на груди.
– Никто не имеет права вмешиваться! – отозвался другой.
– Не забывайте, что вы находитесь в церкви! – сказал третий, закрыл книгу и стукнул кулаком по деревянной кафедре.
При этих словах граф Комаровский подошел к толпе. Его продолговатое лицо побледнело, растрепанные волосы прилипли ко лбу. Он протянул руки к священнику, замер на мгновение с отчаянием в глазах и, как Савонарола, стал метать гром и молнии:
– Я предам церковь огню, слышите? Огню! Сравняю с землей! Что вы молчите? Вы поляки? Отцы! Я сожгу вас заживо!
Его откровенная речь посеяла в полутемной церкви такой страх, что перепуганные священники стали переглядываться, попятились к боковым дверям и принялись оправдываться:
– Это не наша вина!
– А чья же?
– Настоятель не велел.
– Где он?
– У себя!
Совсем юный священник с большими наивными глазами повел Комаровского в каменное здание за церковью.
– Чем вы здесь живете? – спросил Вержбицкий у священника.
– Подаянием.
– Лучше бы сняли рясы да помогли выгнать русских…
Священник стыдливо поднял наивные глаза на Вержбицкого и смущенно опустил их.
– Где это слыхано? – кипел Комаровский. – Польские священники…
– В этом виноват краковский епископ, – тихо сказал священник и с опаской оглянулся.
– Какое отношение имеет краковский епископ к этой церкви?
– Раньше он был ее настоятелем, – разговорился священник, – дружил с Пашкевичем.
Мордхе было трудно представить, что церковная братия, живущая на подаяние, может быть так богата.
Между бархатных диванов сновали священники со строгими лицами и поглядывали на незнакомцев, потревоживших их покой. Беленые печи пыхали жаром, придавая благородный вид полным щекам и пухлым рукам. Священники в легких подпоясанных рясах сидели над старыми латинскими книгами в кожаных и деревянных переплетах, играли кончиками поясов и размышляли. Другие, с гусиными перьями в руках, делали пометки и переписывали книги. В их длинных рясах, в полных женственных лицах, в их лености было что-то восточное, чуждое славянам.
Широкие комнаты с гобеленами на стенах, со старыми иконами больше напоминали музей, чем церковь. Из дальней комнаты доносились звуки органа, стекла слегка подрагивали, и звуки расплывались в фалдах ряс, лежавших на бархатных диванах.
Священники с опущенными головами тихо бродили по комнате, обходя незнакомцев, как нечестивцев, переговаривались и исчезали в боковых дверях.
– Настоятель не может вас принять, – растерянно сообщил молодой священник с наивными глазами. – Но он приказал допустить крестьян до исповеди.
Они отправились к выходу.
Вержбицкий остановил Комаровского и показал ему на стену, где висела картина в тяжелой раме. Комаровский задумался на мгновение, вскочил на диван, над которым висела картина, и, не обращая внимания на протесты братии, вырезал ее из рамы карманным ножом.
– Что вы делаете, люди?
– Караул!
– Церковь закроют!
– А нас выгонят на все четыре стороны!
– Отдайте аббату! – крикнул Комаровский братии.
– Что он прячется?
– Люди врываются в чужой дом и хозяйничают в нем. – Священник задрожал от злости. – От таких людей нужно прятаться!
– Если это чужой дом, – ответил Вержбицкий, – то аббат больше не «отец» и, конечно, не «наш»!
Комаровский, который стоял на диване с портретом Пашкевича в руках, внезапно спрыгнул, подошел к священникам, так что они даже отпрянули, и начал:
– Вы знаете, когда враг обстреливал дворец, Пий Девятый не вышел с крестом к революционерам, не попросил их прекратить во имя Господа! Если бы он вышел, революционеры точно опустились бы перед ним на колени, и даже если бы Пий был сражен их пулями, он бы тут же воскрес, явив свою святость… Но он не вышел, спрятался в темной комнате и остался жив, и что? Для нас, католиков, он умер!
Комаровский посмотрел на испуганную братию, которая не переставая крестилась, сообразил, что ему не стоило этого говорить – историю с Пием написал ему приятель из Рима, – увидел улыбку во взгляде Мордхе и, обессиленный, вышел вместе с остальными во двор.
Возвращаясь домой, всадники молчали, с тяжелым сердцем, как семья, в которой появился вор. Им не верилось, что в церкви, в святая святых польского народа, завелся враг.