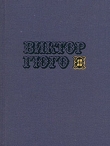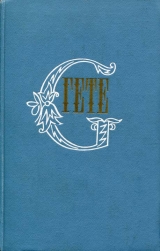
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Об искусстве и литературе"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
О ПРАВДЕ И ПРАВДОПОДОБИИ В ИСКУССТВЕ

На сцене одного немецкого театра изображалась овальная, имеющая форму амфитеатра зала, в ложах которой были нарисованы зрители, как бы принимавшие участие в том, что происходило внизу. Иные из подлинных зрителей в партере и в ложах были этим весьма недовольны и даже обиделись на то, что им намеревались навязать нечто столь неправдивое и неправдоподобное. По этому поводу возник разговор, приблизительное содержание которого и излагается здесь.
Защитник художника.Давайте-ка посмотрим, не удастся ли нам как-нибудь сговориться друг с другом.
Зритель.Не понимаю, каким образом вы собираетесь оправдать подобное изображение.
Защитник.Но ведь, не правда ли, когда вы идете в театр, вы не ожидаете, чтобы все разыгрывающееся на сцене было правдивым и настоящим?
Зритель.Нет! Но я стремлюсь, чтобы мне, по крайней мере, все казалось правдивым и настоящим.
Защитник.Простите, если я позволю себе, вопреки вашему признанию, утверждать, что вы ни в коем случае к этому не стремитесь.
Зритель.Вот странно! Если бы я не стремился к этому, то для чего были бы все усилия декоратора точнейшим образом следовать законам перспективы и тщательно воссоздавать все предметы? К чему было бы изучать костюмы разных эпох? К чему затрачивать огромные средства на то, чтобы сделать их достаточно выдержанными, разве не для того, чтобы перенести меня в те отдаленные времена? Почему больше всего прославляют того актера, который правдивее других передает чувства, который речью, движениями, жестом ближе подходит к действительности и создает иллюзию, будто я вижу не подражание, а нечто действительно происходящее?
Защитник.Вы отлично передаете свое восприятие, но достаточно ясно понять, что именно нами воспринимается, видимо, труднее, чем вы думаете. Смею вас заверить, что все театральные представления отнюдь не кажутся вам правдивыми и разве что имеют видимость правдивого.
Зритель.Все эти тонкости в конце концов не более, как игра слов.
Защитник.А я возьму на себя смелость возразить вам, что, когда мы говорим о проявлениях нашего духа, никакие слова не могут оказаться достаточно нежными и тонкими и что даже сами каламбуры этого рода указывают лишь на известную потребность духа, который пытается, раз уж нам не удалось достаточно точно выразить то, что происходит в нас, оперировать контрастами и с разных сторон подходить к вопросу, чтобы таким образом добраться до сути дела.
Зритель.Хорошо! Только объясняйтесь, пожалуйста, яснее и, если можно, наглядными примерами.
Защитник.Мне нетрудно будет обернуть их в свою пользу. Например, разве, бывая в опере, вы не ощущаете живого, полного удовольствия?
Зритель.Когда там все достаточно гармонично – одно из полнейших, какие мне известны.
Защитник.А когда эти милые люди на подмостках, встречаясь, приветствуют друг друга пением, поют письма, которые получают, пением выражают свою любовь, свою ненависть, все свои страсти, с пением дерутся и с пением же умирают, можете ли вы сказать, что весь спектакль, или хотя бы часть его, кажется вам правдивым? Или, позволю себе сказать, обладает хотя бы видимостью правдивого?
Зритель.А ведь действительно, когда подумаешь, то вряд ли можно это утверждать. Из всего перечисленного ничто не кажется мне правдивым.
Защитник.И все же вы при этом испытываете наслаждение и вполне довольны.
Зритель.Без сомнения. Я еще прекрасно помню, как когда-то оперу пытались осмеять за ее грубое неправдоподобие и как я, несмотря на это, посещая ее, всегда испытывал величайшее наслаждение и продолжаю испытывать его тем больше, чем богаче и совершеннее она становится.
Защитник.А не чувствуете ли вы себя и в опере введенным в заблуждение?
Зритель.В заблуждение? Это, по-моему, не то слово, – и да и нет!
Защитник.Но вы здесь впадаете в полнейшее противоречие, которое, пожалуй, похуже каламбура.
Зритель.Не горячитесь; мы с вами уж добьемся ясности.
Защитник.А добившись ее, придем к соглашению. Не разрешите ли задать вам несколько вопросов, чтобы сдвинуться с точки, на которой мы застряли?
Зритель.Это даже ваш долг, довопрошали меня до этой путаницы, так и выспрашивайте меня из нее обратно.
Защитник.Итак, то впечатление, которое создает опера, вы неохотно называете заблуждением?
Зритель.Неохотно, и все же это род его, нечто весьма к нему приближающееся.
Защитник.Не правда ли, вы почти забываете самого себя?
Зритель.Не почти, а совершенно, когда вся опера или хотя бы часть ее действительно прекрасны.
Защитник.Вы бываете восхищены?
Зритель.Со мной это случалось неоднократно.
Защитник.А не припомните ли вы, при каких именно обстоятельствах?
Зритель.Этих случаев было так много, что я затрудняюсь их перечислить.
Защитник.Но однажды вы уже ответили на такой вопрос: в первую очередь, конечно, когда все находится в известной гармонии.
Зритель.Без сомнения.
Защитник.И что же, это совершенное исполнение гармонирует само с собой или с каким-нибудь другим продуктом природы?
Зритель.Безусловно, само с собой.
Защитник.А гармония ведь дело искусства.
Зритель.Разумеется.
Защитник.Мы сейчас установили, что в опере не существует известного рода правды, что она изображает то, подражанием чему является, отнюдь не правдоподобно; но можем ли мы отрицать в ней внутреннюю правдивость, проистекающую от завершенности произведения искусства?
Зритель.Если опера хороша, то она, конечно, является как бы маленьким мирком для себя, в котором все совершается по известным законам и который требует, чтобы о нем судили по его собственным законам, ощущали бы его соответственно с его собственными качествами.
Защитник.А разве из этого не следует, что правдивое в искусстве и правдивое в природе не одно и то же и что художник ни в коем случае не должен, не вправе даже стремиться к тому, чтобы его произведение казалось новым произведением природы?
Зритель.Но оно так часто кажется нам произведением природы.
Защитник.Не смею отрицать. Но могу ли я об этом высказаться откровенно?
Зритель.Почему бы и нет? Ведь сейчас мы меньше всего занимаемся славословиями.
Защитник.Тогда я позволю себе сказать: только совсем невежественному зрителю произведение искусства может показаться произведением природы, но ведь и такой зритель дорог и люб художнику. К сожалению, правда, только до тех пор, пока художник к нему снисходит, ибо тот никогда не сумеет подняться ввысь вместе с подлинным художником, когда он воспарит по воле гения и завершит свое произведение во всем его объеме.
Зритель.Хоть и странно звучит, но занятно послушать.
Защитник.Вы бы неохотно все это слушали, если бы сами не достигли уже более высокой ступени.
Зритель.Дайте же теперь мне занять место вопрошающего и попробовать упорядочить все то, что мы обсудили.
Защитник.Милости прошу.
Зритель.Вы говорите, что только невежде произведение искусства может показаться произведением природы?
Защитник.Разумеется, вспомните о птицах, которые слетались к вишням великого мастера.
Зритель.А разве это не доказывает, что они были превосходно написаны?
Защитник.Отнюдь нет, скорее это доказывает, что любители были настоящими воробьями.
Зритель.И все же я не могу не назвать такое произведение превосходным.
Защитник.Рассказать вам один анекдот поновее?
Зритель.Я слушаю анекдоты охотнее, чем резонерствование.
Защитник.Один великий естествоиспытатель держал среди других домашних зверей обезьяну, которая однажды исчезла. Лишь после долгих поисков ему удалось обнаружить ее в библиотеке. Обезьяна сидела на полу, разбросав вокруг себя гравюры из одного непереплетенного естественноисторического труда. Пораженный этим рвением к науке, хозяин приблизился и, к вящему своему удивлению и досаде, увидел, что лакомка выкусила всех жуков, которые были изображены на картинках.
Зритель.Анекдотец довольно забавный.
Защитник.И подходящий к случаю, я надеюсь? Не поставите же вы эти раскрашенные картинки вровень с произведениями великого мастера?
Зритель.С трудом!
Защитник.А обезьяну не задумаетесь причислить к невежественным зрителям?
Зритель.Да и жадным к тому же. Вы навели меня на странную мысль! Не потому ли невежественный любитель требует от произведения натуральности, чтобы насладиться им на свой, часто грубый и пошлый лад?
Защитник.Я полностью придерживаюсь этого мнения.
Зритель.И потому утверждаете, что художник, работая на такие потребности, унижает себя?
Защитник.Это мое твердое убеждение!
Зритель.Но я еще продолжаю ощущать здесь какое-то противоречие. Вы только что оказали мне честь, причислив меня, по крайней мере, к полуобразованным любителям.
Защитник.К любителям, которые стоят на пути к тому, чтобы сделаться знатоками.
Зритель.Но тогда скажите, почему же и мне совершенное произведение искусства кажется произведением природы?
Защитник.Потому что оно гармонирует с лучшими сторонами ваших природных данных, потому что оно сверхъестественно, но не вне естества. Совершенное произведение искусства – это произведение человеческого духа и в этом смысле произведение природы. Но так как в нем сведены воедино объекты, обычно рассеянные по миру, и даже все наиболее пошлое изображается в его подлинной значимости и достоинстве, то оно стоит над природой. Оно поддается восприятию только духа, зачатого и развившегося в гармонии, а тот, в свою очередь, находит в произведении нечто прекрасное, законченное в себе и вполне соответствующее его природе. Заурядный любитель не имеет об этом понятия и относится к произведению искусства как к вещи, продающейся на рынке, но подлинный любитель видит не только правду изображаемого, но также и превосходство художественного отбора, духовную ценность воссоединенного, надземность малого мирка искусства; он чувствует потребность возвыситься до художника, чтобы полностью насладиться произведением, чувствует, что должен покончить с рассеянной жизнью, зажить одной жизнью с произведением искусства, снова и снова созерцать его и тем самым вступить в более возвышенное существование.
Зритель.Отлично, мой друг, и мне знакомы ощущения, вызываемые картинами, театром, иными видами поэзии, и я чувствовал приблизительно то, что, по-вашему, должен чувствовать восприимчивый зритель. В будущем я стану еще внимательнее относиться и к себе, и к произведениям искусства; но, очнувшись, я вижу, как далеко мы ушли от того, что послужило толчком к нашей беседе. Вы хотели заставить меня принять этих намалеванных зрителей в нашей опере; но я и теперь не вижу, хотя и согласился с вами в остальном, каким образом вам удастся защитить еще и эту вольность и под какой рубрикой вы заставите меня признать уместными этих намалеванных участников спектакля.
Защитник.По счастью, опера будет повторена сегодня, и вы, вероятно, не захотите пропустить ее.
Зритель.Ни в коем случае.
Защитник.А намалеванные люди?
Зритель.Не отпугнут меня. Я не воробей.
Защитник.Мне остается пожелать, чтобы взаимный интерес в ближайшее же время снова свел нас.
1798
КОЛЛЕКЦИОНЕР И ЕГО БЛИЗКИЕ

Если Ваш отъезд после двух радостных и лишь чересчур быстро прошедших дней заставил меня почувствовать, как пусто все стало вокруг, то Ваше письмо, столь скоро мною полученное, и приложенные к нему рукописи привели меня в такое же отличное настроение, в каком я находился во время Вашего пребывания здесь. Мне снова вспомнились наши беседы, в присланных Вами статьях я встретил убеждения, схожие с моими, и теперь, как и тогда, порадовался, что в качестве ценителей искусства мы с Вами сошлись во многих пунктах.
Это открытие для меня вдвойне ценно, ибо отныне я могу ежедневно проверять Ваши мнения, так же как и мои собственные; могу по собственному выбору заняться одним каким-нибудь разделом моей коллекции, просмотреть его и поставить в связь с нашими теоретическими и практическими афоризмами. Иногда это выходит у меня хорошо и непринужденно, иногда же я попадаю в тупик и не могу прийти к согласию ни с Вами, ни с самим собой. Но все же мне ясно, что мы много выиграли, сойдясь в основном, ибо теперь наши суждения об искусстве хоть и продолжают колебаться, подобно чашам весов, но зато сами весы прикреплены к прочному блоку и (если позволить себе продолжать это сравнение) уже не колеблются вместе с чашами.
Эти наброски изрядно подкрепили мои надежды и мое молчаливое сочувствие той работе, которую Вы думаете издать, и поэтому я охотно пойду навстречу Вашим замыслам – в меру моих сил и способностей. Теория никогда не была моим коньком, но то, что Вам тем не менее может понадобиться из моего опыта, я с радостью предоставлю в Ваше распоряжение. И для того, чтобы Вам доказать это на деле, немедленно приступлю к исполнению Вашего желания. Постепенно я разверну перед Вами всю историю моей коллекции, чудесный подбор которой изумлял уже многих, даже тех, кто приходил ко мне достаточно о ней наслышанным. Впрочем, ведь и с Вами произошло то же самое. Вы удивлялись редкому богатству моей коллекции в самых различных областях, но смею Вас заверить, что Ваше удивление возросло бы еще немало, если бы время и охота позволили Вам ознакомиться со всем, чем я владею.
Меньше всего мне придется говорить о моем деде, он заложил основу всей коллекции, и Ваше внимание к его приобретениям свидетельствует, что основа эта заложена удачно. Вы с такой благосклонностью и любовью занялись этим фундаментом нашего фамильного собрания, что я даже не обиделся на Ваше несправедливое отношение к некоторым другим его разделам и весьма охотно проводил с Вами время у тех произведений, которые и для меня – в силу своего значения, своей древности или истории приобретения – являются священными. Разумеется, характер и склонности любителя во многом определяют направление, которое примут его любовь к созданиям художника и его дух коллекционерства – две склонности, столь часто соединяющиеся в человеке. Но не в меньшей мере – я позволю себе это утверждать – любитель зависит и от времени, в которое он живет, от обстоятельств, в которых находится, от современных ему художников и торговцев предметами искусства, от стран, которые он посетил впервые, и от народов, с которыми соприкоснулся. Он зависит от тысячи случайностей. Какие только обстоятельства не должны соединиться, для того чтобы сделать его солидным или поверхностным, либеральным или в известной степени ограниченным, человеком широкого кругозора или односторонним!
Я должен благодарить судьбу за то, что мой дед, попав в столь благоприятное время и в столь счастливое положение, смог завладеть всем тем, что в настоящее время стало недоступным частному человеку. Счета и купчие еще находятся у меня на руках, и я вижу, как несравнимы тогдашние цены с нынешними, взвинченными повальным любительством, которым теперь захвачены все народы.
Да, коллекция этого достойного человека значит для меня, для моего отношения к искусству и моих суждений о нем то же, что Дрезденская коллекция значит для Германии: она великий источник подлинных знаний для юноши, подкрепление чувств и хороших основ для зрелого мужа и целительный родник для каждого, даже поверхностного, обозревателя, ибо прекрасное воздействует не только на посвященных. Ваши заверения, милостивые государи, что ни одному из произведений, приобретенных моим почтенным дедом, не приходится краснеть перед королевскими сокровищами, не преисполнили меня гордости, я принял их как должное, ибо в тиши и сам осмеливался так думать.
Я заканчиваю это письмо, не осуществив своего намерения. Я болтал, вместо того чтобы рассказывать. Ведь у стариков разные признаки хорошего настроения. И теперь у меня едва хватает места сказать Вам, что дядюшка и племянницы шлют Вам сердечный привет и что Юлия все чаще и нетерпеливее осведомляется о столь долго откладываемой поездке в Дрезден, так как надеется по дороге свидеться со своими новыми, горячо почитаемыми друзьями. И правда, верно, ни один из Ваших старых друзей не сможет искреннее, чем старый дядюшка, подписаться
ПИСЬМО ВТОРОЕВашим преданным.
Хорошим приемом, который Вы оказали молодому человеку, явившемуся с письмом от меня, Вы доставили двойную радость: ему уготовив приятный день, а мне – возможность получить живую, устную весть о Вас, Вашем здоровье, Ваших работах и намерениях.
Оживленная беседа о Вас в первые минуты его возвращения не дала мне заметить, как сильно он изменился за время своего отсутствия. При поступлении в университет он подавал большие надежды. Из школы он вышел сильным в греческом и в латыни, с превосходными знаниями обеих этих литератур, осведомленным в старой и новой истории, не вовсе несведущим в математике и во всем прочем, что требуется для того, чтобы стать хорошим педагогом, и вот теперь, к вящему нашему огорчению, возвратился философом. Он посвятил себя преимущественно, даже исключительно философии, и все наше маленькое общество, включая и меня, не особенно-то склонное к ней, беседуя с ним, чувствует себя весьма неловко; то, что мы понимаем, его не интересует, а то, что интересует его, непонятно нам. Он говорит на новом языке, а мы уже слишком стары, чтобы ему научиться.
Что это за удивительная штука с философией, и особенно с новейшей! Углубляться в себя, ловить свой собственный дух на различных проявлениях, окончательно замкнуться в себе, чтобы лучше познать предмет, – разве же это правильный путь? Неужели ипохондрик видит вещи яснее лишь потому, что всегда роется в себе и себя самого подрывает? Право, эта философия кажется мне разновидностью ипохондрии, какой-то извращенной склонностью, которую нарекли великолепным именем. Вы уж простите старика, простите врача-практика.
Но больше ни слова об этом! Если политика не испортила мне хорошего настроения, то уж философии это и подавно не удастся! Итак, скорее в убежище искусства! Скорее к той повести, которую я обещал рассказать, а не то в этом письме будет отсутствовать как раз то, из-за чего оно пишется!
Когда мой дед умер, отец впервые обнаружил склонность к довольно определенному виду произведений искусства: его восхищало подражание природе, которое в те годы достигло наибольшего совершенства в области акварели. Вначале он приобретал только акварельные этюды, но вскоре стал еще держать на жалованье нескольких художников, которые должны были с величайшей точностью писать для него птиц, мотыльков, цветы и ракушки. Все из ряду вон выходящее, что случалось на кухне, в саду или в поле, тотчас же должно было быть запечатлено кистью. Таким образом ему удалось сохранить немало видов аномалий различных существ, которые, как я теперь вижу, представляют известный интерес для естествоиспытателя.
Постепенно он пошел дальше и увлекся портретом. Он любил свою жену, детей; друзья были ему дороги, отсюда – начало коллекции портретов.
Вы, наверное, заметили множество маленьких картинок, написанных маслом на меди. В прежнее время большие мастера, может быть, для собственного развлечения, а может быть, из дружбы, частенько писали их. Отсюда возникла эта похвальная привычка, более того, особый род живописи, на котором специализировались многие художники.
Такой формат имел свои преимущества. Портрет в натуральную величину, будь это даже только голова или поясное изображение, требует слишком много места по сравнению с тем интересом, который он собой представляет. Каждому любвеобильному и состоятельному человеку следовало бы приглашать художника для писания портретов с себя и своей семьи в различные периоды жизни. Человек, изображенный искусным художником на малом пространстве, не потребует для себя слишком большого места. Так можно собрать вокруг себя всех своих друзей, и даже у потомства найдется местечко для этой компании. Напротив, большой портрет, вместе с изображенным на нем владельцем, особенно в новое время, обычно должен очистить место для наследника, а мода изменяется так сильно, что даже превосходно написанная бабушка уже не подходит к обоям, мебели и прочему комнатному убранству внучки.
Однако художник в той же мере зависит от любителя, в какой любитель от современного ему художника. Славный мастер, один только и умевший еще писать эти миниатюры, скончался, и на смену ему явился другой, который стал писать портреты в натуральную величину. Мой отец давно уже желал иметь подле себя такого художника, ему приятно было видеть свою семью и себя изображенными во весь рост. Так же, как любая птица, любое насекомое, которое изображалось художником, должно было быть точно вымерено, чтобы, сверх остального правдоподобия, еще и по величине совпадать с натурой, он и себя хотел видеть на холсте таким, каким видел в зеркале. И вот его желание сбылось: нашелся один такой искусный муж, который не без удовольствия провел у нас некоторое время. Мой отец был недурен собою, мать была хорошо сложенной женщиной, сестра же красотою и прелестью превосходила всех своих землячек; тут-то и пошло портретирование, причем, как правило, художник никогда не ограничивался одним изображением. В частности, сестра, как Вы могли заметить, чаще других изображалась в различных видах. Были даже начаты приготовления к большому семейному портрету; но он не двинулся дальше зарисовок, ибо мы так и не сумели прийти к соглашению касательно группировки и момента, который должен быть зафиксирован.
Вообще же говоря, мой отец оставался неудовлетворенным. Художник принадлежал к французской школе. Его полотна были исполнены гармонии и остроумия, казались натуральными, и все же, при сличении с оригиналом, оставляли желать многого. Некоторые же из них, поскольку художник из угодливости воспользовался кое-какими замечаниями моего отца, в результате оказались совершенно испорченными.
Но вот неожиданно желание отца сбылось в полной мере. Сын нашего художника, молодой и способный человек, с юных лет находившийся в учении у своего дяди – немца, которому он должен был наследовать, посетил своего родителя. И тут-то мой отец открыл в нем талант, который его совершенно удовлетворил. Первым делом должна была быть написана сестра, что и было выполнено с невероятной точностью, так что в результате получился портрет, правда, не свидетельствующий об особом вкусе, но натуральный и правдивый. Она стояла в том виде, в каком обычно гуляла по саду: ее каштановые волосы, впереди падающие на лоб, сзади были заплетены в две толстые косы и подхвачены лентой, на руке у нее висела соломенная шляпа, наполненная прекраснейшими гвоздиками, которые очень любил отец, а на ладони она держала персик, сорванный с дерева, в этом году впервые принесшего плоды.
По счастью, все эти атрибуты удачно подошли друг к другу и не кажутся безвкусными. Мой отец был в восторге, а старый художник охотно уступил свое место сыну. С его работами в нашем доме началась новая эра, которую отец почитал счастливейшим временем своей жизни. Каждый член семьи был теперь запечатлен со всем тем, что его обычно занимало и окружало. Вы, наверно, еще не забыли шаловливых хлопот моей Юлии, которая постепенно вытаскивала все атрибуты картин, поскольку изображенный на них реквизит еще можно было найти в нашем доме, для того чтобы убедить Вас в величайшем правдоподобии передачи. Тут была и табакерка моего деда, его большие серебряные карманные часы, его палка с топазовым набалдашником, рабочая шкатулка моей бабки и ее серьги. У Юлии еще сохранилась игрушка из слоновой кости, которую она, ребенком, держит в руке на одной из картин; она пробовала в той же позе стать рядом с картиной; игрушка сохранила полное сходство, девочка же – увы! – уже не была похожей, и я живо помню наши тогдашние шутки.
Кроме всех членов семьи, в течение одного года была изображена и почти вся наша домашняя утварь, причем художник частенько черпал новые силы для своей не всегда занимательной работы во взглядах, которые он бросал на мою сестру, – отдохновение, ему тем более полезное, что в ее глазах он, по-видимому, находил то, чего искал. Словом, молодые люди решили вместе жить и умереть. Мать поощряла эту склонность, отец был доволен возможностью закрепить в своей семье талант, без которого он уже почти не мог обходиться. Было решено, что наш друг в ближайшее время предпримет путешествие по Германии, привезет согласие дядюшки и отца и затем, уже навсегда, войдет в нашу семью.
Дело было весьма скоро улажено, ибо молодой художник хоть и недолго задержался в путешествии, но все же привез с собой кругленькую сумму, быстро им заработанную при различных дворах. Счастливая пара соединилась, и в нашей семье настало довольство, продолжавшееся до самой смерти выше описанных лиц.
Мой зять был хорошо образованным, весьма приятным в жизни человеком, его талант удовлетворял моего отца, его любовь – мою сестру, его любезность – меня и остальных домочадцев. Каждое лето он уезжал и домой возвращался с хорошим вознаграждением, зима посвящалась семейной жизни. Дважды в год он писал свою жену и дочерей.
Так как все, что он писал, выходило правдоподобно до мельчайшей детали, более того, правдоподобно до неотличимости, мой отец в конце концов напал на странную идею, выполнение которой я должен Вам описать, потому что сама картина более не сохранилась, иначе я бы, конечно, показал ее Вам.
Может быть, Вы заметили дверь, которая, как кажется, ведет куда-то дальше, там, в верхней комнате, где висят лучшие портреты? На самом деле эта комната последняя в анфиладе, а дверь – слепая. Но прежде, когда ее открывали, за ней показывалось нечто скорее ошарашивающее, чем вызывающее восхищение. Оттуда выступал мой отец под руку с матерью, поражая своим сходством, достигнутым отчасти благодаря различным атрибутам, отчасти же и благодаря искусству. Он был скопирован в обычной своей одежде, в том виде, в каком он нередко возвращался домой из гостей. Картина была написана с великой тщательностью и даже с учетом места своего расположения. Фигуры были рассчитаны на перспективу, открывавшуюся с определенного места, их одежда, столь тщательно выписанная, преследовала тот же эффект. Для того, чтобы свет проникал должным образом, сбоку, было прорублено окно и все расположено так, чтобы мистификация удалась в совершенстве.
К несчастью, однако, это произведение искусства, вплотную приближенное к действительности, слишком скоро разделило судьбу действительного. Подрамник с набитым на него холстом был прикреплен к дверной раме и потому ничем не защищен от влияния стенной сырости, которая действовала на портрет тем сильнее, что запертая дверь не пропускала воздуха; и вот однажды после суровой зимы, в течение которой дверь ни разу не открывалась, мы нашли отца и мать совершенно разрушенными; это нас очень огорчило, тем более что смерть разлучила нас с ними еще до этого.
Но я возвращусь назад, так как хочу рассказать вам о последних жизненных удовольствиях моего отца. После того как задуманная картина была окончена, казалось, уже ничто не сможет доставить ему подобной радости, и все же одна еще предстояла ему. Явился какой-то художник и предложил сделать гипсовый слепок со всех членов семьи, чтобы затем отлить их в воске и раскрасить соответствующими красками. Портрет одного юного ученика, который он имел при себе, служил порукой его таланта, и мой отец решился на эту операцию. Она прошла благополучно, художник с величайшей точностью и тщательностью подправил лицо и руки. Фантом был облечен в настоящий парик и камчатный шлафрок: добавлю, что добрый старец по сю пору так и сидит за занавесом, который я не решился раздвинуть перед Вами.
После смерти родителей мы недолго прожили вместе. Моя сестра умерла еще молодой и прекрасной, муж написал ее в гробу. Своих дочерей, которые, подрастая, стали как бы в двух отражениях повторять красоту матери, он не мог уже писать из-за своего горя. Но он часто расставлял для натюрморта разную мелкую утварь, когда-то принадлежавшую жене и теперь бережно им хранимую; эти картины он выписывал с величайшей точностью и дарил своим ближайшим друзьям, которых приобрел во время путешествий.
Горе, казалось, возвысило его до значительного, тогда как прежде он изображал только обыденное. Эти маленькие немые картины были полны смысла и красноречия. На одной из них различные мелочи как бы говорили о набожной душе их владелицы – молитвенник в красном бархате с золотыми застежками, хорошенький вязаный мешочек со шнурками и кисточками, откуда она вынимала деньги для раздачи милостыни, чаша, из которой она приняла свое последнее причастие и которую он получил из церкви в обмен на лучшую. На другой картине рядом с хлебом виднелся нож, которым она обычно резала хлеб для детей, коробочка для семян, которыми она весною засевала свой садик, календарь, где она записывала расходы и всякие мелкие события, стеклянный кубок с резным вензелем, в ранней юности полученный ею от деда и вот, несмотря на свою хрупкость, сохранившийся долее, чем она.
Он продолжал свои путешествия и весь свой привычный образ жизни. Но, способный видеть только окружающее, не перестававшее напоминать ему о жестокой утрате, он не смог излечить свою душу. Порою им овладевала какая-то непостижимая тоска. Его последний натюрморт тоже изображал принадлежавшие ей вещи, но они были как-то странно выбраны, странно размещены и, казалось, говорили о тщете и разлуке, о верности и соединении.
Мы не раз заставали его перед этой картиной задумчивым и праздным, каким мы раньше его не знали, в растроганном, взволнованном состоянии, и Вы мне, верно, простите, если я на сегодня оборву письмо и постараюсь снова обрести душевное спокойствие, из которого меня нечаянно вывело это воспоминание.
Но все же это письмо не должно попасть к Вам в руки со столь грустным концом, я передаю перо моей Юлии, чтобы она Вам сказала…
Дядюшка вручил мне перо, прося учтивым оборотом речи заверить Вас в его преданности. Он все еще остается верен этой привычке доброго старого времени, когда считалось обязательным в конце письма отвесить церемонный поклон. Нас этому уже не учили: подобный реверанс кажется нам неестественным и недостаточно сердечным. Пожелание всего хорошего и мысленное рукопожатие – больше мы, пожалуй, ничего не сумеем придумать.
Что же мне теперь предпринять, чтобы выполнить поручение – нет, приказание моего дядюшки, как то подобает послушной племяннице? Сочтете ли Вы достаточно учтивым, если я заверю Вас, что племянницы преданы Вам так же, как и дядюшка? Он запретил мне читать последнюю страницу, я не знаю, что он там мог сказать обо мне плохого или хорошего. Впрочем, может быть, я слишком самонадеянна, думая, что он говорил обо мне. Но хватит и того, что мне позволено прочесть начало письма; из него я вижу, что дядюшка старается очернить перед Вами нашего милого философа. По-моему, весьма нелюбезно со стороны дядюшки так строго судить молодого человека, искренне любящего и почитающего и его и Вас, лишь за то, что он вдумчиво и серьезно относится к тому, в чем хочет достичь совершенства. Будьте откровенны и скажите мне: разве не потому мы, женщины, бываем иногда прозорливее мужчин, что нам чужда их односторонность и что мы охотнее предоставляем каждому жить по-своему! Молодой человек разговорчив и общителен. Он много разговаривает и со мной, и хоть я, по правде говоря, ровно ничего не понимаю в его философии, но зато, думается, вполне понимаю философа.