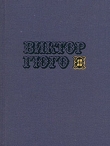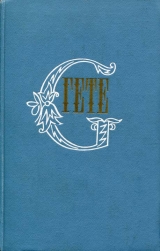
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Об искусстве и литературе"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Между старейшинами и людьми среднего возраста затесался ребенок лет восьми – символ первых ученических лет, когда младенец любит бывать среди взрослых, когда ему хочется тоже вмешаться в их разговор; на боку у ребенка висит пенал в знак того, что он уже вступил на путь учения, где начинающего ждет много препятствий. Ничего более чудесного и грациозно-естественного, чем эта фигурка, и придумать невозможно.
Наставники идут, погрузившись в раздумье, ученики ведут меж собой беседу.
Все завершают, как и полагается, воины, ибо прежде и после всего именно они обязаны утвердить мощь государства за его пределами и обеспечить порядок внутри. Столь великие требования Мантенья олицетворяет всего в двух образах; первый из них – юный воин с оливковой ветвью в руках, он идет, подняв глаза вверх, и оставляет нас в сомнении, ибо мы не знаем, радуется ли он победе или печалится, что война окончена; зато старый воин, истощенный, согбенный под грузом тяжелейшего оружия, олицетворяет всю длительность войны. Он свидетельствует более чем ясно, что это триумфальное шествие ему тягостно и он будет счастлив вечером где-нибудь отдохнуть.
Фон картины, где обычно открывалось свободное пространство, здесь также заполнен до предела; справа возвышается дворец, слева башня и стены; все это, вероятно, указывает на близость городских ворот, на то, что мы действительно находимся в конце пути, что сейчас триумфальное шествие войдет в город и там Цезарь окончит поход.
Если наше толкование в чем-то противоречит фону предыдущих картин, ибо там были ландшафты, много воздуха, храмы и дворцы на холмах, но и развалины тоже, то мы все же считаем, что художник писал реальные римские холмы, но уже с теми зданиями и развалинами, которые существовали в его время.
Наше предположение кажется нам тем убедительнее, что на картинах Мантеньи изображены дворец, темница, арка, может быть, служившая некогда водопроводом, обелиск победы, которые, очевидно, должны были быть воздвигнуты на земле города.
Но довольно, иначе мы окажемся в области беспредельного, и, сколько бы слов мы еще ни нагромоздили, все равно мы не могли бы выразить всех достоинств этих наспех описанных нами гравюр.
1820–1823
О НЕМЕЦКОМ ЗОДЧЕСТВЕ 1823

Великим очарованием должно было обладать зодчество, которое итальянцы и испанцы издревле, а мы только в новейшие времена называем немецким(tedesca, germanica). Много столетий его использовали при возведении малых и грандиозных строений, большая часть Европы переняла его, тысячи художников, много тысяч ремесленников работали в его стиле; христианская церковь чрезвычайно покровительствовала ему и оказывала с его помощью мощное воздействие на души и на умы. Так, значит, было же присуще этому искусству нечто великое, нечто глубоко прочувствованное, продуманное, проработанное, то затаенное, что потом проступает на свет божий, против чего устоять невозможно.
Примечательным поэтому показалось нам свидетельство одного француза, чье зодчество было противоположно зодчеству, которое мы восхваляем, зодчеству, о котором чрезвычайно отрицательно судила его эпоха, и все-таки он говорит следующее: «Удовлетворение, которое мы испытываем, глядя на прекрасное произведение искусства, проистекает оттого, что в нем соблюдены правила и мера, ибо удовольствие в нас вызывают единственно лишь пропорции. Если же они отсутствуют, то, сколько бы мы ни украшали здание, эти наружные украшения не заменят нам внутреннюю красоту и привлекательность, коль скоро их нет, и, пожалуй, можно сказать, что уродство становится еще ненавистнее и невыносимее, чем пышнее наружные украшения, чем дороже или роскошнее материал.
Дабы развить наше утверждение, я заявляю, что красота, возникающая из меры и пропорции, вовсе не требует дорогих материалов и изящной работы, чтобы вызвать восхищение, – напротив она сверкает и делается ощутимее, проступая сквозь грубость и хаос материала и его обработки. Нам приятно смотреть на некоторые соотношения тех готических зданий, красота которых очевидно возникла из симметрии и пропорций между целым и частями и внутри отдельных частей и видна, невзирая на скрывающие ее безобразные украшения.
Но особенно убедительным нам покажется то обстоятельство, что при тщательном изучении этих глыб мы открываем в них те же пропорции, что и в строениях, воздвигнутых по всем правилам славного зодчества, лицезрение которого доставляет нам столько приятного» (François Blondel. Cours d’Architecture. Cinquième partie, livre V, chap. XVI–XVII) [18]18
Франсуа Блондель. Курс архитектуры. Пятая часть, книга V, гл. XVI–XVII (франц.).
[Закрыть].
В этой связи нам хотелось бы вспомнить наши юные годы, когда Страсбургский собор оказывал на нас столь большое действие и, хотя никто нас к этому не призывал, мы не могли не выразить свой восторг. Мы столкнулись, сами того не понимая, как раз с тем самым, к чему пришел и что утверждает французский зодчий после своих тщательных измерений и обследований, но, разумеется, вовсе не от каждого требуется давать отчет обо всех своих неожиданных впечатлениях.
Однако эти строения стояли здесь много веков и казались только наследием старых времен, не производя особого впечатления на людей, и причины этого вполне ясны. Но с какой мощью проявилось их воздействие в последнее время, когда вновь пробудился вкус к этому виду искусства! Молодые и старые, мужчины и женщины были столь очарованы и увлечены этими впечатлениями, что они не только с наслаждением и страстью бесконечно осматривают, измеряют, срисовывают эти строения, но начали и на практике применять этот стиль при постройке современных зданий, предназначенных для пользования в наши дни, и строительство их доставляло удовольствие современникам, которые чувствовали себя как бы собственными предками.
Но раз уже в нас пробудился интерес к произведениям прошлого, значит, и те люди, которые дали нам возможность правильно, иначе говоря, исторически почувствовать и воспринять качество и ценности этих сооружений, заслуживают большой благодарности, и поэтому я чувствую себя обязанным высказать соображения, возникшие у меня благодаря моей близости к столь значительным предметам.
С тех пор как я покинул Страсбург, я уже не видел столь великолепных и грандиозных сооружений в немецком стиле; впечатление угасло, и я уже почти не вспоминал о времени, когда один только взгляд на эти здания вызывал у меня живейший энтузиазм. Пребывание в Италии не оживило во мне подобных мыслей, тем более что современные перестройки Миланского собора до неузнаваемости изменили его прежний характер; и поэтому я много лет был далек от этого направления в искусстве, а может быть, и вовсе позабыл о нем.
Но вот в 1810 году благодаря посредничеству благородного друга я вступил в более близкое общение с братьями Буассерэ. Они сообщили мне о блестящих результатах своих трудов: тщательно изготовленные зарисовки Кельнского собора, сделанные частью в горизонтальной проекции, частью с разных сторон, познакомили меня с этим сооружением, которое после строгой проверки действительно занимает первое место среди произведений зодчества этого стиля. Тогда я снова принялся за старые мои занятия, и, охотно посещая друзей и тщательно изучая множество построек той эпохи по гравюрам, рисункам, картинам, я узнал столь много, что наконец опять почувствовал себя как дома в этой области.
Однако по существу этого дела, особенно в моем возрасте и в моем положении, для меня самым важным должна была стать историческая сторона вопроса. И вот тут-то самую большую помощь оказали мне собрания моих друзей.
К счастью, выяснилось еще, что господин Моллер, высокообразованный и проницательный художник, тоже загорелся интересом к нашему предмету и очень удачно сотрудничает в этой же области. Вновь обнаруженный оригинал чертежа Кельнского собора осветил вопрос еще и с другой стороны: литографская копия с него, оттиски, дополненные и затушеванные, позволяют представить всю постройку вместе с двумя ее башнями; но главное, – что должно было доставить особенную радость знатокам истории, – этот превосходный человек решил предоставить нам собранные рисунки, сделанные в прежнее и в настоящее время, на которых мы собственными глазами можем увидеть и легко понять, во-первых, происхождение зодчества, стиль которого мы сейчас изучаем, затем вершину, которой этот стиль достиг, и, наконец, увидеть упадок, к которому он пришел. Сделаем мы это тем быстрее, что первый труд лежит перед нами уже в законченном виде, а из второго, где будет трактоваться об отдельных зданиях этого стиля, мы получили уже первые выпуски.
Надеемся, что наша публика особенно благожелательно отнесется к трудам этой столь же проницательной, сколь и деятельной личности. Ибо сейчас самое время заняться подобными предметами, и мы обязаны использовать момент, если хотим, чтобы и мы, и наши потомки составили себе полное представление об этом виде искусства.
И поэтому такое же внимание и участие мы должны уделить весьма важному труду братьев Буассерэ, первую часть которого мы уже обрисовали в общих чертах.
Я с искренним интересом слежу за тем, как наша публика наслаждается привилегией, которой я пользуюсь вот уже целых тринадцать лет, ибо ровно столько времени я являюсь свидетелем трудной и длительной работы братьев Буассерэ. С той поры я постоянно знакомился то с новыми зарисовками, то со старинными рисунками и гравюрами с изображением этих зданий, но особенно существенными были для меня пробные оттиски с наиболее важных досок, сделанные выдающимися граверами и близкие к совершенству.
Однако, как ни приятен мне новый интерес, вернувший меня к склонностям моих прежних лет, наибольшую пользу принесло мне короткое посещение Кельна, которое я имел счастье совершить с господином государственным министром фон Штейном.
Не стану отрицать, что вид Кельнского собора снаружи вызвал у меня ощущение, название которому я подобрать не могу. Если величественные руины заставляют нас ощутить конфликт между великолепным творением человека и безмолвно властвующим, ничего не щадящим временем, то здесь мы сталкиваемся с незавершенным, невиданным, и именно эта незавершенность напоминает нам об ограниченности человека, как только он дерзает создать нечто сверхграндиозное.
Если быть искренним, собор внутри производит на нас хоть и величественное, но дисгармоничное впечатление, и, только когда мы поднимаемся на хоры, перед нами неожиданно раскрывается в своей гармоничности уже завершенное, и мы весело удивляемся и радостно пугаемся, но чувствуем – наша страстная мечта нашла здесь больше чем удовлетворение.
Но я давно уже изучил основной чертеж, я много обсуждал его вместе с друзьями и поэтому, раз основы к тому уже были заложены, мог совершенно точно идти по следам первоначального замысла. Точно так же помогли мне пробные оттиски профилей, чертежи фронтона, я мог уже в какой-то степени составить в душе весь облик собора; однако мне все еще недоставало очень многого, без чего нельзя было взлететь к вершине.
Но сейчас, когда труд Буассерэ близится к завершению, когда рисунки и комментарии станут доступны всем интересующимся, сейчас истинный друг искусства, даже живущий вдалеке от собора, получит возможность окончательно убедиться, какой высочайшей вершины достигло это зодчество; и если, путешествуя, он случайно окажется возле замечательного строения, он уже не предастся личным ощущениям, будь то смутное предубеждение или чрезмерно поспешное отвращение. Нет, он станет, как человек, посвященный в секрет производства, рассматривать собор в его теперешнем виде, но мысленно воссоздавать то, чего еще не хватает. По крайней мере, я, который стремился к этому пятьдесят лет, желаю себе счастья достичь ясности, достичь ее благодаря трудам патриотически настроенных, умных, усердных, неутомимых молодых людей.
Конечно, естественно, что, возобновив изучение немецкого зодчества XII века, я часто вспоминаю свое раннее увлечение Страсбургским собором и радость, испытанную мною, когда я напечатал статью, написанную тогда, в 1773 году, в первом порыве энтузиазма; и, перечитывая ее позднее, мне не приходилось стыдиться ее, ибо я все же почувствовал глубокую внутреннюю пропорциональность целого, я понял, как украшались отдельные его части, исходя именно из этого целого, и, неоднократно подолгу рассматривая его, я открыл, что башня, хотя и воздвигнутая на большую высоту, все же еще недостроена. Все это полностью совпало с новейшими взглядами моих друзей и с моими собственными, и если в стиле той статьи есть нечто двойственное, то это, конечно, простительно, ибо мне надо было выразить в словах нечто не поддающееся выражению.
Мы еще будем возвращаться к этому предмету, а сейчас мы заканчиваем, выражая благодарность тем, кому мы обязаны за их основательнейшие труды: господам Моллеру и Бюшингу, первому за его описание имеющихся гравюр на меди, второму за попытку дать введение к истории старонемецкого зодчества; к тому же сейчас в моем распоряжении находится в качестве желанного пособия сочинение господина Сульпиция Буассерэ, где он также со свойственными ему основательными познаниями описывает и комментирует гравюры.
1823
LA CENA, PITTURA IN MURO DI GIOTTO,
NEL REFETTORIO DEL CONVENTO DI S. CROCE DI FIRENZE.
J. A. RAMBOUX DIS., FERD. RUCHEWEYHINC. ROMA, 1821 [19]19
«Тайная вечеря». Фреска Джотто на стене трапезной монастыря Санта-Кроче во Флоренции. Копия Рамбу, гравировка Рушевейя. Рим, 1821 (итал.).
[Закрыть]

Веймарские любители искусства могли бы очень просто сформулировать извещение об этой гравюре на меди. Достаточно было бы сказать, что господин Рамбу точно и добросовестно сделал копию с фрески Джотто, а гравер господин Рушевей достоин не меньшей похвалы за величайшую тщательность и чистоту проделанной им работы. Можно было бы добавить, что каждый подлинный знаток и любитель искусства должен без промедления обогатить свою коллекцию упомянутыми листами, и тем самым с этим было бы, вероятно, ко всеобщему удовлетворению, покончено. К тому же вышеназванные веймарские любители искусства могли бы не испытывать укоров совести, ибо дело обстоит именно так.
Однако с некоторых пор мы узнаем о серьезных заблуждениях, свидетельствующих о дурном вкусе, и число этих заблуждений все время растет. Поэтому мы считаем своим долгом, долгом каждого беспристрастного целителя искусства, высказать, когда к тому представляется возможность, свою точку зрения; именно это заставляет нас и в данном случае достаточно пространно изложить свои соображения о названном в заглавии произведении искусства.
Такие художественные произведения, как «Тайная вечеря» Джотто, рассматриваются обычно с самых различных точек зрения, и суждения о них носят самый противоречивый характер. Любители искусства, отдающие предпочтение старым мастерам, восхищаются простотой, задушевностью, искренностью художника – качествами, которых и в самом деле очень часто недостает изобразительному искусству наших дней; однако при этом не замечают, что художникам XIV века не хватает владения искусством, и готовы рекомендовать их картины как образец для подражания, что, по всей видимости, имеет место и в случае с гравюрами господина Рушевейя по фреске Джотто. Напротив, сторонники другого направления составляют свое суждение в соответствии с дурно усвоенными понятиями прекрасного и согласны только на полное совершенство. Таким образом, если одни безоговорочно восхваляют достоинства произведения, то другие как будто только тем и заняты, чтобы обнаружить в нем ошибки: они замечают, что ноги Аполлона неодинаковой длины, находят кое-какие погрешности в Лаокооне, утверждают, что у Боргезского бойца линия спины не соответствует линии груди, и т. д. Этих строгих критиков старый честный Джотто должен, конечно, возмущать своими вытянутыми, застывшими фигурами, несоразмерностью пропорций, слабостью рисунка и ошибками в перспективе. Но да будет нам разрешено занять промежуточную позицию между этими суждениями и открыто без обиняков сказать: первые заблуждаются, а вторые мешают нам наслаждаться художественным произведением.
Действительно полезная критика, справедливая оценка никогда не исходят только из недостатков, – разве что этого требует какая-нибудь определенная цель, – но и не игнорируют их; знаток искусства отдает должное достоинствам произведения, независимо от того, в каком образе они предстают перед ним; он никогда не забывает, что зимой не цветут розы, а весной не зреет виноград. Другими словами: справедливый, умный судья хвалит и порицает вне зависимости от того, испытал ли он большее или меньшее удовольствие от созерцания художественного произведения; его суждение всегда основано на знании истории искусства, он тщательно изучает место и время возникновения произведения и состояние искусства на данной стадии развития, а также вкусы изучаемой школы и собственный вкус мастера.
Возвращаясь к «Тайной вечере» Джотто, следует признать, что это – замечательное произведение, правда, не в том смысле, что его следует изучать начинающим художникам, ибо тот, кто захочет таким образом усовершенствовать свой вкус, овладеть техникой рисунка и другими необходимыми художнику навыками, своей цели не достигнет. Однако с исторической точки зрения для мыслящих ценителей искусства ценность этого произведения громадна, ибо оно открывает нашему взору замысел Джотто, показывает, как этот высокоодаренный художник мыслил себе тайную вечерю господа нашего; его еще детское искусство, несоразмерное этой трудной задаче, и заставило его отказаться от самых высоких намерений и стремлений.
Если обратиться к разработке той же темы у Леонардо да Винчи, то сравнение обеих фресок сделает совершенно очевидным, каких громадных успехов достигло изобразительное искусство менее, чем за два столетия; ведь эти поразительно талантливые художники, – каждого из них можно с уверенностью назвать великим для своего времени, – взяли для своих фресок почти один и тот же сюжет. Леонардо да Винчи изобразил тот момент, когда Христос говорит своим ученикам: «Один из вас предаст меня» (Матфей, гл. 26, ст. 21); внимание Джотто привлекло, по-видимому, то место в Евангелии, где сказано: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня» (ст. 23). Во фреске Джотто слова господа ведут к простой беседе; одни апостолы как будто хотят оправдаться, другие опечалены, четвертый апостол, одесную Христа, жестом выражает свое потрясение, Иуда спокойно протягивает руку за куском хлеба. Старание художника отметить черты предателя особым, отличающим его от других апостолов, низменным выражением лица очевидно.
Искусство Леонардо да Винчи достигло такой высокой степени свободы, когда художнику доступно решение даже самых сложных задач. Слово господа, его предвидение, что один из сидящих с ним за трапезой предаст его, мгновенно вызывает всеобщее потрясение. Взволнованные апостолы образуют очень живые, превосходно расположенные группы; Здесь всё – жизнь, всё – движение; многообразие чувств, жестов достигает предела; весь облик, все черты каждого апостола полностью соответствуют тому, что он решает предпринять, отражают всю меру его страдания; выражение лиц правдиво и преисполнено силы. Иуда испуган; откидываясь, он опрокидывает стоящую перед ним солонку. Можно было бы указать и на ряд других значительных моментов, однако сказанного достаточно, чтобы понять, насколько полезно и поучительно сравнение обеих фресок. Вряд ли какие-либо иные примеры могли бы столь ярко и убедительно показать истоки и завершение искусства нового времени.
1823
О ТЕАТРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

КО ДНЮ ШЕКСПИРА

Мне думается, это благороднейшее из наших чувств: надежда существовать и тогда, когда судьба, казалось бы, уводит нас назад, ко всеобщему небытию. Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души; доказательство тому, что каждый человек, самый малый, равно как и величайший, самый бесталанный и наиболее достойный, скорее устает от чего угодно, чем от жизни, и что никто не достигает цели, к которой он так пламенно стремится; ибо если кому-нибудь и посчастливилось на жизненном пути, то в конце концов он все же – часто перед лицом так долго чаянной цели – попадает в яму, бог весть кем вырытую, и считается за ничто.
За ничто? Я? Когда я для себя все,когда я все познаю только через себя!Так восклицает каждый смертный, и вот он большими шагами шествует по жизни, подготовляясь к бесконечному странствию в потустороннем мире. Разумеется – каждый по своей мерке. Если один отправляется в дорогу бодрым шагом, то на другом – семимильные сапоги; он обгоняет его, и два шага последнего равняются дневному пути первого. Будь с ним что будет, но и тот ревностный странник останется нашим другом и нашим товарищем даже тогда, когда мы дивимся гигантским шагам другого, идем по его следам, измеряем его шаги своими.
В путь, милостивые государи! Вид даже одного такого следа делает нашу душу пламенней и возвышенней, чем глазение на тысяченогий королевский поезд.
Мы чтим сегодня память величайшего странника и тем самым воздаем честь и себе. В нас есть ростки тех заслуг, ценить которые мы умеем.
Не ждите, чтобы я писал много и тщательно. Спокойствие – не праздничный наряд, да к тому же я до сих пор мало думал о Шекспире: прозревал его, иногда ощущал, – выше этого я не сумел подняться. Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что мое существование умножилось на бесконечность; все было мне ново, неведомо, и непривычный свет причинял боль моим глазам. Час за часом я научался видеть, и – хвала моему познавательному дару! – я еще и теперь чувствую, что́ мне удалось приобрести.
Не колеблясь ни минуты, я отрекся от театра, подчиненного правилам. Единство места казалось мне устрашающим, как подземелье, единство действия и времени – тяжкими цепями, сковывающими воображение. Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки, ноги. И теперь, когда я увидел, сколько несправедливостей причинили мне создатели этих правил, сидя в своей дыре, в которой – увы! – пресмыкается еще немало свободных душ, – мое сердце раскололось бы надвое, если б я не объявил им войны и ежедневно не разрушал их козни.
Греческий театр, который французы взяли за образец, по своей внутренней и внешней сути был таков, что скорее маркизу удастся подражать Алкивиаду, чем их Корнелям уподобиться Софоклу.
Вначале как интермеццо богослужения, затем став частью политических торжеств, трагедия показывала народу великие деяния отцов, чистой простотой совершенства пробуждая в душах великие чувства, ибо сама была цельной и великой.
И в каких душах!
В греческих! Я не могу объяснить, что это значит, но я чувствую это и, краткости ради, сошлюсь на Гомера, Софокла и Феокрита: они научили меня так чувствовать.
И мне хочется тут же прибавить: «Французик, на что тебе греческие доспехи, они тебе не по плечу».
Поэтому-то все французские трагедии пародируют самих себя. Сколь чинно там все происходит, как похожи они друг на друга – словно два сапога, и как скучны к тому же, особенно in genere в четвертом акте, – известно вам по опыту, милостивые государи, и я не стану об этом распространяться.
Кому впервые пришла мысль перенести важнейшие государственные дела на подмостки театра, я не знаю; здесь для любителей открывается возможность критических изысканий. Я сомневаюсь в том, чтобы честь этого открытия принадлежала Шекспиру; достаточно того, что он возвел такой вид драмы в степень, которая и поныне кажется высочайшей, ибо редко чей взор достигал ее, и, следовательно, трудно надеяться, что кому-нибудь удастся заглянуть еще выше, удастся ее превзойти.
Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только вблизи от тебя! Как охотно я согласился бы играть второстепенную роль Пилада, если б ты был Орестом, – куда охотнее, чем почтенную особу верховного жреца в Дельфийском храме.
Я здесь намерен сделать перерыв, милостивые государи, и завтра писать дальше, так как взял тон, который, быть может, не понравится вам, хотя он непосредственно подсказан мне сердцем.
Шекспировский театр – это чудесный ящик редкостей, здесь мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует перед нашими глазами. Планы его – это не планы в обычном смысле слова. Но все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (ее, увы, не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего Я и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы нуждаемся чуть ли не во втором рождении, чтобы выбраться из этих потемок.
Все французы и зараженные ими немцы – даже Виланд – в этом случае, как, впрочем, и во многих других, снискали себе мало чести. Вольтер, сделавший своей профессией чернить великих мира сего, и здесь проявил себя подлинным Ферситом. Будь я Улиссом, его спина извивалась бы под моим жезлом.
Для большинства этих господ камнем преткновения служат прежде всего характеры, созданные Шекспиром.
А я восклицаю: природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!
И вот они все на меня обрушились!
Дайте мне воздуху, чтобы я мог говорить!
Да, Шекспир соревновался с Прометеем! По его примеру, черта за чертой, создавал он своих людей, но в колоссальных масштабах– потому-то мы и не узнаем наших братьев, – и затем оживил их дыханием своегогения; это онговорит их устами, и мы невольно видим их сродство.
И как смеет наш век судить о природе? Откуда можем мы знать ее, мы, которые с детских лет ощущаем на себе корсет и пудреный парик и то же видим на других?
Мне часто становится стыдно перед Шекспиром, ибо случается, что и я при первом взгляде думаю: это я сделал бы по-другому; и тут же понимаю, что я только бедный грешник: из Шекспира вещает сама природа, мои же люди – пестрые мыльные пузыри, пущенные по воздуху романтическими мечтаниями. И, наконец, в заключение, хотя я, в сущности, еще и не начинал.
То, что благородные философы говорили о Вселенной, относится и к Шекспиру: все, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра, которая необходима для его существования, так же как то, что Zona torrida [20]20
Тропическая зона (лат.).
[Закрыть]должна пылать, а Лапландия покрываться льдами, дабы существовал умеренный климат. Онпроводит нас по всему миру, но мы, изнеженные, неопытные люди, кричим при встрече с каждым незнакомым кузнечиком: «Господи, он нас съест!»
Так в путь же, милостивые государи! Трубным гласом сзывайте ко мне все благородные души из Элизиума так называемого «хорошего вкуса», где они, сонные, влачат свое полусуществование в тоскливых сумерках, со страстями в сердце, но без мозга в костях и где, недостаточно усталые, чтобы отдыхать, и все же слишком ленивые, чтобы действовать, они протрачивают и прозевывают свою призрачную жизнь среди мирт и лавровых кущ.
1771