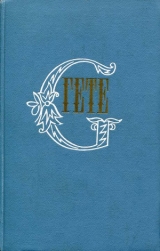
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Казерта, 16 марта 1787 г.
Неаполь – рай, каждый здесь живет в своего рода хмельном самозабвении. Со мной происходит то же самое, я, кажется, стал совсем другим человеком. Вчера я подумал: либо ты всю жизнь был сумасшедшим, либо стал им нынче. Ездил отсюда на развалины старой Капуи, осмотрел и ее окрестности.
В этих краях только и начинаешь понимать, что такое вегетация и для чего возделывают поля. Лен уже скоро зацветет, а пшеница вымахала в полторы пяди вышиной. Вокруг Казерты – сплошная равнина, поля обработаны чисто и аккуратно, как цветочные грядки. Все засажено тополями, их обвивают виноградные лозы, но, даже несмотря на затенение, земля здесь родит превосходно. Если бы только весна была дружная! До сих пор, хоть солнце и светило вовсю, но дули холодные ветры, – это, видимо, из-за снега на горах.
Через две недели я должен решить – ехать ли мне в Сицилию. Никогда еще я не пребывал в таких сомнениях. Сегодня случается что-то, говорящее мне «поезжай», завтра обстоятельства как бы советуют от поездки воздержаться. Два духа вступили в борьбу за меня.
По секрету моим подругам, друзья этого знать не должны! Странная участь постигла мою «Ифигению»; все привыкли к ее первоначальной форме, всем запали в память выражения, часто слышанные или читанные. Сейчас все звучит по-другому, и я отлично понимаю, что никто не поблагодарит меня за мои нескончаемые усилия. Такая работа, собственно, никогда не бывает завершена, ее можно только объявить завершенной, когда сделано все, что позволило сделать время и житейские обстоятельства.
И все-таки я не побоюсь произвести подобную же операцию над «Тассо». Лучше мне бросить его в огонь, чем отступиться от своего решения, а раз так, то быть ему диковинной пьесой. Поэтому я доволен, что печатанье моих произведений подвигается медленно. Но, с другой стороны, весьма полезно знать, что издалека тебе угрожает наборщик. Странно, конечно, что самое свободное действие нуждается в известном принуждении, даже требует его.
Неаполь 19 марта.
Здесь достаточно просто бродить по улицам, да еще иметь глаза, чтобы увидать неподражаемые картины.
На Моло, самом шумном перекрестке города, я видел вчера Пульчинеллу. На дощатом помосте он ссорился с маленькой обезьянкой, выше, на балконе, прехорошенькая девушка выставляла напоказ свои прелести. Рядом с обезьянкиным помостом какой-то доктор-шарлатан навязывал удрученной и легковерной толпе свою панацею от всех болезней. Напиши такую картину Джерард Доу, она восхищала бы не только современников, но и потомков.
Сегодня праздник святого Иосифа, патрона всех пекарей – пекарей в самом примитивном смысле этого слова. Так как из-под черного кипящего масла все время рвется пламя, в их профессии есть что-то от геенны огненной; поэтому еще вчера вечером они изукрасили дома картинами: душа в огне чистилища, страшные суды тлели и пылали, куда ни глянь. Громадные сковороды стояли перед дверями на наспех сложенных плитах. Один подмастерье замешивал тесто, другой придавал ему форму, вытягивал, лепил из него кренделя и бросал их в кипящий жир. Возле сковороды стоял третий, с небольшим вертелом, он доставал готовые крендели и нанизывал на другой вертел, который держал четвертый, тут же предлагая их столпившимся вокруг. Два последних парня были в белокурых, курчавых париках, здесь это значило – ангелы. Еще несколько парней, дополняя группу, подносили вино работающим, пили сами, кричали, выхваляя товар, впрочем, ангелы и повара тоже кричали что есть мочи. Народ сбегался со всех сторон, – в этот вечер все тестяные изделия продаются со скидкой, а часть выручки даже отдается беднякам.
О таких и подобных сценах можно рассказывать без конца; каждый день какая-нибудь новая выдумка, одна сумасброднее другой, а разнообразие платья на гуляющих и прохожих, а толчея на улице Толедо!
Сколько же оригинальных развлечений, когда живешь в непосредственной близости с народом, а народ здесь до того простой и естественный, что ты и сам становишься таким же. Здесь, например, главная маска – Пульчинелла, Арлекин – тот, можно сказать, родом из Бергамо, так же как Ганс Вурст из Тироля. Местный Пульчинелла, спокойный, неторопливый, как будто бы ко всему равнодушный, довольно ленивый, но тем не менее юмористически настроенный слуга. В Неаполе такие слуги встречаются на каждом шагу. Сегодня меня не хуже Пульчинеллы насмешил наш лакей, а я всего-навсего послал его купить бумаги и перьев. Сначала он не понимал, чего я от него хочу, уразумев наконец, он заколебался, – прелесть, что за сцена получилась из его желанья услужить и его лукавства, такую с успехом можно было бы сыграть на театре.
Неаполь, вторник, 20 марта 1787 г.
Весть о только что начавшемся извержении лавы, которая изливается на Оттаяно, оставаясь невидимой в Неаполе, подстрекнула меня в третий раз подняться на Везувий. Не успел я выскочить из одноколки, как уже показались оба проводника, которые в прошлый раз сопровождали нас на гору. Я ни от одного не хотел отказываться и взял первого по привычке, второго из благодарности, потому что он внушал мне доверие, а обоих вместе – для большего удобства.
Когда мы достигли вершины, один остался стеречь плащи и съестные припасы, младший пошел со мною, и мы храбро зашагали прямо на густой дым, валивший из горы, пониже кратера. Затем мы стали неторопливо спускаться по склону и под ясным небом отчетливо увидали, как из густых клубов дыма изливается лава.
Можно тысячи раз слышать о каком-либо явлении, но своеобразие такового доходит до нас, только когда видишь его воочию. Лава текла узким потоком, футов десять, не шире, но как она текла по сравнительно мягкой и ровной поверхности, выглядело необычно. Сверху и по краям она застывала, отчего образовывался канал, который все время углублялся, лава застывала даже под огненным потоком, который равномерно отбрасывал направо и налево плывущие по нему шлаки, отчего непрерывно росла дамба, и огненный поток устремлялся по ней спокойно, как мельничный ручей. Мы шли вдоль уже изрядно выросшей дамбы, шлаки скатывались по ее стенкам нам под ноги. Через отверстия в канале мы снизу видели, как течет этот поток, а потом наблюдали его сверху.
На ярком солнце раскаленная лава выглядела тусклой, только дым, кстати, не очень густой, подымался в прозрачный воздух. Я очень хотел подойти к тому месту, где лава выбивается из горы; там, по уверениям моего проводника, она тотчас же образует над собою свод и крышу, на которой он не раз стоял. Чтобы увидеть еще и это, мы снова полезли вверх, стремясь сзади подойти к указанной точке. По счастью, сильный порыв ветра все вокруг нее очистил от дыма, – не совсем, конечно, ибо дым валил из тысяч трещин, – и мы стояли сейчас на некоем подобии навеса из взъерошенной, да так и застывшей лавы, далеко выдававшемся вперед, отчего истока лавы нам было не видно.
Мы попытались ступить еще шагов десять – пятнадцать, но почва становилась все более раскаленной; сплошной удушающий дым затемнял солнце. Ушедший было вперед проводник вскоре вернулся, подхватил меня, и мы выбрались из этого адского варева.
Потешив взор вновь открывшимися нам видами и смягчив глотку вином, мы немного покружили, желая посмотреть, какие еще сюрпризы может уготовить эта адская вершина, вздымающаяся над раем. К отдельным жерлам вулкана, которые с силой выбрасывали не дым, а раскаленный воздух, я вновь присматривался с сугубым вниманием. Стенки этих жерл сверху донизу словно бы обиты сталактитоподобным материалом, свисающим в виде сосков или сосулек. Благодаря неровности кратеров, многие из этих продуктов лёсовой пылевой дымки оказались более или менее доступными нам. С помощью своих палок и крюков, которые мы наскоро смастерили, нам удалось выудить некоторые из них.
Великолепный закат и божественный вечер усладили мне обратную дорогу; но при этом я явственно ощутил, какое странное действие оказывают на людей разительные контрасты. От ужасающего к прекрасному, от прекрасного к ужасающему – это взаимное уничтожение, которое в конце концов делает нас безразличными. Конечно, неаполитанцы были бы совсем другими, если бы не чувствовали себя затиснутыми между богом и сатаной.
Неаполь, 22 марта 1787 г.
Не подстегивай меня, немецкий склад ума, потребность в первую очередь учиться и действовать, а потом уже наслаждаться, я бы должен был подольше пробыть в этой школе веселой и легкой жизни и поприлежнее в ней учиться. Жизнью в Неаполе не нахвалишься, но и приспособиться к ней не так-то легко. Местоположение города, мягкость климата – лучше не сыщешь, но это, пожалуй, и все, что здесь предоставляют чужестранцу.
Конечно, тот, у кого много времени, много денег, да есть еще и житейская сноровка, может здесь жить в свое удовольствие. Так, лорд Гамильтон отлично обосновался в Неаполе и на закате своих дней наслаждается жизнью. Комнаты, которые он обставил в английском вкусе, – прелестны, а из угловой открывается вид, поистине неповторимый. Под окном море, напротив – Капри, справа Позилипо и справа же, чуть поближе, аллея Виллы Реале, слева старинное здание иезуитской коллегии, за ним – берег Сорренто вплоть до мыса Минервы. Такого места, пожалуй, во всей Европе не сыщешь, во всяком случае, в центре большого города.
Гамильтон – человек тонкого всеобъемлющего вкуса; познав все царствия подлунного мира, он, наконец, удовлетворился прекрасной женщиной – лучшим творением величайшего из художников.
И вот после всего мною виденного, после стократных наслаждений сирены вновь манят меня за море, и, если ветер будет благоприятный, я покину эти края одновременно с письмом, – оно пойдет на север, я двинусь на юг. Дух человеческий не обуздаешь, мне же просто необходимы дальние странствия. Отныне не столько упорное изучение, сколько быстрое проникновение в предмет должно стать моей целью. Так, чтобы мне только прикоснуться к кончику пальца, а уж всю руку я схвачу с помощью слуха и размышления.
Странным образом на днях один из моих друзей напомнил мне о «Вильгельме Мейстере», требуя от меня продолжения романа; под здешним небом это сделать невозможно, но не исключено, что божественный воздух, который я сейчас вдыхаю, скажется на последних книгах «Мейстера». Может быть, стебель моего бытия вытянется в длину, а цветы распустятся пышнее и прекраснее. И, право же, лучше мне не вернуться вовсе, чем вернуться не возродившимся.
Неаполь, пятница, 23 марта 1787 г.
Отношения мои с Книпом определились и укрепились на вполне практических основаниях. Мы вместе ездили в Пестум, там, как, впрочем, и по дороге туда и обратно, он непрестанно рисовал…
С сегодняшнего дня мы решили жить и путешествовать вместе, так, чтобы он не заботился ни о чем, кроме своего рисования. По очереди правя легкой двуколкой, с простодушным и славным малым на запятках, мы катили по прекраснейшей местности, в которую Книп вглядывался радостным взглядом художника. Наконец мы достигли горного ущелья, промчались через него по отлично накатанной дороге мимо суровых скал и очаровательных, поросших лесом гор. Тут уж Книп не мог удержаться и под Ла-Кава стал решительными, характерными штрихами набрасывать на бумаге склоны, подножия и общие очертания величественной горы, что прямо напротив нас четко вырисовывалась на фоне неба. Мы оба радовались этому рисунку, как свидетельству нашего единения.
Подобный же набросок он сделал вечером из окон в Салерно, тем самым избавив меня от необходимости описывать эту чарующую и плодородную местность. Кто отказался бы здесь учиться в прекрасные времена расцвета Салернской высшей школы? Ранним утром мы поехали по луговым, частенько топким дорогам туда, где виднелись две горы необычно красивой формы. Путь наш лежал через ручьи и реки, нам удавалось заглянуть в кроваво-красные дикие глаза буйволов, похожих на гиппопотамов.
Пейзаж становился все более пустынным и плоским, редкие строения свидетельствовали о скудости сельского хозяйства. Не понимая толком, проезжаем мы мимо отдельных скал или развалин, мы наконец уразумели, что замеченные нами еще издалека продолговатые четырехугольные массивы – руины храмов и памятников некогда пышного города. Книп, еще в дороге сделавший наброски двух известковых кряжей, живо отыскал точку, с которой можно было окинуть взглядом и зарисовать наиболее своеобразное этой отнюдь не живописной местности.
Между тем один из местных жителей, которого я об этом попросил, водил меня по различным зданиям, на первый взгляд вызывавшим только удивление. Я находился в совершенно чуждом мне мире. Ибо столетия, из суровых преобразуясь в изящные, также преобразуют и человека, более того – создают его по своему образу и подобию. В нынешнее время наше зрение, а следовательно, и наша внутренняя сущность привыкли и приспособились к гармонической и стройной архитектуре, так что эти обрубленные конусы тесно сдавленных колонн нам представляются докучными, даже устрашающими. Но я быстро взял себя в руки, вспомнил историю искусства, подумал о духе времени, коему соответствовало такое зодчество, представил себе строгий стиль тогдашнего ваяния и меньше чем через час со всем этим освоился, и даже воздал хвалу гению, позволившему мне воочию увидеть эти так хорошо сохранившиеся останки, о которых по изображениям никакого понятия себе составить нельзя, ибо в архитектоническом разрезе они выглядят более элегантными, в перспективном отдалении более неуклюжими, чем на самом деле. Только бродя вокруг них и среди них, ты сообщаешь им подлинную жизнь; а потом уже чувствуешь ее такой, какую задумал и вложил в них зодчий. В этом созерцании я провел весь день, покуда Книп, не теряя времени, делал точнейшие зарисовки. Как я радовался, что в этом отношении у меня больше не оставалось забот и что у меня будет что вспомнить при наличии стольких зарисовок. К сожалению, нам не представилось возможности здесь переночевать. Мы вернулись в Салерно и на следующее утро своевременно отбыли в Неаполь. Везувий мы увидели с тыльной стороны, высящимся среди плодороднейшей местности; на переднем плане вдоль дороги – гигантские пирамидальные тополя, – ласкающая взгляд картина, которую мы запечатлели, сделав недолгую остановку.
Но вот мы поднялись на небольшую высоту, и величественный вид открылся нам. Неаполь во всей своей красе, ряд домов, на мили растянувшийся по плоскому берегу залива, предгорья, перешейки, скалы, далее острова, за ними море, – прекраснейшее зрелище.
Омерзительное пение, – скорее крик восторга или радостный вой, – стоявшего на запятках паренька меня испугало, прервав течение моих мыслей. Я на него напустился; до сих пор этот добродушнейший малец не слышал от нас ни единого грубого слова.
На несколько мгновений он оцепенел, потом слегка похлопал меня по плечу, просунул между нами правую руку с поднятым указательным пальцем и сказал: «Signor, perdonate! questa è la mia patria!» В переводе это значит: «Простите, синьор! Ведь это моя родина!» Я вторично был повергнут в изумление. И, бедный северянин, почувствовал, как глаза мои увлажнились.
Неаполь, 26 марта 1787 г.
Завтра это письмо из Неаполя отправится к вам. В четверг, двадцать девятого, на корвете, который, по незнанию мореходной науки, в прошлом письме я возвел в ранг фрегата, я отплыву в Палермо. Сомнения, ехать мне туда или не ехать, внесли тревогу в мое пребыванье здесь; теперь, когда я окончательно решился, мне стало легче. Для моего мировоззрения это путешествие целительно, более того – необходимо. Сицилия – предвестник Азии и Африки, шутка ли оказаться в той удивительной точке, где сходятся столько радиусов мировой истории.
С Неаполем я обошелся на его манер; нисколько я там не усердствовал и все-таки многое видел, составил себе общее понятие о стране, ее жителях и условиях жизни в ней. По возвращении мне надо будет кое-что наверстать, увы, только кое-что, ибо еще до двадцать девятого июня я должен снова быть в Риме. Раз уж мне пришлось поступиться святой неделей, я хочу, по крайней мере, отпраздновать там день святого Петра. Поездка в Сицилию не должна очень уж далеко увести меня от моих первоначальных намерений.
Третьего дня у нас была страшная буря с громом, молнией и проливным дождем; сейчас небо опять ясно, дует чудесная трамонтана, если она не утихнет, мы быстро доберемся до Сицилии.
Вчера мой спутник и я осматривали судно, которое повезет нас, и маленькую каюту – наш временный приют. Что такое морское путешествие, я себе даже не представлял. Этот малый переезд, – возможно, мы только обогнем берег, – возбудит мое воображенье, расширит для меня мир. Капитан – человек молодой, жизнерадостный, парусное наше судно, построенное в Америке, выглядит стройным, изящным и надежным.
Неаполь, 29 марта 1787 г.
Несколько дней погода стояла какая-то неровная, сегодня, в день отплытия, ее иначе как прекрасной не назовешь. Благоприятный ветер, ясное небо, манящее вдаль. Еще раз желаю друзьям в Веймаре и в Готе всего самого лучшего! Да сопровождает меня ваша любовь, ибо она везде и всюду нужна мне. Нынешней ночью я видел себя во сне погруженным в обычные дела. Кажется, что свою ладью с фазанами я могу разгрузить только у вас. Лишь бы она была как следует нагружена.
СИЦИЛИЯВ море, четверг, 29 марта.
На сей раз, увы, дул не свежий и попутный северо-восточный ветер, как при последнем рейсе пакетбота, но тепловатый юго-западный, всего более мешавший нашему отплытию. Так мы узнали, до какой степени мореплаватель зависит от своенравия погоды и ветра. Утро мы в нетерпении провели то на берегу, то в кофейне. В полдень наконец взошли на корабль и при прекрасной погоде насладились великолепнейшим видом. Корвет стоял на якоре неподалеку от Молю. При ярком солнце в воздухе висела дымка, отчего затененные скалы Сорренто казались на диво синими. Освещенный солнцем, весь в движении, Неаполь отливал всеми цветами радуги. Корвет тронулся в путь лишь на закате, да и то очень медленно, встречный ветер относил нас к Позилипо, к самой его оконечности. Ночь напролет наше судно спокойно двигалось своим курсом. Построенное в Америке, оно было быстроходно, внутри имелись удобные каюты и отдельные койки. Общество на нем собралось благоприличное и веселое: оперные певцы и танцоры, подписавшие ангажемент в Палермо.
Пятница, 30 марта.
На рассвете мы находились между Искьей и Капри, приблизительно в миле от последнего. Солнце величественно всходило за горами Капри и Капо-Минерва. Книп усердно зарисовывал очертания берегов и острова в разных ракурсах; медленное продвижение корвета было ему на руку. Судно продолжало свой путь при слабом, почти неприметном ветре. Часов около четырех Везувий скрылся из наших глаз, когда Искья и Капо-Минерва все еще были видны. Но и они под вечер исчезли. Солнце ушло в море, провожаемое пурпурными облаками и сияющей пурпуром длинной-предлинной полосой. Книп и это явление запечатлел на бумаге. Земли тоже не стало видно, горизонт со всех сторон – сплошная водная окружность, а ночь светлая, и все залито лунным светом.
Но я недолго наслаждался этой красотой, так как вскоре почувствовал приступ морской болезни. Спустившись в свою каюту, я принял горизонтальное положение, не ел ничего, кроме белого хлеба, пил только красное вино и в общем чувствовал себя совсем недурно. Оторванный от внешнего мира, я позволил возобладать над собою внутреннему и, в предвиденье долгого плаванья, чтобы заняться чем-то дельным, задал себе достаточно серьезный урок. Из всех бумаг я захватил с собою в плаванье только два первых действия «Тассо», написанных ритмической прозой. Оба эти действия, в смысле плана и развития сюжета, сходны с нынешними, но они были созданы десять лет тому назад и хранили следы какой-то вялости, тумана, которые, впрочем, исчезли, когда я, согласно новым своим воззрениям, во главу угла поставил форму и ритм.
Суббота, 31 марта.
Неомраченное солнце вынырнуло из моря. В семь часов мы поравнялись с французским судном, которое на два дня раньше вышло из Неаполя, – настолько лучше был ход нашего, – и все-таки конца плаванью еще не было видно. Некоторым утешением явился для нас остров Устика, к сожалению, открывшийся нам слева, тогда, как и Капри, он должен был бы остаться справа. Около полудня задул встречный ветер, и мы уже не двигались с места. Море волновалось сильней и сильней, на борту почти все лежали в лежку.
Я тоже не изменил своего ставшего уже привычным положения, вся пьеса была мною продумана вдоль и поперек, от начала и до конца. Часы текли, и я бы даже не замечал их, если бы лукавец Книп, на чей аппетит нимало не влияло бурное море, время от времени принося мне хлеб и вино, злорадно не сообщал, как вкусно они ели и как веселый и бывалый молодой капитан сожалел, что я не участвую в трапезе. Переход от шуток и веселья к дурному самочувствию, а затем и к болезни и то, как это выражалось у того или иного из спутников, тоже давали ему богатый материал для озорных рассказов.
В четыре часа пополудни капитан приказал изменить курс. Подняты были большие паруса, и мы прямиком пошли на остров Устику, за которым с великой радостью увидали наконец горы Сицилии. Ветер переменился, теперь мы быстро приближались к цели. Прошли еще мимо нескольких островов. Закат был хмурый, солнце едва светило сквозь туман. Весь вечер дул попутный ветер. Ближе к полуночи море снова стало беспокойным.
Воскресенье, 1 апреля.
В три часа утра разыгрался шторм. Во сне и в полудремоте я продолжал разрабатывать план своей драмы, а на палубе шла суета. Надо было спускать паруса, судно, казалось, парило на высоких волнах. Перед рассветом буря улеглась, небо прояснилось. Теперь остров Устика находился слева от нас. Нам показали огромную черепаху, плывшую вдалеке, в подзорную трубу мы различили эту живую точку. Около полудня стал ясно виден берег Сицилии с его предгорьями и бухтами, но нас относило ветром, и мы лавировали из стороны в сторону. После полудня мы все-таки приблизились к Сицилии и теперь отчетливо видели западное побережье от Лилибейских предгорий до Капо-Галло при ясном небе и ярко светившем солнце.
Стая дельфинов сопровождала корабль, держась по обе стороны носовой части и обгоняя его. Весело было смотреть, как они то плыли под незамутненными прозрачными волнами, то, выпрыгнув из них, скачками неслись над водой, причем их плавники и бока отливали золотом и зеленью.
Так как попутного ветра все не было, капитану пришлось взять прямой курс на бухту, непосредственно за Капо-Галло. Книп не упустил удобного случая зарисовать, и довольно детально, разнообразные виды. На закате капитан снова направил судно в открытое море и взял курс на северо-восток, чтобы достигнуть широты Палермо. Время от времени я отваживался выходить на палубу, продолжая обдумывать свой замысел, хотя в общем-то уже овладел материалом. Небо, затянутое облаками, и яркий свет луны, отражающийся в море, были незабываемо прекрасны. Художники стараются убедить нас, – вероятно, чтобы усилить впечатление, – будто бы отражение небесных светил в воде всего полнее воздействует на зрителя вблизи, но здесь оно куда ярче было на горизонте, тогда как вблизи от судна кончалось в виде острой пирамиды и утопало в мерцающих волнах. За ночь капитан произвел еще ряд маневров.
Палермо, 3 апреля 1787 г.
…В четверг, двадцать девятого марта, на вечерней заре мы выехали из Неаполя и лишь через четверо суток в три часа дня вошли в гавань Палермо. Прилагаемый маленький дневник в общих чертах поведает вам о наших судьбах. Никогда ни в одно путешествие я не пускался со столь легким сердцем, как в это, и никогда у меня не было так много времени, как в этом удлиненном непрестанным встречным ветром плаванье, хотя первые дни, из-за сильных приступов морской болезни, я вынужден был лежать в тесной своей каютке. Теперь я спокойно переношусь мыслями к вам: ибо если что и имело для меня решающее значение, то именно это путешествие.
Человек, которого не окружало безбрежное море, не имеет понятия ни о мире, ни о своем отношении к нему. Мне как пейзажисту великая и простейшая линия горизонта внушила совсем новые мысли. Во время плаванья мы испытали много интересного и, в малом, разделили участь мореплавателей. Впрочем, устойчивость и удобство судна были выше всяких похвал. Капитан – бравый и очень приятный. Общество – целая театральная труппа – люди воспитанные, терпимые и обаятельные. Художник, который меня сопровождает, – жизнерадостный, преданный, добродушный человек, рисующий с превеликой тщательностью; он набросал контуры всех островов и побережий, по мере того как они попадали в поле нашего зрения; вы, конечно же, порадуетесь, если я привезу все это с собой. К тому же, чтобы сократить долгие часы пребыванья на корабле, он записал для меня технику работы с водными красками (акварелью), в Италии доведенную до очень высокого уровня, вернее, технику их смешения, для того, чтобы получить тот или иной оттенок, – без знания секрета над этим мне пришлось бы биться до конца своих дней. В Риме я, правда, кое-что слышал об акварели, но бессвязно. Художники усвоили это искусство в Италии, в краях, где я сейчас нахожусь.
Словами не опишешь прозрачную дымку, парившую над побережьем, когда мы в прекрасный полуденный час подходили к Палермо. Чистота очертаний, мягкость целого, переходы тонов, гармония неба, моря и земли. Тот, кто это видел, всю жизнь не позабудет. Только сейчас я понял Клода Лоррена и надеюсь, что когда-нибудь на севере мне удастся вызвать в душе тени сей счастливой обители. Лишь все мелкое смылось с нее, как смылась с моих представлений о живописи мелкость соломенных крыш. Посмотрим, на что способна сия царица островов!
Как она встретила нас, словами не скажешь; зеленеющей свежестью тутовых деревьев, вечнозелеными олеандрами, живыми изгородями лимонов. Обширные клумбы лютиков и анемонов пестрели в городском саду. Воздух мягкий, теплый, благоуханный, ветер несет легкую прохладу. А тут еще полная луна вышла из-за мыса и осветила море. Такое наслаждение, после того как нас четыре дня и четыре ночи носило по волнам! Простите за то, что я пишу эти каракули, макая тупое перо в раковину с тушью, из которой мой спутник черпает свои наброски. До вас они дойдут как слабый шепот, а между тем для всех, кто любит меня, я готовлю другой памятник моим счастливым часам. Что это будет – не скажу, когда он до вас дойдет, тоже не могу сказать.
Палермо, четверг, 5 апреля 1787 г.
Мы отправились бродить по городу. Архитектура здесь похожа на неаполитанскую, но общественные строения, к примеру, фонтаны, еще более далеки от хорошего вкуса. Здесь дух искусства не упорядочивает работу, как в Риме, только случайности определяют облик и самое существование творений зодчего. Так фонтан, которым восхищаются все жители острова, вряд ли бы возник, если бы в Сицилии не добывали красивого, пестрого мрамора и скульптор, понаторевший в изображении животного мира, не был бы тогда в фаворе. Нелегкое дело описать этот фонтан. На довольно тесной площади воздвигнуто круглое сооружение, вышиной едва ли не с целый этаж, цоколь, стены и выступы – из нестрого мрамора; в стенах часто-часто пробиты ниши, из которых на длинных шеях высовываются вперемежку беломраморные головы всевозможных животных: лошади, льва, верблюда и слона; трудно догадаться, что за кру́гом этого зверинца находится фонтан, к которому с четырех сторон, через нарочно оставленные отверстия, ведут мраморные ступени, дабы жители Палермо могли брать воду, в изобилии им источаемую.
Нечто похожее происходит и с церквами, которые роскошью превосходят даже великолепные храмы иезуитов, но не преднамеренно и не в силу какого-то принципа, а по чистой случайности, просто потому, что под рукой оказался ремесленник, искусный резчик фигур или гирлянд, позолотчик, лакировщик или мраморщик, который по мере своих способностей и желанья украшал тот или иной уголок церкви – без всякого вкуса и, уж конечно, без какого бы то ни было руководства.
Надо сказать, что такие ремесленники часто выказывали способности к подражанию природе; так, например, головы зверей сработаны очень неплохо. А это всегда вызывает восторг толпы, ибо радость, которую ей дарит искусство, состоит лишь в сравнении копии с оригиналом.
Под вечер у меня завязалось забавное знакомство. Идя по длинной улице, я зашел в одну лавчонку купить кое-какие мелочи. Когда, стоя у прилавка, я разглядывал товар, порыв ветра, довольно умеренный, пронесся вдоль улицы, взметая пыль, засыпавшую все окна и лавки.
«Скажите мне, бога ради, – воскликнул я, – почему ваш город так нечист и почему этой беде нельзя помочь? Ваша улица ни длиной, ни красотой не уступает римскому Корсо. Тротуары на ней из каменных плит, и каждый владелец лавки или мастерской, стараясь содержать свой участок в чистоте, без устали их метет, при этом сметая весь мусор на мостовую, а она с каждым днем становится грязнее и даже при легком ветерке возвращает вам сор, которым вы изукрасили вашу главную улицу. В Неаполе усердные ослики ежедневно свозят мусор в сады и поля, неужто же у вас нельзя придумать чего-либо в этом роде?»
«У нас как заведено, так и остается, – отвечал хозяин, – все, что мы выбрасываем из дому, гниет в одной куче у дверей. Вот поглядите: тут и солома и тростник, кухонные отбросы, словом, любой мусор, все это, ссохшись, возвращается к нам в виде пыли, с которой мы боремся с утра до ночи. Но дело в том, что наши красивые, изящные и прилежные метелки притупляются и в конце концов только увеличивают груды мусора перед домами».
В этой шутке была большая доля правды. Метелочки у них прелестные, сделанные из карликовой пальмы; они, несколько по-другому связанные, могли бы служить веерами, но, увы, очень ломкие, и огрызки их тысячами валяются на улице. На мой повторный вопрос, неужто же нельзя какими-нибудь мерами обороть это бедствие, он отвечал, что в народе поговаривают, будто лица, коим надлежит ведать чистотою города, из-за их высокого положения невозможно принудить расходовать по назначению деньги, положенные на благоустройство. К этому присоединяется еще одно странное обстоятельство: страх, что, когда будут убраны все кучи мусора, обнажится плачевное состояние скрытой под ними мостовой и ответ за нечестное использование денег придется держать уже другим членам магистрата. Впрочем, добавил он с препотешным выражением, это все толки людей неблагонамеренных, он же сам скорее придерживается мнения тех, кто утверждает, будто знать стремится сохранить эту эластичную подстилку для своих карет, чтобы с приятностью совершать традиционные вечерние прогулки. Войдя во вкус, он стал вышучивать еще многие полицейские злоупотребления, утешая меня сознанием, что у людей еще хватает юмора смеяться над тем, что неотвратимо.








