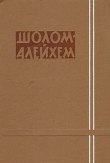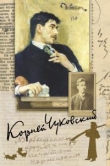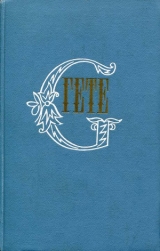
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Хозяйка дома– жена Филанджиери, урожд. графиня Фремдель, ранее воспитательница детей королевской четы в Неаполе.
Бойкая маленькая особа– сестра Филанджиери, вышедшая замуж за богатого шестидесятилетнего князя Филиппо ди Садриано; быть может, прообраз Люцианы, дочери баронессы Шарлотты («Избирательное сродство», см. т. 6 наст. Собр. соч.).
Виландова волшебная сказка– «Зимняя сказка» по «Тысяче и одной ночи».
Шлоссер Георг(1739–1799) – юрист и немецкий литератор; был женат на рано умершей сестре Гете – Корнелии.
В воскресенье мы были в Помпеях. – Ко времени итальянского путешествия Гете раскопки Помпеи и Геркуланума, начатые в 1555 г., были в значительной степени осуществлены.
Анжелика– то есть Анжелика Кауфман (1741–1806), прославленная художница-портретистка, с успехом работавшая и на поприще исторической живописи; представительница так называемого «сентиментального классицизма». Рисунок углем на тему «Ифигении» принадлежит к лучшим ее работам: переход Ореста от безумия («И вы сюда сошли, к почившим?») к его исцелению («Дай в первый раз в твоих объятьях чистых // Незамутненной радости отведать!») передан художницей с замечательным тактом.
ХаккертФилипп (1737–1807) – художник-пейзажист; в 1768–1786 гг. жил в Риме, с 1786 по 1799 г. – в Неаполе, в качестве придворного художника короля Фердинанда IV и, позднее, директора Академии художеств. Давал уроки рисования и живописи Гете. Что могло увлечь Гете в сухом безвдохновенном искусстве Хаккерта, не совсем понятно, – видимо, умение точно передавать очертания предметов, как не раз отмечалось его благодарным учеником. Гете выпустил в 1811 г. переданные ему по завещанию художника автобиографические записки в виде жизнеописания его друга и учителя. Успеха это сочинение не имело.
Лорд ГамильтонВильям (1730–1803) – с 1704 г. английский посланник при дворе короля Обеих Сицилий Фердинанда IV. Его возлюбленная – Эмма Харт (1761–1815), собственно – Лайон, из простонародья; с 1791 г. – леди Гамильтон, с 1798 г. – возлюбленная английского адмирала лорда Нельсона (1758–1805), погибшего (21 октября 1805 г.) в морском бою при Трафальгаре, в котором он победил соединенный франко-испанский флот. Она умерла в Кале, обедневшая и всеми отвергнутая.
«Вильгельм Мейстер»– тогда фрагмент романа «Театральное призвание Вильгельма Мейстера», вышедшего в 1795–1796 гг. в переработанном и законченном виде под заглавием «Ученические годы Вильгельма Мейстера».
КнипХристиан (1748–1825) – художник и рисовальщик. Его рисунки и акварели, сделанные на море и в Сицилии, хранятся в Веймарском доме Гете. С Книпом Гете ездил и в Пестум с его тремя храмами: Цереры, Нептуна и так называемой Базиликой. Запись мемуариста прекрасно воссоздает его разочарование при встрече с впервые увиденным им подлинным греческим зодчеством, таким приземистым рядом с триумфальными взлетами Палладио; и тут же признание своей предвзятости, обусловленной привычкой и духом времени, а не стабильными нормативными законами искусства, – замечательный поворот к историческому мышлению!
Святая Розалия– племянница короля норманнов Вильгельма II. Отрывок «Святилище Розалии» был напечатан в «Немецком Меркурии» Виланда в 1788 г.
Прекрасная женщина– скульптура XIII в. Григория Тедески, подарок неаполитанского короля Карла III.
Остров блаженных феакийцев. – Одиссей, возвращаясь на родину, терпит крушение у острова феакийцев. Сад царя Алкиноя описан в песни VII «Одиссеи». Любовь дочери Алкиноя Навзикаи к пришельцу и ее гибель – тема гетевской драмы «Навзикая», задуманной в Сицилии, но не осуществленной.
Два… скорохода вице-короля(князя Караманика). – Упоминаемый здесь мальтиец – граф Стателла.
Коадъютор фон Дальберг. —При Наполеоне I – курфюрст Майнцский (с 1802 г.) и глава (князь-примас) основанного Наполеоном Рейнского союза западных немецких государств, протектором которого объявил себя французский император. Дальберг, будучи интендантом Мангеймского театра, осуществил постановку Шиллеровых «Разбойников», «Фиеско» и «Коварства и любви».
ДахеродеКарл Фридрих фон – видный чиновник в Эрфурте, его дочь Каролина с 1791 г. – жена Вильгельма фон Гумбольдта.
Джузеппе Бальзамо(он же «граф Калиостро»; 1743–1795) – знаменитый авантюрист, побывал во многих столицах Европы, в том числе и в Петербурге, но был выслан Екатериной II за пределы империи; осужден папским судом к пожизненному заключению. Сообщение о посещении близких родственников Калиостро читается как вставная новелла.
Первым моим намерением было… возместить… четырнадцать унций золотом (не возвращенные Калиостро его сестре), но от этой мысли пришлось отказаться. – Гете выслал ей эту сумму по приезде в Веймар.
Желательно… нанести визит губернатору. – Губернатором Мессины был с 1783 г. выживший из ума престарелый фельдмаршал Дон Микеле Одеа.
Сиканы и сикуны– древние обитатели Сицилии.
Ah, il Barlamé… и т. д. – «Ах, Варлаам! благословен Варлаам!» – Пассажиры сравнивают Гете со святым Варлаамом, благочестивым героем средневекового романа «Варлаам и Иосааф», ставшего в Италии общеизвестной народной книгой.
Девиз Филиппо Нери – Sperneremundum…и т. д. – «Презирай мир, презирай самого себя, презирай презрение!»
Граф фон Фриз– знакомый Гете по Карлсбаду.
Встретил здесь… премилую даму– предположительно графиню Лантиери, уже упоминавшуюся.
Девушки из Энгельхаузапрочитали герцогу Карлу-Августу стихотворение Гете от имени богемских поселянок.
Герцог и герцогиня фон Урсель– представители бельгийской аристократии.
Старая Ателла– место, где еще во времена древних римлян народ тешился, глядя на площадных актеров и просто гуляющих веселых парней.
Заключительное описание города со слов «У мясников вывешены большие куски говядины»и до слов «у меня не начали слипаться глаза»– пересказ письма Тишбейна.
Маркиз Луччезини(1751–1825) – прусский дипломат, посланный королем Фридрихом-Вильгельмом II в Рим для переговоров с папой и по пути заехавший в Веймар, повстречается с Гете (и с читателем) в Трире 1792 г. в «Кампании во Франции». Его жена – немка, урожд. фон Таррах.
Кавалер Венути– сын маркиза Доменико Венути (1700–1755), выдающегося физика, химика и археолога, обнаружившего фарфоровую глину в почве Капрароле, директора фарфорового завода, возглавлявшего раскопки в Геркулануме. Кавалер Венути показывал Гете редкостную коллекцию своего отца.
Герцогиня Джованни(урожд. баронесса фон Мудерсбах) – приближенная королевы Марии-Каролины.
ГарвеХристиан (1742–1798) – немецкий философ-просветитель.
Ковры по картонам Рафаэля– выдающаяся серия произведений поздней поры художника. Рафаэль создал эти картоны в качестве образца ковров, предназначенных для украшения «нижних стен» Сикстинской капеллы. Над этими картонами художник работал в 1515–1516 гг. В 1519 по ним были вытканы ковры в нескольких экземплярах в Брюссельской мануфактуре. С 1559 по 1797 г. они употреблялись при выносе плащаницы на Страстной неделе. Первые экземпляры ковров ныне висят в Ватикане по возвращении их в 1815 г. из Парижа, куда они были вывезены по повелению Наполеона.
Геркулес из дома Фарнези– одна из лучших античных статуй неизвестного автора, ныне хранится в Национальном музее в Неаполе, куда была привезена из Рима вскоре после того, как Гете покинул Италию.
Фарнезский бык– римская копия колоссального греческого скульптурного ансамбля работы Аполлония и Тавриска (середина II в. до н. э.).
Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою. – Намек на Иакова, охромевшего в единоборстве с богом (Первая Книга Бытия, гл. 32, стих 26). Гете расширяет текст библейской цитаты, сводившейся к словам: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
«Идеи». – Имеется в виду сочинение Гердера «Идеи к философии истории человечества».
Октябрь 1787 г. Гете прожил в загородном доме мистера Джексона, где увлекся юной миланкой. Повесть об этой главе своей биографии поэт излагает не слитно, а чередуя ее с другими эпизодами, серьезными и смешными, до самых последних страниц «Итальянского путешествия».
Надворный советник Рейфенштейн(1719–1793) – просвещенный торговец художественными предметами и древностями и в этом смысле коллега Джексона (чин советника Рейфенштейн заработал на русской службе), друг Винкельмана; с 1763 г. проживал в Риме.
Миланка. – Гете не называет ее имени, но оно нам известно из письма к нему Анжелики Кауфман от 1 ноября 1788 г. Это Мадалена Риччи (1765–1825); она вышла замуж в 1788 г. за сына известного гравера Вольнато, вскоре овдовела и вступила во втором брак; стала матерью семи сыновей и одной дочери.
Младший ДальбергГуго фон – брат будущего князя-примаса, тогда наместника герцога Карла-Августа в Эрфурте.
КайзерФилипп Кристиан (1755–1823) – композитор, ничего значительного не сочинивший; проживал в Цюрихе, уроженец Франкфурта-на-Майне. Гете ему симпатизировал и не раз с ним сотрудничал. Кайзер написал музыку на либретто Гете «Шутка, хитрость и месть», позднее – музыку к «Эгмонту», безуспешно пытался сочинить музыку к задуманной Гете комической онере «Мистифицированные», так и не осуществленной.
ШубартКристиан Фридрих Даниэль (1755–1823) – выдающийся поэт, музыкант (композитор, органист и дирижер) и мятежный свободолюбивый публицист. Десять лет находился в заключении в замке Гогенасперг по повелению герцога Карла-Евгения Вюртембергского.
Марк Антон– Марк Антонио Раймонди (1480–1534?), знаменитый гравер на меди, благодаря которому произведения Рафаэля стали широко известны в культурном мире.
ПиранезиДжованни Баттиста (1720–1778) – гравер на меди, сумевший как никто, несмотря на критическое отношение к нему Гете, воссоздать неповторимое единство древнего и нового Рима.
Герман ван Шванефельд(1600–1655) – голландский гравер, работавший в Риме с 1629 по 1638 г. Гете приобрел тринадцать его гравюр с видами Рима…
Павел V Боргезе– папа римский с 1605 по 1621 г., восстановитель древнего акведука.
Римский карнавал. – В 1788 г. впервые напечатан в журнале Виланда «Немецкий Меркурий», с 1829 г. включен в состав «Итальянского путешествия»; в 1789 г. вышел отдельным изданием с колорированными гравюрами друга Гете художника Георга Мельхиора Краузе по рисункам Георга Шюца.
Праздник… который народ дает сам себе. – Общее определение, данное Гете римскому карнавалу.
Герцог Албанский– на самом деле «граф Албанский», под именем которого проживал в Риме претендент на великобританский престол Карл-Эдуард Стюарт (1720–1788), внук низвергнутого короля Иакова II, предпринявший в 1745–1746 гг. попытку отвоевать утраченную корону Соединенного королевства (этому историческому эпизоду посвятил Вальтер Скотт свой знаменитый роман «Веверлей»).
«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»– «Места! Места! Господа! Места»!
Квакеры– секта, возникшая в Англии и распространившаяся в других протестантских, а позднее и в католических странах Европы и в США.
«О quanto è bella!»– «О fratello mio, che brutta puttana sei!» – «О, как она прекрасна!..» – «Братец, какая ты гнусная девка!»
Губернаторили наместник – одновременно главнокомандующий папской гвардии и глава полиции, которому надлежало следить за порядком во время карнавала.
Корды– крепкие веревки, которыми связывали нарушителей порядка, вздергивали вверх и тут же отпускали.
«Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni!»– «Места! Передние места! Лучшие места, господа!»
Фестины– балы-маскарады.
«Sia ammazzato il Signore Abbate che fa l’amor! Sia ammazzato il Signore Filippo! Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!»– «Смерть господину аббату, предающемуся любострастию! Смерть господину Филиппо! Смерть прелестной принцессе! Смерть госпоже Анжелике – лучшей художнице века!»
«Sia ammazzato il Signore Padre!»– «Смерть господину папаше!»
«Купидо, шалый…»и т. д. – См т. 1 наст. Собр. соч.
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА
У Гете давным-давно вошло в привычку работать одновременно, деля свое время, над несколькими произведениями, сегодня щедро одаряя таковым одно из них и обделяя другое, а завтра – наоборот или тратя свое время на третье, пятое, седьмое. В последнее десятилетие жизни Гете, когда он вменил себе в непреложный долг закончить «главное дело» – «Фауста» и, кроме того, завершить «Поэзию и правду», «Вильгельма Мейстера» (его «Годы странствий»), а там, на беду, взбалмошный порыв заставлял его писать стихи, такие как «Завет» или чудесные – «Сверху сумерки нисходят, //Близость стала далека, // В небе первая восходит // Золотистая звезда…» (прекрасный перевод поэта Михаила Кузмина), или вдруг откликнуться рецензией на заинтересовавшую его книгу, а не то посидеть вместе с женевцем Сорэ над переводом на французский своего естественнонаучного труда. Это быстрое перенесение поэтического огня с одного объекта на другой, на сторонний взгляд, казалось произвольным, даже капризным.
Но Гете знал, когда, в какой день и час, он настроен работать как раз над этим, а не над другим своим произведением, всегда стараясь подарить каждому из них лучшие (для данного произведения) минуты и часы.
Так было и в 1820 году, совпавшем с началом работы над «Кампанией во Франции 1792 года». Собственно, Гете думал в названном году потрудиться над четвертой частью «Поэзии и правды», но воскресить далекие дни взаимной, еще не замутненной любви Гете и Лили Шёнеман, мемуаристу что-то все не удавалось. Причина такой литературной неудачи вскоре сама собой разъяснилась: с начала октября предыдущего, 1819 года, воображением Гете завладел материал, относящийся к «ужасным 1792–1793 годам», и требовал от писателя неотложной реализации. Два года Гете вплотную работал над «Кампанией во Франции…»; в 1822 году книга вышла в Лейпциге и в Вене одновременно. Непосредственным поводом, побудившим Гете обратиться к событиям 1792 года, были обнаружившиеся в 1819 году революционные настроения немецкого студенчества: убийство Зандом писателя Коцебу, осведомлявшего императора Александра I о назревавшей революции в Германии, учреждении тайного общества в Гисене, а также, по слухам, и в Берлине.
Что касается материалов, положенных в основу «Кампании…», то личных записей Гете, относящихся к событиям тех лет, оказалось до крайности мало: заметки на тыльной стороне топографических карт, с указанием, где в данный день находился подвижной лагерь союзной армии (пруссаков, австрийцев и французских эмигрантов, а также присоединившихся к ним гессенцев). Кстати сказать, эти заметки явно уступали аналогичным записям многолетнего слуги Гете, Пауля Геце, а также камерьера Вагнера. Они и по сей день хранятся в рабочей комнате поэта в веймарском доме на Фрауэнплане. Сохранилось и несколько писем Гете, написанных из лагеря союзной армии. Пользовался Гете и некоторыми печатными и рукописными мемуарами своих былых конбатантов, а также историческими и военно-историческими сочинениями, как немецкими, так и французскими, успевшими охватить своим ученым трудом давно померкшую к выходу Гетевой книги первую коалицию против «неофранцузов». Эту кампанию давно затмили блестящие победы генерала Бонапарта, первого консула и императора Наполеона, а также Кутузова, Блюхера и Веллингтона (из которых только первый, полководец и дипломат, выдерживает сравнение с Наполеоном).
Книга, посвященная кампании 1792 года, собственно, не могла рассчитывать на читательский успех. Немцы оказались побежденными, но не из-за проигранных сражении. Хотя бы уже потому, что таковых в этой войне и не было. Зато наличествовали такие пороки командования союзной армии, как из рук вон плохая постановка санитарно-медицинской службы, дурное снабжение солдат вещевым и приварочным довольствием, даже хлебом, отсутствие сколько-либо заслуживающей доверия информации о противнике, его боевой готовности, о военных резервах, какими располагала новая Франция, и о морально-политическом сознании ее народа. Прибавим к приведенному перечню пороков еще и устарелость тактики и стратегии, окостенелый культ личности Фридриха II, без наличия человека, способного углубить и обновить его, что и говорить, выдающееся военное искусство. Впрочем, все его незаурядное искусство не избавило бы Фридриха от полного разгрома, если б не спасительная смерть императрицы Елизаветы Петровны и восшествие на российский престол недоумка Петра III, венценосного резидента и бесталанного обожателя «его прусского величества».
Но, пожалуй, самым слабым местом в деятельности верховного начальства объединенных союзных армий были ее выступления на поприще дипломатии. Пресловутый манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего союзников, полный угроз и презрения к армии, парламенту и клубам «неофранков», мощно содействовал укоренению антимонархизма во Франции. К тому же результату привели и прочие дипломатические эксперименты власть имущих, в частности, такой политический и вместе финансово-экономический трюк: в манифесте и декларациях верховного командования утверждалось, что союзные державы вовсе не воюют против Франции, а пришли спасать их короля Людовика XVI от всяких супостатов. Нет, эти «защитники короля» отнюдь не занимаются «реквизициями», а разве что принудительно «брали взаймы» у населения «все потребное для ведения войны»; все эти займы будут-де сполна оплачены тем же королем Людовиком.
В «Кампании во Франции…», в отрывке, помеченном 28 августа 1792 года, Гете с глубоким сочувствием простому народу описывает сцену такого «взятия взаймы» всего поголовья овец у местных пастухов – в обмен на вексель, выписанный на имя короля. Отрывок этот кончается такими словами: «Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною столь неизбывного горя». Но в этом же отрывке имеются и другие слова, менее литературные, более трезвые. «После манифеста герцога Брауншвейгского, – так пишет Гете, – быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия».
Сколько раз приходилось читать в статьях и книгах, посвященных жизни или творчеству (а то и жизни и творчеству)Гете, что «Кампания во Франция 1792 года» не обладает тем поэтическим, чисто художественным обаянием, каким так щедро наделены «Поэзия и правда» или «Итальянское путешествие». Эта мысль так часто повторялась, что уже стала как бы общим достоянием гетеведения. Конечно, тема «Поэзии и правды», тема «становления поэта», затронутая уже во второй главе («Новый Парис») и ставшая центральной в третьей части знаменитой автобиографии, поэтичнее темы первой части «Кампании во Франции 1792 года» – темы неудачной экспедиции союзных армий, задавшихся целью восстановить дворянскую монархию Бурбонов. Не буду сравнивать, под тем же углом зрения, «Кампанию во Франции…» и «Итальянское путешествие». Что и говорить, поэтическим обаянием и оно превосходит военные мемуары Гете.
Другой вопрос: вправе ли мы судить о художественном достоинстве произведения по тому, какой «материал» положен в его основу? Про Гете никак нельзя сказать, что он принижал значение «материала», давшего повод к возникновению художественного произведения, то есть впечатлениям и мыслям, им почерпнутым из жизни. Но значительный материал – еще не искусство. Искусство – это «художественное отображение жизни», оно предполагает полное соответствие изобразительных средств изображаемому предмету. В этом смысле «Кампания во Франции 1792 года» одно из замечательнейших произведений Гете.
Начнем с формы произведения. Оно должно было быть написано в виде дневника, хотя Гете не вел дневниковых записей в тот год. Но только в этой форме ему могло удаться достичь искомую правдивость своих свидетельских показаний. Это, конечно, не «всамделишный» дневник с его натуралистическими случайностями. Он тщательно прокомпонован рукою большого художника, как лучшие главы «Поэзии и правды»; избегнута монотонность однородных «дневниковых отрывков»; напротив, отдельные эпизоды контрастно противопоставлены друг другу при искусном соблюдении непринужденности переходов от темы к теме.
Напомним, кампания 1792 года, окончившаяся поражением союзников, не знала сражений, тем более генерального, решающего. Ждать батальной живописи от свидетеля такой войны не приходится. Ничего похожего на Аустерлицкое сражение или Бородинский бой (в изображении Л. Толстого) здесь не встретишь. Главнокомандующий союзных армий герцог Брауншвейгский был полководцем не наполеоновской (или суворовской), а фридриховской школы, и, подобно Фридриху II, он более полагался на искусные маневры, на свое умение поставить противника в положение, когда численное превосходство, прикопленное к развязке этой сугубо маневренной войны, предрешало поражение противника. Герцог точно придерживался фридриховской тактики, но после знаменитой артиллерийской дуэли при Вальми численность союзной армии, не давшей ни единого сколько-нибудь значительного сражения, так сократилась из-за голода и холода, что о последней, решающей схватке нечего было и думать.
Герцог Брауншвейгский был вовсе не из числа самых ограниченных или неспособных генералов. И он предупреждал на военном совете до начала кампании, что силы союзников слишком малы для удержания в своих руках мятежной Франции.
Но эмигранты, с их легкомысленным оптимизмом, с ним не соглашались. Герцога уговаривали долго, но это привело только к тому, что поход был начат под проливным дождем августа и сентября месяцев. То же получилось и с пресловутым манифестом. Герцог долго отказывался его подписать, но король Прусский, и его «резидент» барон Штейн Старший, и несколько австрийских и прусских дипломатов на этом настояли.
Гете только намекает на эти споры в верховном командовании в замечательной сцене, где армия сподобилась лицезреть обоих верховных: прусского короля и герцога Брауншвейгского, спускавшихся в разных местах с холмов вниз, в равнину, «подобно ядру кометы, с предлинным хвостом его свиты». «Кто же из этих двух, по сути, главнейший, – спрашивали себя невольно. – Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья». Единодушие проявили король и главнокомандующий только после канонады под Вальми, где и тот и другой одинаково настаивали на немедленном перемирии и выходе из пределов Франции.
Гете обладал редким даром несколькими штрихами, «быстрой прозой», как выражался Пушкин, воссоздавать эпизодических действующих лиц этой жалкой эпопеи: благодушных рядовых солдат, напавших на замаскированный винный погреб в опустевшем крестьянском доме, или молодого красивого офицера, получившего приказание от прусского принца Луи-Фердинанда двигаться вперед, тогда как он получил задание не тревожить французов. Гете, по просьбе офицера, объясняет принцу несовместимость этих двух задач. А как замечательна сцена – вполне неожиданная встреча автора с бывшим королевским посланником в Венеции маркизом де Бомбелем, трагической фигурой «старого режима» рядом с трагикомическою другого маркиза (не названного по имени), чуть не свихнувшегося, увидавши двух принцев королевской крови (будущих королей Людовика XVIII и Карла X) дрожащими от холода и насквозь промокшими, так как они, следуя этикету французского двора, не посмели одеться потеплее, раз прусский король, выступая из Глорье, не надел плаща, невзирая на дождь и ветер.
Я бы назвал эту встречу Гете с маркизом вставной новеллой, если б не малый ее размер. Даже при восстановлении полного ее текста она уместится на одной странице.
Вторая часть «Кампании…» переносит нас в поместье «философа чувств» Фридриха Якоби «Пемпельфорст», в его либеральный салон, где атей Дидро, утонченный платоник Генстергюс, правоверная католичка княгиня Голицына, последовательный реалист Гете (впрочем, он своих карт до конца не открывал) и многие другие со своими мировоззрениями выслушивались с одинаковым веротерпимым уважением. Впрочем, этот суперлиберальный культурный центр распался в 1794 году.
Надо сказать, все автобиографические сочинения Гете ставят себе одну цель: изображение человека в его соотношении со сверстным ему историческим временем. Но если в «Поэзии и правде», в «Итальянском путешествии» историческое время чаще ощущается только как общая бытовая и духовная атмосфера, в которой живут, действуют и творят герои и прочие персонажи биографии, то в «Кампании 1792 года» Гете и впрямь не «проходит мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни». Две политические формации поставлены друг против друга, две армии решают судьбы истории: армия полуфеодальной Европы и армия революционной Франции. Это отличие «Кампании» от прежних автобиографических произведений великого писателя было сразу же отмечено читающей Германией. «Изо всех эпизодов истории вашей жизни этот отрывок наиболее увлекательный и пробуждающий всеобщий интерес, – писал ему Карл Фридрих фон Рейнгард. – В нем историческое время не пристегнуто к личным событиям, а вмуровано в таковые. Часть содержит целое». Названный корреспондент Гете в своем роде и сам замечательная личность: сын скромного немецкого бюргера, он бежал (в 1791 г.), как многие немецкие энтузиасты, в сутолоку Французской революции. Но потом быстро поостыл; во время консульства и империи служил в министерстве иностранных дел, поощряемый Талейраном и Наполеоном за сметливость и работоспособность; ценился он как дипломат и после реставрации Бурбонов; умер Рейнгард в 1837 г. графом и пэром Франции. Естественно, что ему, искусному политику, особенно понравилось названное произведение Гете.
И я был в Шампани! – Эпиграф, стилистически перекликающийся с эпиграфом «Итальянского путешествия»: «И я в Аркадии!» Но насколько эпиграф к «Путешествию» звучит восторженно, настолько эпиграф к «Кампании» проникнут горечью и самосожалением.
Господин фон Штейн СтаршийИоганн Фридрих, барон (1749–1799) – старший брат выдающегося государственного деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штейна (1757–1831), бывшего в 1812–1813 гг. приближенным императора Александра I.
Союзная армия состояла из 42 000 человек пруссаков, двух австрийских и одного гессенского корпуса, а также трех корпусов французских эмигрантов – всего около 81 000 человек.
Герцог ОрлеанскийЛуи-Филипп (1747–1793) – в 1792 г. принял имя Филиппа Эгалите, был членом Конвента и голосовал за казнь Людовика, что, однако, его не спасло от гильотины.
Княгиня Монако,Мария-Катрина (ум. в 1813 г.) – В 1770 г. добилась развода с первым мужем, князем Оноре III Монакским, и в 1798 г. обвенчалась с принцем Кондэ. Принц Кондэ, Луи-Жозеф де Бурбон (1730–1818) – маршал Франции, полководец, успешно участвовавший еще в Семилетней войне.
Шантийи– родовой замок фамилии Кондэ (побочной ветви Бурбонов).
ЗеммеррингСамуэль Томас (1755–1830) – естествоиспытатель и анатом, с 1784 г. профессор Майнцского университета; его жена, Маргарете Элизабет (урожд. Брумелиус) – уроженка Франкфурта-на-Майне. Земмерринг познакомился с Гете в 1783 г., с 1784 г. изредка переписывался с ним по вопросам анатомии.
ГуберЛюдвиг Фердинанд (1764–1804) – писатель и переводчик французских авторов (благо его мать была француженка), близкий друг Шиллера.
ФорстерИоганн Георг (1754–1794) – естествоиспытатель и писатель; его художественно-описательная, а также научная и публицистическая проза по праву считалась образцовой. Начальное воспитание он получил в Англии, под руководством отца, тоже естествоиспытателя; участвовал вместе с ним в знаменитом кругосветном путешествии Кука, каковое описал с недюжинным литературным и научным талантом. Вернувшись в 1778 г. в Германию, Форстер сразу же установил прямые контакты с выдающимися немецкими писателями и учеными. С Гете дружески сошелся в 1783 г. и в следующем году посетил его в Веймаре. После занятия Майнца французами (в октябре 1792 г.) учредил в этом городе, где он служил с 1788 г. библиотекарем, клуб по образцу Якобинского клуба в Париже и хлопотал о присоединении к Франции Майнца и всего прирейнского края на правах как бы автономной «первой немецкой республики». В 1793 г. в качестве депутата Рейнского национального конвента Форстер выехал с этой целью в Париж. Там, страдая от голода на хлебной должности интенданта дивизии, умер в 1794 г. «от истощения и сердечной болезни» одиноким, глубоко разочарованным во Французской революции человеком.
Лейтенант фон Фрич(1772–1808) – сын веймарского министра Панова Фридриха фон Фрича.
Мой слуга– Иоганн Георг Пауль Геце (1754–1835), служил Гете с 1780 по 1795 г.; позднее – инспектор проезжих дорог герцогства.
Памятник близ Игеля —по новейшим изысканиям сооружен в 250 г. братьями Секундинием Авентином и Секундинием Секуром в качестве памятника «для себя и потомков».
Корпус эмигрантов– из трех корпусов эмигрантов один, при котором следовали принцы (граф Прованский и граф д’Артуа, будущие короли Людовик XVIII и Карл X), составлял арьергард прусской армии.
Генерал времен Тридцатилетней войны. – Изречение, вложенное в уста упомянутого, но не названного по имени генерала, на самом деле было произнесено во время Гуситской войны естествоиспытателем и историком Цахарием Теобальдом (1584–1627), войсковым капелланом в армии Мансфельда. Изречение это относилось первоначально к «королю Гиршику», то есть Георгу Подебраду Богемскому.
Камерьер ВагнерИоганн Конрад (1737–1802) – состоял при герцоге Карле-Августе Веймарском, почти всегда сопровождая его в путешествиях и походах.
Патриотизм. – Во время революции это понятие применялось только по отношению к революционерам; так – во Франции и Германии, так и в России при Екатерине II и Павле I.
Герцог Брауншвейгский– Карл-Вильгельм-Фердинанд, владетельный герцог Брауншвейгский и Люнебургский (1735–1806), брат герцогини-матери Анны-Амалии Саксен-Веймарской. Отличался как полководец в Семилетнюю войну, пользуясь неизменным благоволением Фридриха II. Считался «ведущим стратегом» своего времени. Эта репутация не была поколеблена неудачей, постигшей его в кампании 1792 г. Что и говорить, король Фридрих-Вильгельм II Прусский часто мешал ему, как верховному главнокомандующему. Но никто не мог ему приказать пойти в поход со слишком малыми, по его мнению, военными силами, как никто не мог бы заставить подписать гибельные для союзников манифесты от 25 и 27 июля 1792 г. или рваться к Парижу, оставив в тылу не взятые им французские крепости. Характерно, что накануне дня, когда герцог выехал в Потсдам для обсуждения плана кампании 1792 г., к нему поступило предложение занять пост главнокомандующего французской армией. В 1806 г., как бы в покаяние за то, что не слушались его безусловно, Фридрих-Вильгельм III (Второй к этому времени уже лежал в могиле) снова поставил главнокомандующим своей армии «ведущего стратега». Наполеон – под Наумбургом, Ауэрштедтом и Йеной наголову разбил прусскую армию. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненный, предварительно ослепнув от тяжкой контузии. Все это совершилось через шесть дней по вторжении Наполеона в прусские пределы.