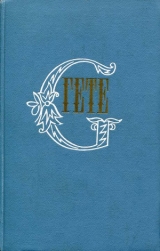
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
ИЗ РАССКАЗА
Декабрь.
…В окрестностях Рима, неподалеку от Тибра, стоит небольшая церковь, называемая «У трех источников»; по преданию, эти источники забили из земли, на которую текла кровь святого Павла во время усекновения его главы, и бьют еще и доныне.
Церковь стоит в низине, и, конечно же, забранные в трубы источники, находящиеся внутри, еще приумножают дымку сырости. Почти лишенная украшений и, можно сказать, запущенная, – ибо уборка там производится лишь перед редкими богослужениями, плесень же все равно остается, – она между тем дивно украшена изображениями Христа и всех апостолов на колоннах центрального нефа, исполненных в красках в натуральную величину по рисункам Рафаэля. Несравненный этот гений однажды уже изобразил сих благочестивых мужей всех вместе и в одинаковых одеяниях. На этот раз, когда они существуют как бы по отдельности, он каждому придал особые отличия, подчеркнув, что сейчас апостол уже не в свите господа; после вознесения господня он предоставлен самому себе, и ему предстоит жить, действовать и страдать лишь соответственно своему характеру.
Дабы и вдали радоваться совершенству этих изображений, мы сохранили копии рисунков Рафаэля, сделанные преданной рукой Марка Антона, которые нередко служили нам поводом освежить в памяти виденное и записать кое-какие наблюдения.
От этой небольшой скромной церквушки недалеко и до другого, большего памятника высокочтимому апостолу: до церкви «Святого Павла под стенами»,монумента, искусно и величественно сложенного из прекрасных древних обломков. Вход в эту церковь волнует и поражает: ряды мощных колонн как бы держат высокие расписанные стены, сверху замкнутые деревянными, положенными крест-накрест балками перекрытия, – правда, нынче наш избалованный взгляд воспринимает их едва ли не как перекрытие амбара, хотя в целом, если бы в праздники деревянные связки завешивались коврами, это производило бы невероятное впечатление. Здесь обломки колоссальных, сложнейшим образом орнаментированных капителей, перевезенные из руин некогда близлежащего, ныне уже не существующего дворца Каракаллы, нашли себе почетное и сохранное место.
Ристалище, – оно все еще носит имя этого императора, – в большей своей части рухнувшее, и поныне дает нам представление о необозримой своей грандиозности. Если художник станет слева от ворот, через которые выезжали на арену, то выше, справа от него, над развалившимися сиденьями для зрителей, будет находиться гробница Цецилии Метеллы в окружении новейших здании, от этой точки линия сидений уходит в бесконечность; в отдалении же можно разглядеть прекрасные виллы и загородные дома. Взор, обращенный вспять, сумеет различить развалины Спи́ны, а человек, наделенный архитектоническим воображением, сумеет до известной степени представить себе высокомерие того времени. Во всяком случае, руины, простертые перед нашим взором, позволили бы остроумному и знающему художнику создать хорошую картину, которая была бы в длину раза в два больше, чем в высоту.
Пирамиде Цестия мы на сей раз поклонились лишь снаружи, а развалины терм Антонина или Каракаллы, о которых столько эффектного насочинил Пиранези, в наши дни едва ли бы удовлетворили даже опытный взгляд живописца. Здесь, впрочем, уместно будет вспомнить о Германе фон Шванефельде: он бы мог своей изящной иглой, воссоздававшей чувство прекрасного, чувство природы, вызвать к жизни это прошлое, и даже более – преобразить его в прелестное воплощение живого и ныне существующего.
На площади Св. Петра в Монторио мы полюбовались Аква-Паола, где воды пятью потоками лились через ворота и проходы Триумфальной арки, до краев наполняя большой бассейн. По восстановленному Павлом V акведуку это многоводье совершает сюда двадцатипятимильный путь от озера Брачиано причудливыми зигзагами из-за сильно пересеченной местности, на этом пути поит многочисленные мельницы и фабрики, чтобы, расширяясь, наконец, достигнуть Трастевере.
Почитатели зодческого искусства не могли нахвалиться счастливой мыслью – предоставить этим потокам зримый вход. Колонны, арки, выступы и аттики напоминают нам о пышных вратах, через которые некогда вступали в город отважные победители. Теперь с не меньшей мощью и силой сюда вступает кормилец, мирный из мирных, взимая дань восхищенья и благодарности за тяготы своего дальнего пути. Надписи на воротах гласят, что благодаря попечениям папы из дома Боргезе вседержитель здесь держит свой вечный триумфальный въезд.
Впрочем, один недавно приехавший сюда северянин заметил, что лучше было бы нагромоздить необтесанные скалы, чтобы воды естественно выходили на свет божий. Ему возразили: это-де потоки не естественные, а искусственные и, таким образом, прибытие их отмечено вполне правомерно.
Возник спор, и мы долго не могли прийти к согласию, так же как и по поводу изумительного «Преображения» в соседнем монастыре, куда мы, воспользовавшись случаем, тотчас же отправились. Разговоров было не обобраться. Менее страстные спорщики только сердились, что здесь мы снова наталкиваемся на старый упрек касательно двойного действия. Но это всегда так: обесцененная монета все же имеет хождение наряду с полноценной, в особенности когда надо поскорее закончить какую-нибудь сделку или без долгих размышлений сгладить возникшие разногласия. Удивительно то, что многие продолжали отрицать единство этой великой концепции. В отсутствие самого святого безутешные родители приводят к его ученикам одержимого бесом мальчика; те, вероятно, уже делали попытки изгнать злого духа и даже раскрыли книгу, надеясь найти в ней старинную формулу, излечивающую страшный недуг, но, увы, тщетно. В это мгновение появляется единственно всемогущий, признанный праотцами, теми, что внизу поспешно указывают друг другу на это видение – на преображение господне. Как же тут можно верхнее отделить от нижнего? Они едины: внизу – страдание, нужда, вверху – спасительное; это – взаимодействие и взаимовлияние. Можно ли, говоря иными словами, воздействие идеальное отделить от действительного?
Единомышленники тем временем еще укрепились в своих убеждениях; «Рафаэля, – говорили они друг другу, – всегда отличало правильное мышление, так неужто же этот взысканный богом человек, чей гений сказывается в таком мышлении, в цвете лет столь ошибочно мыслил и ошибочно действовал? Нет! он всегда прав, как права сама природа, и всего более права в том, что нам всего непонятнее».
Что ни говори, у каждого должна быть возможность на свой лад воспринимать произведения искусства. В то время, как мы вновь совершали свой обход Рима, я понял, что значит чувство, понятие, наглядное представление о том, что мы вправе в высшем смысле этих слов назвать близостью классической почвы. Я это называю чувственно-духовным убеждением: здесь было, есть и будет великое. Что величайшее и великолепнейшее не вечно – заложено в самой природе времени и неизбежном взаимопротиводействии физических элементов. Во время обычного нашего осмотра произведений искусства мы, не печалясь, проходили мимо развалин, скорее даже радовались тому, что столь многое еще сохранилось и столь многое восстановлено, причем пышнее и грандиознее, чем было в свое время.
Громада собора св. Петра, несомненно, была так задумана, разве что еще грандиознее и смелее, чем любой древний храм, и не только то, чему суждено было разрушаться в течение двух тысячелетий, открывалось теперь нашему взору, но одновременно и то, что наново сумела создать более высокая культура.
Даже колебания художественного вкуса, стремление к величавой простоте, возврат к мелкому украшательству – все говорило о жизни, о движении, история искусства и история человечества синхронистически вырастала перед нами.
Мы не вправе быть подавленными навязчивой мыслью о том, что великое не вечно; напротив, раз мы считаем – прошлое было великим, это должно нас подстрекать к созданию чего-то большого, значительного, что могло бы, даже если оно уже лежит в развалинах, подвигнуть на благородную деятельность, как нас подвигли наши предки.
Эти поучительные и возвышающие душу размышления были не то чтобы остановлены или прерваны, но они переплелись с горестью, не оставлявшей меня ни на минуту: мне стало известно, что жених прелестной девушки из Милана взял назад свое слово и, не знаю уж, под каким предлогом, отрекся от невесты. Я был счастлив, что не поддался своей склонности и вовремя отошел от милой девочки, тем паче что, по наведенным мною справкам, среди предлогов, на которые позднее ссылался жених, наше с нею совместное пребывание за городом не было даже упомянуто, и все-таки мне было очень больно представлять себе очаровательный образ, так весело и радостно повсюду меня сопровождавший, унылым и печальным, ибо вскорости до меня дошел слух, что из-за этой истории бедняжка слегла в приступе жестокой горячки, заставившей всех опасаться за ее жизнь. Я ежедневно, первое время даже два раза в день, справлялся о ее здоровье, меж тем как моя фантазия мучила меня представлениями о чем-то невозможном: эти прелестные нежные черты, неотъемлемые от ясного, радостного дня, это выражение неторопливой безмятежности, эта затуманенная слезами, искаженная болезнью, юная свежесть, обездоленная, безвременно поблекшая от душевных и телесных страданий.
При таком расположении духа существовал, однако, и противовес – чреда тех великих произведений искусства, что, проходя перед моим взором, тешили его и давали ему работу, фантазию же мою возбуждали своим непреходящим достоинством. Само собой разумеется, что едва ли не все эти впечатления были проникнуты глубокой печалью.
Если памятники старины после многих столетий в большинстве своем распадались на бесформенные груды, то новейшие, стройно вздымающиеся, великолепные строения позднее вызывали сожаление о многих семьях, с годами пришедших в упадок, и даже все, что было еще исполнено жизненных сил, казалось, уже подтачивает незримый червь. Да и то сказать, – разве возможно, чтобы в наши дни земное устояло без физической силы, опираясь лишь на религию и нравственность? Жизнерадостный дух счастлив, если ему удается вернуть к жизни руину, восстановить рухнувшие стены или какую-то часть здания наподобие живой, вечно восстанавливающейся природе; дух же, омраченный печалью, так и норовит лишить все живое красоты, явить его нам обнаженным скелетом.
Я даже не решился ехать в горы, хотя эта поездка была задумана нашей веселой компанией еще до наступления зимы, покуда не уверился, что больная пошла на поправку, и не принял мер, чтобы получать вести о ней и в тех местах, где я познакомился с нею, веселой и обворожительной, в прекрасные осенние дни.
Уже в первых письмах из Веймара об «Эгмонте» имелись замечания о том и о сем; при этом оправдалась старая истина, что любитель искусства, лишенный поэтического чутья и закоснелый в своем мещанском довольстве, спотыкается именно на тех местах, где поэт стремился разрешить определенную проблему, скрасить или как-то скрыть ее. Все должно идти своим естественным путем, полагает такой читатель; но ведь и необычное может быть естественным, хотя с этим никогда не согласится тот, кто упорствует в своей точке зрения. Я получил письмо приблизительно такого содержания и, сунув его в карман, отправился на виллу Боргезе; там я прочитал, что некоторые сцены зритель сочтет слишком растянутыми. Я было задумался, но понял, что и теперь не мог бы их сократить, ибо в них развиты мотивы наиболее существенные. Подруги мои прежде всего порицали краткость завещания, в котором Эгмонт препоручает свою Клерхен Фердинанду.
Отрывок из моего ответного письма даст наилучшее представление о моих тогдашних взглядах и моем душевном состоянии.
«Как бы мне хотелось исполнить ваше желание и кое-что изменить в завещании Эгмонта! В дивное утро я поспешил с вашим письмом на виллу Боргезе, битых два часа думал обо всем ходе пьесы, о действующих лицах, об их взаимоотношениях и не нашел, что можно было бы сократить. С какой охотой я бы изложил вам свои соображения, свои pro и contra, на это мне потребовалась бы целая тетрадь и я бы написал диссертацию о построении пьесы. В воскресенье я пошел к Анжелике и поставил перед нею вопрос относительно разных изменений. Она, можно сказать, изучила «Эгмонта», и у нее имеется переписанный экземпляр. Если бы ты была свидетельницей того, как по-женски тонко она все разобрала и свела к тому, что слова, которые вы бы хотели услышать из уст героя, заключены в сути данного явления. Анжелика полагает: раз в этом явлении говорится лишь о том, что происходит в душе спящего героя, то никакие слова не могли бы выразительнее сказать, как он ее любит и ценит, нежели этот сон, не только поднимающий до него прелестную девушку, но возносящий ее над ним. Анжелике пришлось очень по душе, что тот, кто всю жизнь грезил наяву, превыше всего ценя жизнь и любовь, вернее, наслаждение, которое они дают, под конец грезит во сне, как грезил наяву, и мы без слов узнаем, как глубоко возлюбленная проникла в его сердце, какое почетное и высокое место ей в нем отведено. Она много говорила и о том, что в сцене с Фердинандом Клерхен выступает лишь в подчиненной роли, дабы не умалить интереса прощания с юным другом, который в эти минуты все равно уже ничего не слышит и не понимает».
РИМСКИЙ КАРНАВАЛ(1787)
Принимаясь за описание римского карнавала, мы боимся, как бы нам не возразили, что такое торжество, собственно, нельзя описать. Ведь столь большая масса чувственных предметов должна непосредственно двигаться перед глазами, чтобы каждый мог на свой лад созерцать и воспринимать ее.
Но такое возражение кажется нам тем более несостоятельным, что мы по опыту знаем – на чужеземного зрителя, который впервые видит римский карнавал и ограничивается лишь зрительным его восприятием, он не производит ни целостного, ни приятного впечатления, ибо не слишком услаждает взор и не приносит удовлетворения духу.
Длинная и узкая улица, на которой топчется бесчисленное множество людей, необозрима; глаз почти ничего не различает в той сутолоке, которую он в состоянии охватить. Движение здесь однообразно, шум одуряет, конец праздничных дней оставляет нас неудовлетворенными. Но все эти сомнения рассеются, как только мы перейдем к описанию и главным станет вопрос, удастся оно нам или нет.
Римский карнавал – праздник, который, собственно, не дается народу, но который народ дает сам себе.
Государство мало участвует в его устроении, мало расходуется на него. Хоровод веселья движется сам собою, и полиция только снисходительно направляет его.
Это не праздник, ослепляющий зрителя наподобие многих церковных праздников Рима; здесь нет фейерверка, из окон замка Сант-Анджело составляющего неповторимое, поразительное зрелище; здесь нет иллюминации собора и купола св. Петра, восхищающей и привлекающей столько чужеземцев из разных стран; нет блистательной процессии, при приближении которой народу положено молиться и изумляться; здесь только подан знак, что каждый может сумасбродствовать и беситься сколько вздумается и что, кроме драк и поножовщины, ему дозволено почти все.
Различие между высшими и низшими на мгновение кажется снятым; все вперемешку, каждый легко относится ко всему, что встречается на его пути, а взаимная дерзость и свобода обращения уравновешиваются всеобщим благодушием.
В эти дни римлянин, еще и в наше время, радуется, что рождество Христово хоть и отодвинуло на несколько недель праздник Сатурналий, но не вовсе уничтожило его.
Мы попытаемся вызвать в воображении наших читателей все утехи и все упоение этих дней. Мы также льстим себя надеждой оказать услугу как тем, кому однажды уже довелось присутствовать на римском карнавале и кого теперь порадует живое воспоминание о той поре, так и тем, кому еще предстоит поездка в Рим и кому эти немногие страницы помогут обозреть и ощутить суматошную и быстротечную радость карнавала.
КОРСО
Римский карнавал сосредоточивается на Корсо. Корсо – улица, которая ограничивает и определяет всенародное торжество этих дней. В любом другом месте это был бы уже другой праздник; и посему мы прежде всего должны описать Корсо.
Название свое, как и многие длинные улицы итальянских городов, она получила от конских ристаний, которыми в Риме заканчивается каждый карнавальный вечер, а в иных местах и прочие празднества – день местного патрона, престольные праздники.
Улица эта, прямая, как стрела, ведет от Пьацца-дель-Пополо к Венецианскому дворцу. Длиною примерно в три тысячи пятьсот шагов, она застроена высокими, по большей части роскошными зданиями. Ширина несоразмерна с длиною и высотой домов. Панели по обеим сторонам отнимают у нее еще футов шесть – восемь ширины. Для экипажей посередине остается пространство шагов в двенадцать – четырнадцать, из чего легко усмотреть, что двигаться в ряд здесь может не больше трех карет.
Обелиск на Пьацца-дель-Пополо во время карнавала служит нижней границей этой улицы, Венецианский дворец – верхней.
КАТАНЬЕ НА КОРСО
В течение всего года, в воскресные и праздничные дни, на римском Корсо царит оживление. Знатные и богатые римляне приезжают сюда кататься за час или полтора до наступления ночи; длинные вереницы экипажей, показываясь из-за Венецианского дворца, движутся по левой стороне улицы, при хорошей погоде проезжают мимо обелиска к городским воротам и продолжают свой путь по Фламиниевой дороге, иногда до самого Понте-Молле.
Кареты, раньше или позже повернувшие назад, придерживаются другой стороны; таким образом обе вереницы в полном порядке тянутся рядом.
Посланники имеют право разъезжать взад и вперед между обоими рядами экипажей; претенденту, проживавшему в Риме под именем герцога Албанского, была присвоена та же привилегия.
Едва только бой часов возвестит ночь, порядок этот нарушается; каждый сворачивает куда ему угодно, отыскивая кратчайший путь и нередко задерживая этим движение других экипажей, которые не могут разъехаться и застревают на узкой дороге.
Это вечернее катанье, блестящее во всех крупных итальянских городах и которому подражают во всех маленьких, хотя бы в нем участвовало всего несколько экипажей, привлекает на Корсо множество пешеходов; каждый приходит, чтобы и людей посмотреть, и себя показать.
Карнавал, мы это скоро увидим, в сущности, только продолжение или, вернее, вершина этих воскресных и праздничных увеселений, в нем нет ничего нового, ничего необычного, ничего исключительного, он естественно сливается с римским образом жизни.
КЛИМАТ, ОДЕЖДЫ ДУХОВЕНСТВА
Поэтому нас не удивят и толпы масок, которые мы в скором времени увидим на улице; здесь круглый год смотришь на самые разнообразные сцены, разыгрывающиеся под ясными, веселыми небесами.
В любой праздник вывешенные наружу ковры, рассыпанные цветы, растянутые шали как бы преобразуют улицы в огромные залы и галереи.
Каждого покойника провожает на кладбище процессия с ног до головы закутанных в свои облаченья братьев различных орденов; всевозможные монашеские одежды приучают глаз к необычным, странным образам, словно весь год длится карнавал, и аббаты в черных мантиях кажутся благородными домино среди других церковных масок.
ПЕРВЫЕ ДНИ
Уже с Нового года открываются театры; карнавал начался. То там, то здесь в ложе показывается наряженная офицером красавица, самодовольно щеголяющая перед народом своими эполетами. На Корсо увеличивается число экипажей; но все еще только предвкушают последние дни.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ
Какие только хлопоты не возвещают народу о приближении блаженных часов!
Корсо, одну из немногих римских улиц, весь год содержащихся в чистоте, метут и скребут еще тщательнее. Красивую мостовую, сложенную из маленьких четырехугольных и более или менее одинаковых кусков базальта, разбирают везде, где она только хоть немного расшаталась, и снова вколачивают в нее базальтовые клинья.
Затем появляются и живые предвестники. Каждый карнавальный вечер, как мы уже говорили, завершается конским ристанием. Лошади, которых тренируют для этого финала, по большей части малорослые; лучшие из них ввиду иноземного происхождения называются берберийскими.
Такую лошадку в попоне из белого полотна, тесно облегающей голову, шею и брюхо и по швам разукрашенной пестрыми лентами, приводят к обелиску, на то место, откуда она со временем начнет свой бег. Ее приучают спокойно стоять, глядя на Корсо, затем медленно проводят вдоль улицы, на верхнем конце которой, у Венецианского дворца, ей дают овса, чтобы внушить желание поскорей пробежать этот путь.
Поскольку такая проводка совершается неоднократно и с большинством лошадей, – а в беге их обычно участвуют пятнадцать – двадцать, – да еще под веселый галдеж целой толпы мальчишек, то эта церемония уже как бы предваряет еще больший шум и ликование.
Высокопоставленные римские семьи некогда держали таких лошадей в своих конюшнях; приз, взятый лошадью, был честью для дома. На лошадь ставились большие суммы, а победа увенчивалась пиршествами.
За последние годы эта страсть заметно ослабела; желание стяжать славу своими лошадьми перекочевало в средние и даже в низшие классы общества.
Вероятно, еще с тех времен сохранился обычай, что отряд всадников, сопровождаемый трубачами, эти призы развозит напоказ всему Риму, заезжает в дома знатных граждан и, протрубив положенное приветствие, собирает щедрые чаевые.
Приз состоит из куска золотой или серебряной ткани длиною около полутора локтей и шириною чуть меньше локтя, укрепленного на пестром древке наподобие флага, на нижнем конце которого вытканы изображения состязающихся лошадей.
Эти призы называются палио, число их равно числу карнавальных дней, и покуда длится карнавал, упомянутая кавалькада неустанно развозит эти квазиштандарты по улицам Рима.
Тем временем и Корсо начинает менять свой вид. Обелиск становится теперь границей улицы. У его подножия сооружается амфитеатр с большим количеством скамей, обращенный в сторону Корсо. Перед ним устраиваются загородки, из которых в свое время будут выпущены лошади.
Кроме того, по обеим сторонам улицы воздвигаются еще два больших помоста, примыкающих к первым домам Корсо и таким образом удлиняющих улицу за счет площади. А по обеим сторонам загородок высятся маленькие будки для тех, кто будет подавать сигнал к выпуску лошади.
Вдоль всего Корсо здесь и там тоже виднеются помосты. Площадь Сан-Карло и площадь Антониновой колонны отгораживаются от улицы решетками; все достаточно ясно указует на то, что празднество должно замкнуться и замкнется в пределах длинного и узкого Корсо.
Под конец улица еще посыпается пуццоланой, чтобы бегущие лошади не поскользнулись на гладкой мостовой.
СИГНАЛ ПОЛНОЙ КАРНАВАЛЬНОЙ СВОБОДЫ
Так тешат и развлекают себя жители города в пору ожидания, пока колокол на Капитолии в послеполуденный час не возвестит наконец, что каждому дозволено безумствовать под открытым небом.
В этот миг степенный римлянин, весь год опасавшийся малейшего прегрешения, сбрасывает с себя всю серьезность и рассудительность.
Каменщики, стучавшие своими молотками до последней минуты, складывают инструменты и, перебрасываясь шутками, заканчивают работу. Все балконы, все окна мало-помалу увешиваются коврами; на панели по обеим сторонам улицы выносятся стулья; малоимущие жители и все ребятишки уже высыпали на улицу, которая отныне перестает быть улицей, – это скорее огромная праздничная зала, исполинская разукрашенная галерея.
Ибо не только окна увешаны коврами, но и все помосты обиты старинными штофными обоями; множество стульев еще увеличивает сходство с комнатой, а приветливое небо редко напоминает о том, что ты находишься не под крышей.
Так улица постепенно приобретает все более жилой вид. Выйдя из дому, чувствуешь себя не на вольном воздухе, не среди чужих, но в зале, в кругу знакомых.
СТРАЖА
В то время, как Корсо все более оживляется и среди людей, прогуливающихся в своих обычных костюмах, уже нет-нет да и мелькнет Пульчинелла, у Порта-дель-Пополо выстраиваются войска. Под предводительством генерала верхом на коне, в новых мундирах, под звуки музыки они маршируют вверх по Корсо, немедленно занимают входы и выходы, ставят караулы в особо важных местах и принимают руководство порядком всего торжества.
Хозяева, отдающие напрокат стулья и подмостки, начинают усердно зазывать прохожих:
«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»
МАСКИ
Вот уже начинает возрастать число масок. Первыми обычно появляются молодые люди в праздничных нарядах простолюдинок, с низко открытой грудью и дерзко-самоуверенным видом. Они заигрывают со встречными мужчинами, бесцеремонно, как со своими товарками, обходятся с женщинами, позволяя себе все, что подсказывает им веселость, остроумие или озорство.
Среди прочих нам запомнился один юноша, великолепно игравший роль страстной, бранчливой и неугомонной женщины. Всю дорогу он буянил, придирался к каждому встречному, спутники же делали вид, что из кожи вон лезут, пытаясь угомонить его.
Откуда-то вдруг появляется Пульчинелла с огромным рогом на боку, свисающим с пестрой перевязи. Болтая с женщинами, он делает один какой-то малозаметный жест и сразу становится похож на древнего бога садов священного Рима, причем его дерзкая ветреность возбуждает скорей веселье, чем неудовольствие. Вот шествует другой Пульчинелла, более скромный и самодовольный, он ведет за собой свою дражайшую половину.
Так как женщины любят рядиться в мужское платье не меньше, чем мужчины в женское, то и они не упускают случая покрасоваться в излюбленном всеми наряде Пульчинеллы, и нельзя не признать, что некоторые из них выглядят весьма привлекательно в этом двуполом образе.
Быстрыми шагами, торжественно декламируя, словно перед судом, пробирается сквозь толпу адвокат; он что-то кричит в окна домов, останавливает замаскированных и незамаскированных прохожих, каждому угрожая судебным процессом; одному излагает длинный перечень будто бы совершенных им комических преступлений, другому подробно исчисляет его долги. Женщин он бранит за чичисбеев, девушек за возлюбленных; ссылается на книгу, которую он держит в руках, сочиняет судебные документы, все это проникновенным голосом и ни на минуту не умолкая. Всякого он старается пристыдить или вогнать в краску. Кажется, вот он уже замолчал, не тут-то было, он еще только начинает; не успеешь подумать: «Наконец-то он уходит», – как он уже повернул обратно. Решительным шагом направившись к одному, он не заговаривает с ним, но останавливает другого, которому казалось, что он уже в безопасности: если же навстречу адвокату попадается коллега, то дурачества достигают наивысшей степени.
Но долго внимание публики на них не задерживается: самое сильное впечатление немедленно растворяется в обилии и разнообразии других.
Квакеры хоть и не поднимают такого шума, но обращают на себя внимание не меньше, чем адвокаты. Костюм квакера, видимо, получил столь большое распространение потому, что на толкучке легко найти старофранкскую одежду.
Основная претензия этой маски, чтобы костюм, хотя и старофранкский, был хорошо сохранившимся и сделанным из добротной ткани. Одетые большей частью в шелк и бархат, они носят еще парчовые или вышитые жилеты; от квакера требуется также солидное брюшко.
Лицо его целиком закрыто толстощекой маской с маленькими прорезями для глаз; парик весь в смешных косичках, шляпа маленькая, но с полями.
Из вышеописанного видно, что эта маска напоминает Buffo caricato комической оперы, и если последний обычно представляет пошлого, влюбленного, обманутого дурака, то эти изображают нелепых франтов. Они суетливо шныряют, на цыпочках заглядывая во все кареты, уставляясь на все окна, и вместо лорнета то и дело подносят к глазам большие черные кольца без стекол. Квакеры отвешивают чопорные и низкие поклоны, радость же свою, главным образом при встрече с себе подобными, выражают тем, что несколько раз подпрыгивают на обоих ногах и при этом издают звонкий, пронзительный и нечленораздельным звук с раскатом на согласные «бррр».
Частенько такой звук служит сигналом, на который откликаются оказавшиеся поблизости квакеры, и через несколько секунд этот крик уже разносится по всему Корсо.
В это же время проказливые мальчишки дуют в крупные витые раковины, раздирая вам уши невыносимыми звуками.
Вскоре начинаешь понимать, что при такой тесноте и при сходстве столь многих маскарадных костюмов (ибо по Корсо обычно снует несколько сотен Пульчинелл и около сотни квакеров) мало кто может надеяться обратить на себя внимание. Для этого надо было бы заявиться на Корсо уж очень рано. И каждый стремится лишь к одному: повеселиться, вдоволь подурачиться и получше насладиться свободой этих дней.
Больше всего хотят и по-своему умеют веселиться в это время девушки и женщины. Каждая рвется убежать из дому и хоть как-нибудь да перерядиться, а так как лишь очень немногие могут потратиться на костюмы, то они проявляют немалую изобретательность, чтобы получше замаскироваться и принарядиться.
Очень нетрудно соорудить себе костюмы нищих или нищенок; для этого прежде всего требуются красивые волосы, далее – белая маска, глиняный горшочек на цветной ленте, посох и шляпа в руках. Они смиренно приближаются к окнам, к прохожим и от каждого вместо милостыни получают сласти, орехи и прочие лакомства.
Другие поступают еще проще: закутываются в меха или же появляются в хорошеньком домашнем платье и только с полумаской на лице. Они прохаживаются большей частью без мужчин и в качестве наступательного и оборонительного оружия держат в руках метелочку из камыша, которой либо отбиваются от докучливых приставаний, либо, достаточно резво, заезжают в физиономию знакомых и незнакомых, не носящих маски.
Тот, кого наметила в жертву компания из четырех-пяти таких девушек, не знает, как от них спастись. Толкотня кругом не позволяет ему пуститься наутек и куда бы он ни оборотился, в нос ему тычутся метелки. Всерьез обороняться от подобных шалостей весьма опасно, ибо маски неприкосновенны и страже отдан приказ защищать их.
Обычные костюмы всех сословий тоже используются в качестве маскарадных. Конюхи огромными скребницами чистят спину, кому им заблагорассудится. Возницы с обычной навязчивостью предлагают свои услуги. Более изящные маски – это жительницы Фраскатти, поселянки, рыбаки, неаполитанские мореходы, неаполитанские сбиры и греки.
Иному приходит в голову воспроизвести какую-нибудь театральную маску. Иной выходит из положения совсем просто: завертывается в ковер или в простыню, связанную над головой.








