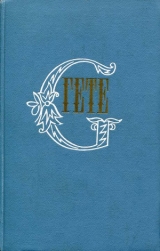
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
Выйдя на улицу, я увидел свой экипаж без кучера, на розыски которого пустился какой-то расторопный мальчуган. Она выглянула из окна антресолей красивого дома, где они жили; окна были невысоко, казалось, можно протянуть руки друг другу.
«Как видите, меня не хотят увозить от вас, – крикнул я, – знают, верно, как мне тяжело с вами расставаться».
Что она мне ответила, что я еще сказал ей, весь ход этого очаровательного разговора, свободного от каких бы то ни было оков, разговора, в котором раскрылся внутренний мир двух почти неосознанно любящих друг друга, я не хочу осквернять повторением и пересказом. То было удивительное, случайно вырвавшееся, вернее, вынужденное внутренней потребностью последнее лаконическое признание в невиннейшей и нежнейшей взаимной склонности, почему оно никогда не изгладится из моей души, из моих воспоминаний.
Проститься с Римом мне, видно, было суждено в особо торжественной обстановке: три ночи кряду полная луна стояла на безоблачном небе, и волшебство, нередко распространявшее на меня свои чары, объяв весь огромный город, сейчас действовало еще сильнее. Большие прозрачно-светлые массы, словно бы озаренные мягким дневным светом, контрастирующие с темными тенями, которые изредка просветлялись облаками, вырывавшими из мрака какой-то абрис, казалось, переселяли нас в другой, простой и больший, мир.
После дней, проведенных в рассеянии, порою горьких, я любил бродить по Риму с немногими друзьями, но теперь отправился один. Пройдя, вероятно, в последний раз, по длинному Корсо, я поднялся на Капитолий, высившийся подобно заколдованному замку в пустыне. Статуя Марка-Аврелия напомнила мне статую командора в «Дон Жуане», тем самым давая понять одинокому страннику, что он затевает нечто неподобающее. Но я все же спустился по задней лестнице. Темная, отбрасывая еще более темные тени, передо мною выросла триумфальная арка Септимия Севера; на безлюдной Виа-Сакра хорошо мне знакомые здания казались неведомыми и призрачными. Когда же я приблизился к величавым руинам Колизея и через решетку заглянул в его запертые недра – не буду отрицать, дрожь пробежала у меня по спине и ускорила мое возвращение.
Огромные массы производят необычное впечатление – возвышенного и одновременно доступного; прогулки по Риму дали мне возможность охватить всю необозримую summa summarum моего здешнего пребывания. Все это, глубоко запавшее в мою взволнованную душу, создало настроение, которое я позволю себе назвать героико-элегическим; оно стремилось излиться в стихотворной элегии.
И как это в такие мгновения мне на память не пришла Овидиева «Элегия». Ведь и он, уже изгнанник, в лунную ночь должен был покинуть Рим. «Cum repeto noctem!»– воспоминание, им созданное в глуши, на Черном море, в печали и нищете, не шло у меня из головы, и я все твердил его, постепенно в точности вспоминая отдельные части, но оно, сбивая меня с толку, мешало мне написать свое: впоследствии я было принялся за него, но до конца так и не довел.
Только возникнет в уме печальнейшей ночи той образ,
Той, что во Граде моей жизни пределом была,
Вспомню лишь ночь, когда дорогого столь много оставил,
Льется еще из очей даже и ныне слеза.
И замолчали уже голоса человечьи и песьи,
Коней ночных в высоте правила бегом Луна.
Я же ее созерцал и на оный смотрел Капитолий,
Что понапрасну восстал близко от Ларов моих… [9]9
Перевод С. Шервинского.
[Закрыть]
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА

КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА

И я был в Шампани!
23 августа 1792 г.
Тотчас же по прибытии в Майнц я нанес визит господину фон Штейну Старшему. Королевско-прусский камергер и оберфорстмейстер двора его величества, он исполнял здесь как бы должность резидента, проявляя лютую ненависть ко всему, что только пахло революцией. Обрисовав в беглых чертах дислокацию союзных армий, он снабдил меня извлечением из «Топографического атласа Германии», изданного Йегером во Франкфурте под условным заглавием «Театр военных действий».
Днем, за обедом у Штейна, мне выпал случай повстречаться со знатными французскими дамами, к которым я присматривался с сугубым любопытством. Одна из них (мне сказали, что она любовница герцога Орлеанского) была статной женщиной уже в летах, с агатовыми глазами и с черными как смоль волосами, бровями и ресницами. Величаво-горделивая во всех своих повадках, она соблюдала сдержанную приветливость в застольных беседах. Дочь этой дамы, живой портрет матери в юном ее возрасте, за все время не промолвила ни словечка. Тем оживленнее и прельстительней казалась княгиня Монако, не скрывавшая своей близости с принцем Конде, – бесценное украшение Шантийи в счастливую его пору. Кто мог бы сравниться с этой стройной белокурой красавицей, юной, жизнерадостной, склонной к изящной шаловливости? Ни один мужчина не устоял бы перед нею, стоило ей только захотеть. Я смотрел на нее, не выдавая моего изумления. Думал ли я здесь повстречаться с другой Филиной! Но то была она, во всей ее шумливой неугомонности, свежая, неистощимо веселая. В ней – в отличие от прочих – не замечалось ни боязливой скованности, ни напряженного беспокойства. И то сказать, вся эмиграция жила здесь в постоянных тревогах, зыбких надеждах и непроходящем страхе. Как раз в эти дни союзники вторглись в пределы Франции. Сдастся ли Лонгвиль или будет сопротивляться? Перейдут ли войска республики на нашу сторону? Встанут ли все и каждый, как нам обещали, за «правое дело», что не в пример облегчило бы наше продвижение? Все эти вопросы, чаяния и сомнения не получали четкого ответа. Ждали курьеров. Но вот они прибыли с неутешительной вестью, что наши войска продвигаются крайне медленно из-за полного бездорожья. Затаенное стремление всех эмигрантов – как можно скорее вернуться на родину – к тому же омрачалось еще и опасением, что не так-то трудно было догадаться об истинной причине их нетерпения, а именно – о радужной надежде этих господ извлечь немалую пользу из ассигнаций, этого изобретения их врагов, чтобы тем быстрее вернуться к былой удобной и вольготной жизни.
Два вечера я провел в приятном общении с Губерами, с Земмеррингами, Форстерами и прочими друзьями. Здесь на меня опять дохнуло воздухом отечества. В большинстве своем давние знакомые и товарищи по университету, они все чувствовали себя как дома в близлежащем Франкфурте (супруга Земмерринга была франкфуртской уроженкой); все без исключения знали мою мать, восхищались ее яркой самобытностью, приводили иные меткие ее суждения и наперебой меня уверяли, что я очень ее напоминаю как живостью речи, так и веселым своим нравом. Сколько поводов, сколько отзвуков былого воскрешало нашу прежнюю близость, исконную и вошедшую в привычку! Благодушные шутки, намекавшие на давние ученые дискуссии и философские потасовки, поддерживали в нас безмятежное веселье. О политике мы не говорили. Все понимали, что нужно щадить друг друга. Мои друзья не слишком скрывали свои республиканские убеждения, а ведь я спешил пристать к союзной армии, которая как раз собиралась покончить с такими умонастроениями и с вытекавшими из них последствиями.
Между Майнцем и Бингеном я стал невольным свидетелем сцены, проливающей свет на все происходившее. Наш легкий экипаж без труда нагнал тяжело груженную карету, запряженную в четверку лошадей. Вконец изъезженная колея на холмистом скате принудила нас выйти из экипажа; послезали с козел и ямщики. Мы спросили их, кто это едет перед нами. Почтальон перегруженной кареты нам ответил, бранясь и кляня все на свете, – француженки. Они, чай, думают, что им с их дрянными бумажонками все дороги открыты, но он им еще покажет: вывалит их на первом же повороте. Мы указали ему на непристойность подобных речей, но это ничуть его не образумило. Ехали мы очень медленно, что дало мне возможность подойти к спущенному оконцу кареты и дружелюбно заговорить с милой дамочкой, отчего ее молодое лицо, омраченное заботами и опасениями, заметно просветлело.
Она поспешила мне сообщить, что едет в Трир к своему супругу, а там, при первой же возможности, – во Францию. Я попытался ей втолковать, какими опасностями чревата столь опрометчивая поспешность, в ответ на что она откровенно призналась, что ею руководит не одно лишь желание поскорее свидеться с мужем, но и необходимость безвозбранно расходовать республиканские ассигнации. Она так твердо верила в победоносное наступление объединенных сил пруссаков, австрийцев и эмигрантов, что удержать ее от рискованной затеи смогли бы разве что само время и полное бездорожье.
И что же, еще не кончились наши пересуды, как уже объявилась новая непредвиденная беда: дорогу, идущую глубокой лощиной, нежданно перегородил деревянный желоб, посредством которого подавалась потребная вода наливной мельнице по ту сторону дороги. Высота подпор этого сооружения предусматривала разве что высоту телеги с сеном, но для не в меру нагруженной кареты, увенчанной пирамидой из разных сундучков и коробок, желоб стал неодолимым препятствием.
Тут брань и проклятья ямщиков, уразумевших, какой потерей времени грозит им эта новая задержка, возобновились с удвоенной силой. Но мы предложили несчастной дамочке дружескую помощь и сами стали снимать и вновь увязывать поклажу по ту сторону водоточивого шлагбаума.
Симпатичная молодая дама, заметно ободренная нашей помощью, не знала, как и благодарить нас. Но вместе с благодарностью непомерно возросли и ее надежды на наши дальнейшие услуги. Уже она вручила мне клочок бумажки с именем ее мужа, настойчиво прося оставить для нее у городских ворот сведения о местонахождении ее супруга. В том, что мы раньше нее прибудем в Трир, она не сомневалась. Но город был так велик, что трудно было ждать успешности наших поисков. Однако дамочка никак не хотела расстаться со своей верой в наше всемогущество.
Прибыв в Трир, мы убедились воочию, что город до отказа забит войсками и экипажами всех мыслимых образцов; найти себе пристанище было, видимо, невозможно. Одна из площадей была сплошь уставлена каретами. Люди скитались по улицам, тщетно взывая о помощи к вконец растерянным квартирьерам. Хаос подобен лотерее: кому повезет, вытянет счастливый номер. Мне, по счастью, повстречался лейтенант фон Фрич из полка нашего герцога. После самых дружеских приветствий он препроводил меня к канонику, в его огромный дом с обширным двором, который принял меня, мой экипаж и скромную поклажу. Встреченный не менее дружелюбно и здесь, я сразу же предался желанному отдыху. Мой юный марциальный друг был мне знаком, то бишь представлен, еще ребенком; теперь он получил задание позаботиться здесь, в Трире, о больных, принимать и направлять в воинские части отставших, а также обозы с провиантом и боевыми припасами. Мне-то это было на руку, конечно, но сам он неохотно оставался в тылу, где для него, человека молодого и честолюбивого, не представляли случай отличиться.
Мой слуга, едва успев распаковать необходимейшее, отпросился в город, чтобы в нем осмотреться. Вернулся он поздно, а наутро непонятное беспокойство вновь погнало его прочь из дома. Я поначалу не знал, чем и объяснить столь странное его поведение; но вскоре загадка разъяснилась: прекрасная француженка и ее спутница не обошли и его благодарностью. Он лез вон из кожи, стараясь разыскать их, в чем и преуспел, узнав среди сотен карет их колымагу по водруженному на ней множеству всякой поклажи. Но найти супруга хорошенькой барыньки ему – увы! – так и не удалось.
На пути из Трира к Люксембургу меня весьма порадовал дивный монумент, воздвигнутый неподалеку от Игеля. Я знал, как удачно древние выбирали места для своих храмов и памятников, а потому, мысленно отбросив все окружавшие его крестьянские хижины, я мог сполна убедиться, что и ему было предоставлено достойное месторасположение. Рядом протекает Мозель, с которым здесь воссоединяется другая река – многоводный Саар. Изгибы двух рек, волнообразно вздымающиеся холмы, пышная зелень – все это придает сему уголку земли неизъяснимое очарование.
Памятник близ Игеля можно по праву назвать обелиском с архитектоническими и пластическими украшениями. Несколько поставленных друг на друга ярусов, различных по художественному их убранству, стройно возносятся ввысь; их увенчивает шпиль, покрытый чешуйчатой черепицей, завершающийся шаром, орлом и змеей.
Быть может, наше неспокойное время забросит сюда дельного инженера и на какой-то срок прикрепит его к данной местности; если он не поскупится затратить время на обмер этого сооружения и, будучи к тому же рисовальщиком, воссоздаст, нам на радость, также и расположенные на четырех сторонах монумента нестершиеся изображения, это будет отлично.
Сколько безрадостных, лишенных каких-либо украшений обелисков было воздвигнуто в мое время без того, чтобы кто-либо вспомнил об этом памятнике! Правда, этот обелиск относится к поздней эпохе античной культуры, но в нем еще чувствуется стремление человека зримо запечатлеть и передать далеким потомкам свое пребывание на земле вместе со всем, что тебя окружает и свидетельствует о твоей деятельности, о твоем житье-бытье. Вот родители и дети в тесном кругу сидят за обеденным столом, а чтобы зритель знал, откуда бралось их богатство, ниже везут товары ломовые лошади; многообразно воспроизведены торговля и ремесла. Ведь этот памятник был, надо думать, сооружен тогдашними завоевателями для себя и для своих – в знак того, что и в этом краю, прежде и теперь, можно достичь полного житейского благополучия.
Весь этот пирамидально построенный памятник был сложен из грубо отесанных плит песчаника, на его сторонах, как на поверхности скалы, были высечены выразительные рельефы. Долговечность сооружения, простоявшего столько веков, очевидно объясняется капитальностью его кладки.
Долго предаваться таким мирным и приятным размышлениям мне, однако, не пришлось. Дело в том, что тут же рядом было для меня уготовано совсем другое, современнейшее зрелище: в Груневальде стоял корпус эмигрантов, сплошь укомплектованный дворянами, в большинстве своем к тому же кавалерами ордена святого Людовика. Ни слуг, ни конюхов у них не было; все они самолично обслуживали себя и своих лошадей. Я видел не раз, как иные из них вели коней на водопой или на перековку в кузню. Тем ярче контрастировал с этим смиренным самообслуживанием вид большого луга, густо уставленного каретами и дормезами. Благородные кавалеры прибыли сюда с женами и любовницами, чадами и домочадцами, как бы желая наглядно показать несоответствие нынешнего их положения с некогда привычным.
Часами дожидаясь почтовых лошадей под открытым небом, я обогатился еще одним примечательным впечатлением. Сидя неподалеку от окна почтовой станции, я наблюдал за ящиком, в прорезь которого опускались нефранкованные письма. Никогда не случалось мне видеть столь людной толпы возле почтового ящика подобного назначения: письма сотнями бросались в его прорезь. Нельзя было нагляднее и убедительнее изобразить безудержное стремление злосчастных изгнанников просочиться телом, душой и помыслами в свое отечество, хотя бы только через жалкую промоину, образовавшуюся в этой плотине.
От скуки и по укоренившейся привычке угадывать и уснащать подробностями чужие тайны, я невольно думал о том, что содержится в этом скопище писем. Уже мне мерещилась любящая девушка, вложившая всю горечь разлуки, всю страсть и мучительную боль одиночества в письмо к далекому милому; мерещился несчастный скиталец, молящий верного друга прислать ему хоть малую сумму денег – так туго скрутила его нужда; мерещились бежавшие женщины с детьми и домочадцами, в кошельке которых сиротливо звенели последние луидоры; а также – ярые приверженцы принцев, стремящиеся поддержать друг в друге бодрость и мужество, веру в близкую победу; а рядом с ними – воображались другие, уже чувствующие жестокий приговор судьбы и заранее сетующие о потере всего их состояния. Не думаю, чтобы я так уж ошибался в моих предположениях.
Многое разъяснил мне здешний почтмейстер: желая унять мое нетерпение, он всячески старался развлечь меня разговором, показывал множество писем из отдаленных мест с почтовыми штемпелями, которым теперь предстояло блуждать в поисках лиц, то ли прорвавшихся вперед, то ли задержавшихся в пути. Франция на всем протяжении ее границ – от Антверпена до Ниццы – осаждается вот такими несчастными. Но вдоль тех же границ стоят французские войска, готовясь к защите и к нападению. Он высказал многое, над чем стоило бы призадуматься. Сложившиеся обстоятельства казались ему по меньшей мере весьма неясными.
Я не был так озлоблен, как прочие, стремившиеся прорваться во Францию, отчего он, видимо, принял меня за республиканца и стал говорить со мною более откровенно. Он не скрывал от меня тех бедствий, которые уже пришлось пережить пруссакам, натерпевшимся от непогоды и распутицы на пути от Кобленца к Триру, и обрисовал в самых мрачных тонах положение союзных армий в окрестностях Лонгви, куда я теперь направлялся. Он был, как видно, хорошо осведомлен касательно хода кампании и охотно делился своими сведениями. Сообщил он мне и о том, как грабили пруссаки, особливо обозники и мародеры, мирные деревни и ни в чем не повинных крестьян. Правда, грабителей для виду наказывали, но возмущенных крестьян это не утешало.
Тут я мгновенно вспомнил одного генерала времен Тридцатилетней войны, сказавшего в ответ по поводу жалоб населения дружественной страны на бесчинства, чинимые его солдатами: «Не могу же я носить в мешке свою армию!»
Крепость Лонгви, о взятии которой мне радостно возвестили еще в пути, я оставил справа, на некотором расстоянии от дороги, и к вечеру двадцать седьмого августа прибыл к местонахождению наших войск близ Прокура. Лагерь раскинулся на плоской равнине и был весь виден как на ладони, но добраться до него было не так-то просто. Мокрая, изрытая почва затрудняла продвижение лошадей и экипажей. К тому же бросилось в глаза, что нигде нам не повстречались ни заставы, ни сторожевые посты. Никто не спрашивал у нас паспортов, но и не у кого было спросить дорогу. Мы ехали по устланной палатками пустыне: все живое искало жалкую защиту от непогоды. С великим трудом удалось разузнать, где стоял полк герцога Веймарского. Но вот мы добрались до места назначения и увидели знакомые нам лица; нас встретили как товарищей по несчастью. Первый приветствовал нас камерьер Вагнер с его черным пуделем. Оба узнали своего многолетнего знакомца, вместе с которым предстояло пережить еще одну пренеприятную полосу жизни. Услышал я здесь и еще об одном прискорбном происшествии: конь нашего государя, Амарант, вчера, дико заржав, замертво пал на землю.
То, что я услышал и увидел в лагере, далеко превосходило самые мрачные предсказания почтмейстера. Представьте себе пологий холм, у подножья которого был некогда выкопан ров, спасавший луга и поля от затопления. Ров этот вскорости превратился в место свалки всевозможной дряни и мусора; он заполнился до краев, и когда непрекращавшиеся дожди прорвали ночью земляную плотину, омерзительные нечистоты хлынули наружу. Все потроха и кости, выбрасывавшиеся мясниками, подступили к солдатским койкам, и без того промокшим и испакощенным.
И мне хотели тоже предложить палатку, но я предпочел день проводить у друзей и знакомых, а ночь – в моем дормезе, удобство которого я оценил за долгие годы. Как ни странно, но добраться до моей кареты, стоявшей всего в тринадцати шагах от палаток, было почти невозможно, так что вечером меня в нее вносили на руках, а утром тем же способом из нее извлекали.
28 августа.
Под таким знаком занялся на сей раз день моего рождения. Мы сели на коней и поехали в отвоеванную крепость. Городок, хорошо отстроенный и укрепленный, стоит на возвышенности. Я решил обзавестись большими шерстяными одеялами и с этой целью направился вместе с товарищами в близлежащую лавку, где обслуживали покупателей почтенная женщина с премиленькой дочерью. Не торгуясь, мы накупили здесь все, что нам приглянулось, и полюбезничали с продавщицами в меру отпущенных нам, неуклюжим немцам, галантных способностей.
Дому, в котором помещалась лавка, повезло во время обстрела города. Множество гранат попадало в помещения, где проживали хозяева; всё и все бежали. Мать едва успела вынуть дитя из колыбели, как вдруг новая граната пробила подушку, на которой еще мгновение назад спал младенец. К счастью, ни одна граната не взорвалась. Пострадала мебель, опалило панели в одной из комнат, не причинив худшего ущерба. Но в лавку ни одно ядро не угодило.
Жители Лонгви не отличались особым патриотизмом, что явствовало уже из того, как быстро они принудили коменданта сдать их город противнику. Не успели мы выйти из лавки, как сразу же нам открылся внутренний раскол населения. Монархисты, а значит, наши друзья, благодаря которым мы так скоро захватили Лонгви, горько сетовали, что мы по оплошке зашли в магазин ярого якобинца и дали возможность выручить уйму денег подлому человеку, который со всей-то своей семьей и ломаного гроша не стоит. Они же нас предупредили, что одна, с виду шикарнейшая, гостиница зело подозрительна; доверять безвредности тамошней пищи никак-де не стоит, и тут же горячо рекомендовали нам другую, более скромную, но надежную, где нас и впрямь встретили весьма радушно и недурно накормили.
Тут мы сошлись за общим столом, старые товарищи по оружию, по гарнизону и по службе герцогу Веймарскому, усевшись друг подле друга или супротив друг друга: офицеры герцогского полка, приближенные государя и служащие личной его светлости канцелярии. Говорили о недавних событиях, о значительном и всех воодушевившем майском дне в Ашерслебене, когда войска получили приказ готовиться к предстоящему походу; вспоминали, как нас посетил сам герцог Брауншвейгский вкупе с другими генералами. Не позабыт был и маркиз де Буйе, иноземец, принявший деятельное участие в разработке предстоявших военных операций. Как только его имя коснулось уха нашего хозяина, усердно внимавшего нашим речам, он поспешил осведомиться, знаем ли мы его лично. Большинство из нас могло ответить на сей вопрос утвердительно. Хозяин лишний раз выказал нам свое полное уважение и изъявил надежду, что содействие столь достойного мужа будет и впредь нам полезно. Мне даже показалось, что после этого нас стали обслуживать еще внимательнее.
Поскольку все мы, здесь собравшиеся, были душой и телом преданы нашему государю, достойно правившему своей страной вот уже столько лет, а ныне взявшемуся за ремесло военачальника, о чем он мечтал с ранней юности, и тут оказавшись на высоте, мы, по исконно немецкому обычаю, усердно звенели бокалами во здравие его светлости и всего его дома, особливо же принца Бернгарда, крестным отцом коего был майор фон Вейрах, представлявший полк, каковым командовал герцог на крещении принца, состоявшемся в самый канун кампании.
Но и о нынешнем походе каждый мог рассказать немало: о том, к примеру, как мы, оставив Гарц по левую руку, пошли на Нортгейм, минуя Гослар, прямиком через Геттинген. Не поскупились собутыльники и на отзывы о перевиданных квартирах, превосходных и, напротив, прескверных, о хозяевах, по-мужицки неприветливых, о просвещенных скептиках, мрачных или ипохондрически-благодушных, о женских монастырях, о разительных переменах в ландшафтах и в погоде. После Нортгейма Веймарский полк, не переступая восточной границы Вестфалии, дошел до Кобленца: вспоминались хорошенькие женщины, чудаковатые попы, нежданные встречи с друзьями, разбитые колеса, опрокинутые кареты – словом, всякая всячина.
Начиная с Кобленца, не затихали жалобы на пересеченную местность, на труднопроходимые дороги и недостатки в снабжении. Рассеявшись воспоминаниями о прошлом, мы перешли к неприглядному настоящему. Вторжение во Францию в ужасную непогоду всеми ощущалось как истинное бедствие, чуть ли не как зловещий пролог к тому, что нас ожидало по возвращении в лагерь. Однако в такой неунывающей компании каждый почерпал мужество у другого. Меня же больше всего утешал вид великолепных теплых одеял, которые мой слуга приторочил к седлу запасной лошади.
В лагере, в нашем большом шатре, я застал наилучшее общество; никто не уходил, страшась непогоды. Все были в отличном настроении и полны самых радужных надежд. Молниеносная сдача Лонгви явно подтверждала заверения эмигрантов, что нас всюду будут встречать с распростертыми объятьями. Казалось, нашему наступлению препятствовала одна лишь погода. Пруссаки, австрийцы, эмигранты – все ненавидели революционную Францию и питали к ней презрение, высказанное в грозном манифесте герцога Брауншвейгского.
И то сказать, черпая факты из наших официальных воззваний и реляций, можно было легко заключить, что народ, в такой степени утративший общую идею, расколовшийся уже не на партии даже, а на отдельные единицы, не сможет противостоять высокому чувству единства союзников, воодушевленных благороднейшей целью.
Было что рассказать и о уже совершенных нами воинских подвигах. Сразу же после вступления на французскую землю пять эскадронов наших гусар под командой бравого фон Вольфрата натолкнулись при рекогносцировке на тысячу французских стрелков наблюдавших за продвижением нашего войска со стороны Седана. Предводимые отважным офицером, наши напали первыми, но и противная сторона мужественно оборонялась и не просила пардона. Началась ужасная резня, в которой наши одержали победу, взяли пленных, захватили лошадей, карабины, сабли. Такое славное начало укрепило воинственный дух, утвердило светлые надежды. Двадцать девятого августа мы снялись с места и начали медленно, но верно выбираться из полузастывшего месива. Как можно было здесь содержать в чистоте мундиры и снаряжение, равно как и палатки, если не было ни одного сухого местечка, где бы можно было почиститься, разостлать и сложить как положено свои вещи.
Однако внимание, уделявшееся нашему выступлению самими высокими чинами, вселяло в нас новую уверенность. Всем повозкам и экипажам было строжайше приказано следовать позади колонны. Лишь командирам полков дозволялось ехать в экипаже впереди своих частей, благодаря чему мне и выпало счастье продвигаться в герцогской карете во главе всей армии. Оба полководца, прусский король и герцог Брауншвейгский, со своими свитами заняли позицию, дающую им возможность пропустить мимо себя всю союзную армию. Я увидел их еще издали, и когда мы к ним приблизились, его величество подъехал к моей карете и в привычной для него сугубо лаконичной манере спросил: «Чья карета?» Я громко ответил: «Герцога Веймарского!» – и мы поехали дальше. Вряд ли чью-нибудь карету когда-либо окликало столь высокое лицо.
Далее дорога заметно улучшалась. В такой чудной местности, где холмы сменяли долины, а долины – холмы, для верховых лошадей оставалось еще довольно сухого пространства, чтобы спокойно продвигаться вперед. Я сел на коня, и дело пошло на лад. Наш полк, как сказано, шел в авангарде союзной армии, и это дало нам возможность вырваться вперед, не считаясь с медлительным продвижением колонн.
Свернув с большой дороги и миновав Арронси, мы достигли Шатийон-Лаббе, первого предвестника совершившейся революции: обмирщвленное и уже проданное бывшее владение Римской церкви с ныне упраздненным монастырем, ограда которого была частию снесена, частию порушена.
Тут-то мы и сподобились лицезреть его величество короля, на борзом коне через холмы и долины промчавшегося мимо нас – подобно ядру кометы с предлинным хвостом его свиты. Как только сей феномен исчез с быстротою молнии из поля нашего зрения, с иной стороны другой всадник, на миг увенчавший безымянную высоту, своей особой, тут же устремился вниз, к равнине. То был герцог Брауншвейгский – вторая комета со сходным хвостом из ординарцев и штабных офицеров. Мы, более склонные наблюдать, нежели судить и рядить, все же невольно спрашивали себя, кто же из этих двух, по сути, главнейший? Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья.
Смущало нас и то, что оба полководца так бесстрашно и беспечно вступают в чуждые пределы, где за каждым кустом может таиться их смертельный враг. Но, с другой стороны, кто не слышал, что личная отвага приносит победу, что храбрость города берет и что горние силы покровительствуют бесстрашному.
Все небо было сплошь затянуто облаками, но незримое солнце изрядно припекало. Повозки тонули в рыхлой песчаной почве и едва могли продвигаться. Разбитые колеса повозок, карет и пушек то и дело прерывали продвижение; вконец измученные пехотинцы падали в полном изнеможении. Но вдали слышалась канонада под Тьон-Виллем. Все желали успеха нашему оружию.
Вечером мы отдыхали в лагере близ Пиллона. Прелестная лесная поляна обдавала нас живительной прохладой; не было здесь недостатка и в кустарниках для кухонных костров; протекавший тут же полноводный ручей образовал две заводи с прозрачной водой, которую вот-вот грозили замутить люди и животные. На одну заводь я махнул рукой, но другую отстаивал энергично, велев окружить ее кольями и вервием. Пришлось немало покричать на особо напористых вояк. Я слышал, как один из наших конников, занятых надраиванием сбруи, спросил другого: «Кто это там корчит из себя начальство?» Тот ответил: «Не знаю, но он дело говорит».
Вот так вторглись пруссаки и австрийцы вместе с французскими приспешниками во французские пределы, чтобы там показать свою воинскую доблесть. Но по чьему приказу мы сюда пришли? Можно, конечно, вести войну и по собственному почину, да к тому же война была нами отчасти все же объявлена, и ни для кого не было секретом, что мы состояли в союзе с австрийцами. Но дипломаты изобрели совсем особую теорию: мы-де здесь выступаем как бы от имени Людовика XVI, посему мы занимаемся никак не реквизицией, а всего лишь берем насильственно взаймы. Были отпечатаны боны, подписанные главнокомандующим, и таковые каждый, у кого они имелись, мог заполнять по своему усмотрению. Предполагалось, что их оплатит все тот же король Людовик. После манифеста герцога Брауншвейгского, быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия. Я и сам был свидетелем глубоко трагической сцены, которая мне запомнилась на всю жизнь. Несколько пастухов соединили свои отары, чтобы скрыть их в лесах или в другом каком-либо укромном месте. Но наши ретивые патрули их выследили и привели в наш лагерь, где их встретили поначалу вежливо и дружелюбно, расспрашивали, кто владелец этих овец; подсчитали и разделили каждое стадо в отдельности. На лицах этого трудового люда страх и заботы чередовались с проблесками зыбкой надежды. Но когда вся эта длительная процедура завершилась тем, что овцы были поделены между полками и подразделениями, а пастухам вежливо вручили боны, выписанные на имя Людовика XVI и тут же, на их глазах, изголодавшаяся по мясу солдатня принялась умерщвлять их курчавых подопечных, то, сознаюсь, мне едва ли когда-либо случалось видеть столь жестокую сцену и такую гложущую боль пострадавших во всех ее проявлениях. Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною такого неизбывного горя.








