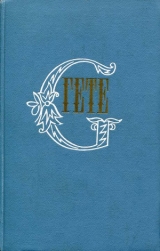
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Очнувшись от глубокого сна, я почувствовал себя освеженным, но, пожалуй, уже чересчур. Вода просочилась в мою постель: промок и я, и все мои пожитки. Пришлось встать, отыскать пивнушку для водников и там, на глазах у жующей табак и смачно лакающей липкий глинтвейн публики, по мере возможности как-то пообсушиться. Ранние утренние часы были упущены. Но мы тем усерднее налегли на весла, чтобы возместить невольную задержку.
НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Пытаясь восстановить силою воображения мое плаванье вниз по Рейну, мне никак не дается точно воссоздать все то, что во мне тогда происходило. Безмятежно-зеркальная водная гладь, чувство, что я без помех скольжу по ней, позволяло мне смотреть на недавнее прошлое как на дурной сон, от которого я вот только что очнулся. Я весь отдался светлым надеждам на радостную встречу с давними друзьями.
Но, собираясь продолжить мой рассказ, я должен буду прибегнуть к совсем другому способу изложения, чем тот, которого я придерживался в предыдущих записях. Ибо только там, где на наших глазах изо дня в день вершатся великие события, где мы заодно с тысячами нам подобных страдаем, испытываем страх и, превозмогая его, продолжаем робко надеяться, настоящее обретает решающее значение и шаг за шагом нами пересказанное воскрешает минувшее и указует на будущее.
Другое дело – событие, свершающееся в тесном дружеском кругу. Оно может быть понятно лишь как нравственное следствие целого ряда изъявлений духовной жизни. Здесь рефлексия более чем уместна. Ибо отдельно взятый момент сам себя не разъясняет. Ему служат толмачами воспоминания о прошлом, ранее содеянном, а также позднейшие его высказывания.
Я всегда жил скорее бессознательно, изо дня в день, какие бы дни ни набегали, и чувствовал себя при этом, особенно в последние годы, совсем не плохо; в полном согласии со сказанным, я также никогда заранее не обдумывал предстоящей беседы с незнакомым лицом или того, что сам собираюсь сказать, впервые посещая какое-либо общество, во всем полагаясь на вразумляющую силу непосредственных впечатлений. Выгода такой привычки очевидна: не приходится отказываться от предвзятой идеи, нет нужды разрушать загодя сложившегося образа и с неудовольствием заменять его другим, более соответствующим действительности. Но в иных случаях сказывались и отрицательные стороны этой моей привычки: обходясь без предварительного обдумывания сложившейся обстановки, действуя экспромтом, так сказать, на ощупь, я подчас довольно долго блуждал в потемках, не нападая на простейшее решение вопроса.
По той же причине я никогда не заботился и о том, как действует на людей личное общение со мной и мои преходящие умонастроения, и потом, к величайшему моему удивлению, обнаруживал, что в ком-то вызвал к себе приязнь или неприязнь, а то зараз и то и другое чувства.
Можно, конечно, не одобряя и не порицая такого поведения, попросту счесть его самобытной чертой характера, но нельзя не признать, что как раз в данном случае такая самобытность подчас приводила к странным и не всегда утешительным последствиям.
Я много лет не встречался с моими друзьями. Они оставались верны раз избранному пути; тогда как мне выпал жребий пройти через целый ряд искушений и испытаний и множество разнородных видов деятельности, так что я, ни в чем не изменяя своей сути, все же стал совсем другим человеком, давним друзьям моим ничуть не знакомым.
Не так-то легко, даже и в зрелые годы, когда обретаешь более свободный взгляд на пройденный жизненный путь, давать точный отчет о каждом повороте своего развития, а он представляется то шагом вперед, то, напротив, попятным шагом, тем более когда ты убежден, что по милости господней любой шаг на предназначенной тебе мете служит человеку на пользу и преуспеяние. И все же, невзирая на трудности, я попытаюсь, в угоду моим друзьям, кое-что разъяснить хотя бы только намеками.
Нравственный человек может внушить к себе любовь и симпатию лишь в том случае, если в нем замечаешь некое томление духа. Таковое вмещает в себе обладание и жажду – обладание собственным нежным сердцем и жажду найти такое же сердце в другом. Первое притягивает к нам, второму мы сами отдаемся.
Томление, во мне заложенное, которому я в мои ранние годы, быть может, чрезмерно предавался, а потом старался в себе побороть, зрелому мужу было уже не к лицу и нисколько его не удовлетворяло, почему я и принял решение хотя бы раз полностью насытиться тем, что было моей мечтою. Целью моей тайной тоски, гложущей мою душу, была Италия, образ и подобие которой передо мною тщетно витали столько лет, покуда я не собрался с духом и не отважился соприкоснуться с ее зримой явью. В эту дивную страну мои друзья охотно меня сопровождали и туда и обратно, хотя бы только мысленно. Оставалось только пожелать, чтобы они и впрямь разделили со мной мое длительное пребывание в этой стране, а потом проводили бы меня домой, на родину. Сколько насущных проблем тем самым тогда бы разрешилось!
В Италии я постепенно отрешался от мелкотравчатых представлений, от беспочвенной мечтательности. Место тоски по стране искусств заступила тоска по самому искусству; я узрел великое искусство и теперь хотел проникнуть в его тайны.
Изучение пластических искусств, а также великих писателей древности служит нам надежным подспорьем, более того – примиряет нас с нами же самими. Насыщая нашу душу великими впечатлениями и помыслами, искусство овладевает всеми нашими высокими стремлениями, которые казались нам осуществимыми только вовне, оно же, искусство, осуществляет их в тиши нашей душевной глуби. Потребность в общении при этом заметно убывает. То, в чем нуждается живописец, ваятель, зодчий, становится неотложной потребностью также и любителя, и он работает в одиночестве, ради наслаждений, коими поделиться с другими ему почти никогда не удается.
В это же самое время меня отобщила от друзей еще одна отрасль моих занятий, а именно: мое решительное обращение к природе, к чему меня влек неизъяснимым образом заложенный в меня неотъемлемый инстинкт. Тут я не повстречался ни с мастерами, ни с подмастерьями, тут я один должен был постоять за все и за всех. В безлюдных лесах и садах, во мраке темных камер я остался бы в полном одиночестве, если б не счастливые домашние обстоятельства, внесшие в ту эпоху вынужденного затворничества согревающее тепло и услаждающую нежность. «Римские элегии» и «Венецианские эпиграммы» создавались именно в эту пору.
Тогда же мне довелось впервые ощутить приближение нескончаемых войн. Я был вызван моим государем, с тем чтобы при нем состоять в намечавшейся Силезской кампании, так, впрочем, и не состоявшейся благодаря Рейхенбахскому конгрессу, что привело к моему краткому пребыванию в этой прекрасной стране, обогатившей мой жизненный опыт и настроившей меня на более возвышенный лад, что мне, однако, отнюдь не мешало легкомысленно предаваться веселым утехам в то самое время, когда происшедший во Франции злосчастный государственный переворот, все более расширяясь, призывал каждого, какими бы мечтами и надеждами он ни тешился, помнить о тревожных обстоятельствах, сложившихся в Европе и всем нам грозивших жестокими испытаниями.
Долг заставил меня сопровождать моего государя сначала в сомнительных, а потом и трагически обернувшихся событиях, потребовавших от всех немалого мужества и чрезвычайной выдержки. Я рискнул ознакомить моих читателей с ужасами, выпавшими на нашу долю, только в весьма смягченном пересказе; иначе все то нежное и задушевное, что еще теплилось в наших сердцах, могло бы полностью порушиться и испариться.
Если подвести итог всему, что здесь было сказано, то мое душевное настроение, бегло запечатленное на последующих страницах, быть может, не покажется столь уж загадочным, чего бы я никак не хотел – уже потому, что мне лишь с трудом удалось побороть искушение заново изложить мои былые небрежные записи с учетом моих позднейших взглядов и убеждений.
Пемпельфорт, ноябрь 1792 года.
Уже стемнело, когда я приземлился в Дюссельдорфе и тотчас же выехал в Пемпельфорт с зажженными фонарями. После радостного переполоха, внесенного моим неожиданным появлением, я был принят хозяевами как нельзя лучше и сердечнее. Торопливые расспросы и отрывисто-краткие ответы, какими обычно обмениваются друзья при первой встрече после долгого перерыва, поглотили немалую часть наступившей ночи.
Следующий день прошел в рассказах, вопросах, ответах, и я быстро свыкся с новым местом. Неудавшийся поход давал обильную пищу для разговоров; никто не представлял себе столь печального его исхода. И никто не умел выразить, как страшно подействовало на людей роковое молчание, продолжавшееся без малого месяц, – никаких известий, что усиливало ощущение неопределенности. Казалось, земля поглотила войско союзников – они не подавали о себе вестей; вглядываясь в жуткую пустоту, все были мучимы страхом и теперь с ужасом ждали, что война перекинется в Нидерланды; было ясно, что под угрозой находится левый берег Рейна, а заодно и правый.
Беседы на моральные и литературные темы отвлекали нас от этих горестей, но мой реалистический взгляд на вещи не слишком радовал окружающих.
После революции, чтобы меньше думать обо всех этих диких событиях, я начал работать над одним странным произведением. В нем рассказывалось о путешествии семи очень непохожих друг на друга братьев, каждый из которых по-своему служит общему союзу, – вещь сказочная и фантастическая, запутанная, скрывающая цель и перспективу, притча о событиях нашей эпохи. От меня потребовали, чтобы я прочитал ее, я не заставил себя долго упрашивать, но очень скоро убедился, что она никому не нравится. Поэтому я бросил странствующее семейство в первой попавшейся гавани и больше об этой рукописи не вспоминал.
Друзья не могли сразу примириться с моим новым настроением; к чему только не прибегали они, чтобы вызвать в душе моей былые чувства: сунули мне в руки «Ифигению», чтобы я читал ее вслух по вечерам; из чтения ничего не вышло, кротость чувств была в ту пору чужда мне, а слушать, как декламируют «Ифигению» другие, было мне не под силу. Пьесу отложили в сторону, но мне казалось, что они решили допекать меня пытками еще более изощренными. Принесли «Эдипа в Колоне», однако возвышенная святость его была невыносима моим чувствам, всецело обращенным к искусству, природе, миру, – чувствам, ожесточившимся в тяжелую кампанию; я не выдержал и сотни строк. Тут уж всем пришлось смириться с новым умонастроением друга, тем более что в разных темах для бесед недостатка не было.
Мы вспоминали разные превосходные сочинения старой немецкой словесности, но беседа никогда не заходила слишком глубоко, чтобы не затрагивать явных признаков различия во взглядах.
Если мне позволено будет включить сюда общее рассуждение, то нужно сказать, уже лет двадцать, как наступила замечательная пора, когда значительные личности объединялись и люди в одном сходились, хотя в остальном друг от друга отличались: каждый был высокого мнения о себе, но все старались относиться друг к другу почтительно и бережно.
Талант укреплял свое завоеванное достояние – всеобщее уважение; люди умели поддерживать и укреплять дружеские связи; преимущества, приобретенные таким образом, защищал уже не каждый в отдельности, но все взаимосогласное большинство. Само собой разумеется, что тут соприсутствовала известная преднамеренность; как все светские люди, они искусно выбирали друзей и знакомых, умели прощать друг другу странности, чувствительность одного поддерживалась чувствительностью другого, взаимное непонимание долго оставалось под спудом.
В этих условиях положение мое было любопытно: талант отводил мне почетное место в обществе, но мое страстное отношение ко всему, в чем я видел истину, провоцировало меня на резкости, когда мне казалось, что чьи-то устремления ложны. Поэтому я частенько ссорился с членами нашего кружка, потом мирился, на словах или на деле, но продолжал идти своим путем в высокомерной уверенности, что правда на моей стороне. Известную наивность вольтеровского Гурона я сохранил до зрелых лет, а потому меня в одно и то же время любили и не терпели.
Западная, чтобы не сказать французская, литература была как раз той сферой, где мы были менее скованы и более согласны друг с другом. Якоби шел своим путем, но он усваивал все существенное, а близость Нидерландов способствовала тому, что не только как литератор, но и как личность он был вовлечен в упомянутый дружеский круг. Хорошо сложенный, с приятными чертами лица, он умел вести себя скромно, предупредительно и любезно и блистал в любом образованном обществе.
Удивительное время, которое ныне трудно себе даже представить. Вольтер разбил узы, сковывавшие человечество, умные люди стали сомневаться в том, что прежде считали высокодостойным. Фернейский философ силился ослабить, уменьшить влияние духовенства, прежде всего имея в виду Европу; де Пау, напротив, распространил дух завоеваний на отдаленные части света: ни за китайцами, ни за египтянами не признавал он того достоинства, какое приписывал им давний предрассудок. Каноник в Ксантеке, не столь удаленном от Дюссельдорфа, он поддерживал дружеские отношения с Якоби и еще со многими другими.
А потому упомянем еще только Гемстергейса: нелицеприятно преданный княгине Голицыной, он подолгу жил в Мюнстере. Гемстергейс, вместе с людьми, родственными ему по духу, стремился к кроткой умиротворенности, к идеальному миру души, склоняясь к платонически-религиозному умонастроению.
В таких фрагментарных воспоминаниях надлежит назвать и Дидро, страстного диалектика, который тоже любил гостить в Пемпельфорте, где он откровенно отстаивал свои парадоксы.
Взгляды Руссо на природу тоже не были чужды этому кругу; впрочем, члены его никого не исключали, как не изгоняли и меня, хотя часто только терпели.
О том, как влияла на меня в юные годы литература других стран, уже говорилось не раз. Я мог воспользоваться чужим для своей надобности, но внутренне его не усваивал, а потому не способен был и дискутировать о нем. Столь же странно обстояло дело и с моим собственным творчеством: оно шло рука об руку с моим жизненным развитием, а поскольку это развитие оставалось тайной даже для самых близких друзей, то сжиться с моими новыми произведениями им удавалось нечасто, потому что они всегда ожидали чего-либо похожего на ранее мною написанное.
С «Семью братьями» я пришелся не ко двору оттого, что они ничем не напоминали свою сестру «Ифигению». Я заметил, что раню друзей и «Великим Кофтой», комедией давно напечатанной, хотя речь о ней не заходила, да и я ее не заводил. Но кто не согласится, что писателю, который не смеет читать вслух свои новейшие сочинения, бывает не по себе, так же как композитору, которого не просят играть его новейших опусов.
То же самое и с моими наблюдениями над природой; моя страстная преданность этим занятиям оставалась непонятой, никто не замечал, что она проистекает из глубин моего существа, мои стремления большинству казались ошибкой, капризом; по их мнению, я мог бы делать что-нибудь поинтереснее, предоставляя моему дарованию идти прежним путем. Они считали себя вправе думать именно так, потому что я не признавал их образа мыслей и в ряде случаев придерживался прямо противоположных. Трудно себе представить человека более одинокого, чем я в ту эпоху, да и много позднее. Я был приверженцем гилозоизма (или как еще угодно его именовать) и признавал всю святость и достоинство за глубинами этого учения. Поэтому я был невосприимчив, нетерпим даже, к такому образу мыслей, когда в качестве символа веры выставляется мертвая, лишь впоследствии приводимая в движение и возбуждаемая (все равно каким началом) материя. От внимания моего не ускользнул тот момент в Кантовом учении о природе, где утверждается, что силы притяжения и отталкивания принадлежат к самой сущности материи и не могут быть отделены от нее; благодаря этому передо мною раскрылась извечная полярность всего сущего, проникающая и одушевляющая великое многообразие явлений природы.
Уже и прежде, когда княгиня Голицына посетила Веймар вместе с Фюрстенбергом и Гемстергейсом, я излагал свои взгляды, но был ими поставлен на место и, словно богохульник, должен был замолчать.
Если люди замыкаются в своем кругу, это нельзя ставить им в вину; а мои друзья в Пемпельфорте поступали именно так. «Метаморфозы растений», напечатанной за год до того, они почти не заметили, а когда я, со всею последовательностью, излагал столь привычные для меня идеи морфологии, добиваясь, как мне казалось, предельной убедительности, я с сожалением видел, что умами моих слушателей безраздельно владело закостеневшее представление: не может возникнуть ничего, кроме того, что уже есть. В конце концов мне пришлось заново выслушать, что все живое происходит из яйца, и мне оставалось лишь горько пошутить, напомнив им вечный вопрос: что было раньше – курица или яйцо? Однако преформизм казался им столь же ясным, сколь утешительным созерцание природы в духе Бонне.
О моих «Оптических работах» они что-то прослышали, и я не заставил долго себя просить, а решил развлечь собравшихся некоторыми феноменами; мне было нетрудно ознакомить их с новыми опытами, ибо присутствовавшие, несмотря на свою образованность, затвердили мысль о составной природе света и все живое, радующее глаз, сводили к этой мертвой гипотезе.
Впрочем, какое-то время я мирился с подобными возражениями, так как еще не бывало, чтобы я сообщал что-либо без прямой пользы для себя; обычно, пока я говорил, я постигал прежде мне неизвестное; в потоке речи я едва ли не всегда открывал нечто новое и для себя.
Правда, мне приходилось излагать материал лишь дидактически и догматически, поскольку подлинного дара диалектической беседы у меня не было. Зато была дурная привычка, в которой я должен покаяться: когда обыденный разговор, в котором высказывались лишь ограниченные или личные взгляды, наскучивал мне, я имел обыкновение возмущать течение узкого спора резкими, доведенными до крайности парадоксами. Обычно это лишь обижало и сердило присутствующих. Потому что нередко мне приходилось играть роль злого духа, чтобы добиться своего, людям ведь хотелось быть добрыми и добрым же видеть меня; они не допускали парадоксов, не принимали их всерьез как неосновательные, а шуткой не могли считать из-за их резкости. В конце концов меня прозвали лицемером навыворот и вскоре примирились со мною. Однако многих моя злость отпугнула, а некоторых обратила в моих врагов.
Но стоило мне начать рассказывать об Италии, как злые духи исчезали, словно по мановению волшебной палочки. В Италию я отправился без подготовки и без раздумий, отчего со мною и случались всякие приключения. Величие и прелесть этой страны глубоко врезались мне в память; образ, краски, дух ландшафта, осиянного благосклоннейшим небом, все еще стояли у меня перед глазами. Слабые попытки зарисовать некоторые пейзажи обострили мою память, я эти пейзажи описывал, словно и сейчас видел их, не забыл я и о людях, эти пейзажи оживлявших; все были довольны живо воссозданными мною картинами, порою даже восхищены.
Дабы изобразить приятность пребывания в Пемпельфорте, надо хорошо представить себе, где все это происходило. Просторный дом на открытом месте, в окружении огромных садов, в которых поддерживался образцовый порядок; летом это рай, зимой – приятнейшее местопребывание. Здесь каждый луч солнца доставлял наслаждение. Вечерами или в плохую погоду мы оставались в больших красивых комнатах: обставленные удобно, хотя и без роскоши, они служили прекрасным фоном для интеллектуальных разговоров. Большая столовая, удобная, светлая, вмещающая многочисленное семейство и постоянно гостивших друзей, длинный стол, уставленный разными яствами, за этим столом сидел хозяин дома, энергичный, разговорчивый, сестры – благожелательные, предупредительные, сын – серьезный, подающий надежды юноша, дочь – благовоспитанная, приятная, вызывала в памяти образ покойной матери и картины былых дней во Франкфурте, лет эдак двадцать тому назад. Гейнзе считался членом семьи, он не мешкал с ответом на любую шутку, случалось, мы весь вечер покатывались со смеху.
Немногие часы, когда я оставался наедине с собою в этом гостеприимнейшем из домов, я посвящал несколько странной работе. Во время похода, помимо дневника, который я вел, я еще записывал в стихотворной форме распоряжения по армии, комичные ordres du jour [15]15
Приказы (франц.).
[Закрыть]. Теперь я решил просмотреть и отредактировать их. Но вскоре понял, что видел и оценивал многое абсолютно неправильно, близоруко и высокомерно; поскольку же обычно строже всего относишься к недавним заблуждениям и поскольку оставлять такие бумаги на волю случая мне казалось делом рискованным, то я поспешил уничтожить всю тетрадь в ярком пламени пылавшего в камине каменного угля. Огорчает это меня сейчас лишь потому, что она очень пригодилась бы мне для уяснения хода событий и последовательности моих собственных размышлений.
В неподалеку расположенном Дюссельдорфе я усердно навещал друзей, которые все до единого принадлежали к пемпельфортскому кружку. Обычно мы встречались в картинной галерее. Тут чувствовалось предпочтение, отдаваемое итальянской школе, к нидерландской же все были несправедливы до последней степени. Конечно, возвышенный дух итальянских художников увлекал благородные души. Однажды мы долго пробыли в зале Рубенса и наиболее выдающихся нидерландцев; когда мы выходили, напротив нас висело «Вознесение» Гвидо. Кто-то восторженно воскликнул: «Мы словно перешли из кабака в гостиную!» Я был очень доволен, что в таком великолепии являют себя и столь страстный восторг вызывают живописцы, которыми я недавно восхищался по ту сторону Альп, но считал нужным получше ознакомиться и с нидерландцами, тем паче, что их редкие достоинства тут представали перед нами во всей своей несомненности: то, что я видел, осталось в памяти до конца моих дней.
Но еще больше поразило меня то, что в высших кругах до известной степени распространилось вольнолюбие и демократизм: люди не понимали, что́ им придется утратить, прежде чем они обретут взамен нечто довольно неопределенное. Бюсты Лафайета и Мирабо, изваянные Гудоном, очень похожие и естественные, почитались здесь как боги: в Лафайете чтили доблести рыцарские и гражданские, в Мирабо – силу духа и ораторский дар. Уже тогда немецкий дух странно заколебался: некоторые, побывав в Париже, слышали речи сих доблестных мужей, своими глазами видели их деяния и – несчастная немецкая черта – вздумали им подражать; и это как раз в то время, когда беспокойство за судьбу левого берега Рейна переходило в обоснованный страх.
Час тяжкого испытания! Эмигранты заполонили Дюссельдорф, прибыли сюда даже братья короля. Все спешили их увидать, я встретил их в картинной галерее и вспомнил разговоры о том, как они, вымокшие до нитки, выезжали из Глорье. Явились также господин фон Гримм и госпожа де Бёй. Город был переполнен, их приютил у себя аптекарь: спальней им служил естественнонаучный кабинет, обезьяны, попугаи и прочие твари внимали утренним грезам достойнейшей дамы, раковины и кораллы мешали ей разместить предметы туалета; не успели мы поразить Францию бедствиями постоя, как они уже перекочевали к нам.
Госпожа фон Коуденховен, прекрасная, умная женщина, некогда украшение майнцского двора, тоже бежала сюда. С немецкой стороны подоспели, чтобы на месте ознакомиться с обстоятельствами, господин фон Дом с супругой.
Франкфурт оставался еще в руках французов, войска маневрировали между рекою Лан и Таунусом; точные сведения и ложные слухи каждый день сменяли друг друга, оживляя разговоры, давая повод для острот, – впрочем, радости от этого было мало, ибо интересы и мнения то и дело сталкивались. Я не мог серьезно отнестись к ситуации неясной, сомнительной, зависевшей от ряда случайностей, и своими парадоксальными шутками то веселил, то удручал общество.
Помнится, однажды за ужином добром помянули граждан Франкфурта: они-де вели себя достойно и мужественно в отношении Кюстина, тем самым весьма выгодно отличаясь от жителей Майнца, которые вели себя, да и сейчас ведут, непристойно. Госпожа фон Коуденховен воскликнула с восторгом, очень ее красившим: «Чего бы я только не отдала, чтобы быть гражданкой Франкфурта!» Я отвечал: «Нет ничего проще, я знаю верный способ, но сохраню его в тайне». Все стали настаивать на том, чтобы я открыл секрет, уговаривали меня долго, наконец я сказал: «Уважаемой даме достаточно выйти за меня замуж, чтобы мгновенно преобразиться в жительницу Франкфурта!» Оглушительный хохот!
Что мы только не обсуждали! Как-то раз мы заговорили о злосчастной кампании, о канонаде при Вальми, и тут господин фон Гримм заверил меня, что за обедом у короля шла речь о моей непонятной поездке на передовую, можно сказать, в самое пекло, и все пришли к выводу, что удивляться тут нечего: никогда не знаешь, что выкинет такой чудак.
Участником наших полусатурналий был некий опытный и умный врач; я в своей заносчивости и не думал, что скоро и мне понадобится его помощь. Поэтому, к моему неудовольствию, он громко рассмеялся, застав меня в постели: страшный приступ ревматизма, следствие сильной простуды, почти лишил меня способности двигаться. Ученик тайного советника Гофмана, чья энергичная, хотя и несколько чудаческая медицинская деятельность была известна как в Майнце и при дворе курфюрста, так и южнее, в прирейнской области, врач немедленно прибег к камфаре, которую он считал едва ли не панацеей. Камфара применялась как наружное средство, для чего ее насыпали на промокательную бумагу, натертую мелом, и внутрь ее тоже давали в малых дозах. Так или иначе, а спустя несколько дней я был на ногах.
Скука болезненного состояния заставила меня о многом поразмыслить; от постельного режима я быстро ослаб, и мое положение показалось мне сомнительным: французы далеко продвинулись в Нидерландах, слухи еще преувеличивали их продвижение, все в один голос твердили о непрерывном прибытии новых беженцев.
Мое пребывание в Пемпельфорте длилось уже достаточно долго; не будь хозяева столь любезны и гостеприимны, всякий уже решил бы, что он им в тягость. Впрочем, я задержался так долго по чистой случайности: со дня на день и с часу на час я ждал свой богемский экипаж, бросать его мне не хотелось, тем более что он уже прибыл из Трира в Кобленц; оставалось переправить его сюда. Но его все не было, и это усиливало овладевшее мною в последние дни нетерпение. Якоби предоставил мне свою удобную, но тяжелую из-за обилия железа коляску. Все устремлялись теперь в Вестфалию, там хотели обосноваться и братья короля.
Итак, я уехал с ощущением необычайного внутреннего разлада. Симпатии удерживали меня в этом кругу друзей, обеспокоенном последними событиями, а я оставлял этих благороднейших людей в заботах и смятении, сам же в ужасную непогоду и распутицу пускался в дикий, пустынный мир, влекомый неудержимым потоком беженцев, чувствуя себя беженцем.
И все же в перспективе у меня была приятнейшая встреча, ибо, будучи так близко от Мюнстера, я не мог не завернуть туда, чтобы повидать княгиню Голицыну.
Дуисбург, ноябрь.
Итак, по прошествии четырех недель я вновь оказался если не на том же месте, где нас впервые постигло несчастье, и за много миль от него, но все в том же обществе, в той же толпе эмигрантов, которые, на сей раз уже окончательно изгнанные из отечества, возвращались в Германию, беспомощные и растерянные.
Припоздав к обеду в гостинице, я сидел в конце длинного стола; хозяин и хозяйка, уже успевшие выразить мне (как немцу) свою антипатию к французам, очень сожалели, что лучшие места заняты непрошеными гостями. При этом они отметили, что, несмотря на все унижения, горести, на ожидавшую их нищету, среди них по-прежнему царят нескромность и честолюбие.
Окинув взглядом стол, я увидел во главе его старого, невысокого благообразного человека, сидевшего смирно и тихо. Очевидно, он принадлежал к аристократии, ибо двое его соседей оказывали ему всевозможные знаки внимания, выбирали для него лучшие куски, разрезали их, можно сказать, подносили к его рту. Я очень скоро заметил, что дряхлый старик почти уже бесчувствен, – печальный автомат, влачащий по миру тень былой благополучной и почтенной жизни, – в то время как двое преданных ему людей стараются воскресить в его сознании сны минувшего.
Я рассмотрел всех прочих: на лицах солдат, комиссаров, искателей приключений, казалось, написана их горькая судьба. Все сидят молча, каждый со своей заботой, перед каждым – беда без конца и без края.
Мы уже кончали обедать, когда в залу вошел довольно красивый юноша, впрочем, ничем особо не примечательный. В нем сразу можно было узнать пешего странника. Он сел напротив меня, попросил у хозяина прибор и молча ел то, что приносили из еще оставшегося на кухне. После обеда я подошел к хозяину, и он шепнул мне на ухо: «Этому молодому человеку обед обойдется недорого». Я ничего не понял, но когда юноша спросил, сколько он должен, хозяин отвечал: «Один талер». Тот, казалось, был смущен и сказал, что это, должно быть, ошибка, он-де не только хорошо пообедал, но и выпил штоф вина, вряд ли это может быть так дешево. Хозяин вполне серьезно ему ответил: как правило, он сам считает, а гости платят, сколько он спрашивает. Юноша расплатился не без удивления и скромно ушел. Хозяин тут же объяснил мне загадку: «Он – первый из этого проклятого сброда, кто ел черный хлеб, надо же было его за это наградить».
В Дуисбурге у меня был один-единственный старый знакомый, которого я поспешил навестить. Профессор Плессинг. С ним у меня в свое время завязались какие-то странные сентиментально-романические отношения. Расскажу об этом подробнее, ибо благодаря им мы позабыли в этот вечер о беспокойной поре и перенеслись в мирные времена.
«Вертер», выйдя в свет, отнюдь не вызвал в Германии той болезненной, лихорадочной реакции, которую многие ставили ему в вину, он только обнаружил зло, притаившееся в умах тогдашнего юношества. В счастливые мирные времена на немецкой почве, то есть в пределах распространения немецкого языка, развилась и расцвела литературно-эстетическая культура; поскольку то была культура чисто внутренняя, к ней вскоре присоседилась сентиментальность, в истоках и развитии которой невозможно было не признать влияние Йорика Стерна. Дух его не витал над немцами, но чувства передавались тем непосредственнее. Возник своего рода изнеженно-страстный аскетизм, а поскольку иронический юмор британца не был свойствен немцам, то такой аскетизм неизбежно выродился в самоистязание. Сам я постарался избавиться от этого зла и, согласно своему убеждению, пытался быть полезен другим, но последнего достигнуть было труднее, чем я полагал, ибо это, собственно, значило, помогать каждому в борьбе с самим собою, а тут ведь уже не могло быть и речи о том, что предоставляет в наше распоряжение внешний мир, будь то познание, наставление, профессия или поощрение.








