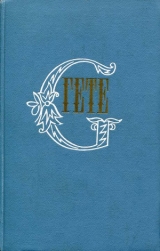
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
Следуя своей похвальной или, напротив, заслуживающей порицания привычке, я ничего из этого не записал или только самую малость, но проработал все до последних деталей в уме, где все так и осталось, вытесненное последующими впечатлениями, и теперь отзывается во мне лишь мимолетным воспоминанием.
Мессина, четверг, 10 мая 1787 г.
Итак, мы прибыли в Мессину и, сообразуясь с незнанием здешних условий, первую ночь решились провести в доме веттурино, дабы наутро оглядеться в поисках жилища получше. Такое решение дало нам возможность сразу же по приезде составить себе представление об ужасающих разрушениях, причиненных городу; ибо добрых четверть часа мы ехали вдоль развалин, покуда не добрались до гостиницы – единственного восстановленного здания в этой части города. Из окон верхнего этажа далеко вокруг видны были только зубчатые обломки стен. За оградой гостиничного двора – ни зверя, ни человека, ночью стояла мертвая тишина. Двери не запирались и не закрывались, для людей здесь все было так же мало приспособлено, как, например, в конюшне, и тем не менее мы спокойно уснули на матраце, который услужливый веттурино ухитрился вытащить из-под хозяина.
Мессина, суббота, 12 мая 1787 г.
Консул среди прочего сказал, что хотя необходимости в этом и нет, но все же желательно, чтобы мы нанесли визит губернатору, чудаковатому старцу, который, руководствуясь своими настроениями и предрассудками, может немало навредить нам или, напротив, очень помочь; консул всегда заслуживал похвалу, если представлял губернатору видных иностранцев, а кроме того, приезжий никогда не знает, не окажется ли губернатор ему так или иначе полезен. В угоду другу я тоже пошел с ним.
Едва переступив порог, мы услышали в доме страшный шум; скороход с гримасою Пульчинеллы шепнул на ухо консулу: «Плохой день! Опасный час!» Тем не менее мы вошли и застали старика губернатора сидящим за столом у окна, спиною к нам. Перед ним валялись кучи старых пожелтевших писем, от которых он с величайшим терпением отрезал неисписанные листы, тем самым показывая, как он экономен. В продолжение этого мирного занятия он распекал и на чем свет стоит клял весьма почтенного человека, судя по одежде принадлежавшего к Мальтийскому ордену, оборонявшегося хладнокровно и деловито, хотя ему едва удавалось вставить слово. Под брань и вопли он, не теряя самообладания, пытался отвести от себя напраслину, возводимую на него губернатором, очевидно, на основании его многократных въездов и выездов из города без должного разрешения; он ссылался на свои документы и широкие связи в Неаполе. Однако все это ничуть не помогало, губернатор по-прежнему резал старые письма, аккуратно откладывал в сторону чистую бумагу, ни на миг не прерывая брани.
Помимо нас обоих здесь стояло еще человек двенадцать свидетелей этого поединка, и все они явно завидовали нашей близости к двери – месту весьма удобному в случае, если взбешенный губернатор схватит свою клюку и вздумает драться. Лицо консула во время этой сцены заметно вытянулось, а я утешался близостью забавного скорохода, который, стоя за порогом, корчил уморительные рожи, успокаивая меня, когда я изредка оборачивался, – все, мол, это гроша ломаного не стоит.
И верно, отвратительная свара просто сошла на нет, губернатор кончил тем, что хотя ничто не мешает ему взять задержанного под стражу, – пусть себе мечется взаперти, – однако на сей раз ему будет позволено несколько дней пробыть в Мессине, но затем пусть убирается восвояси и никогда не возвращается сюда. С полным спокойствием, нимало не меняясь в лице, мальтийский рыцарь простился, почтительно поклонившись собравшимся, в особенности нам, ибо вынужден был пройти между нами, чтобы добраться до дверей. Губернатор, грозно обернувшийся, чтобы вслед ему бросить еще какое-то ругательство, вдруг заметил нас, тут же взял себя в руки, кивнул консулу, и мы подошли поближе.
Это был человек весьма преклонного возраста, согбенный годами, из-под седых кустистых бровей на нас смотрели черные, глубоко сидящие глаза; он разительно отличался от самого себя несколько минут назад. Он просил меня сесть с ним рядом и, продолжая резать письма, стал расспрашивать о разных разностях, я отвечал ему; под конец он заявил, что, покуда я в городе, он приглашает меня к своему столу. Консул, довольный не меньше моего, а пожалуй, даже больше, ибо ему было ведомо, какой опасности мы избегли, поспешно спустился вниз, а у меня пропала всякая охота даже близко подходить к этому львиному логову.
Мессина, воскресенье, 13 мая 1787 г.
Хотя мы проснулись при ярком свете солнца, в куда более уютной квартире, все-таки мы находились в злосчастной Мессине. На редкость неприятен был вид так называемой Палаццаты – целого ряда дворцов, расположенных в форме серпа, вдоль которого можно пройти за четверть часа и который как бы замыкает рейд, обозначая его границу. Прежде это были сплошь четырехэтажные каменные здания, теперь же от них остались лишь фасады, кое-где уцелевшие вплоть до верхнего карниза, а кое-где только до третьего, второго или даже первого этажа, так что этот некогда роскошный ряд казался теперь каким-то щербатым и дырявым, ибо почти за всеми окнами была видна лишь синева неба. Внутренние помещения оказались полностью разрушены.
…Вид Мессины ужасен, он наводит на мысль о первобытных временах, когда сиканы и сикулы бросили эту неспокойную землю и начали обживать западный берег Сицилии.
Так провели мы утро, а затем отправились в гостиницу съесть свой незатейливый обед. Мы еще сидели за столом, весьма довольные, когда к нам, едва переводя дух, ворвался слуга консула с сообщением, что губернатор велел разыскивать меня по всему городу, – ведь он пригласил меня разделить с ним трапезу, а я не явился. Консул убедительно просит поскорее пойти туда, невзирая на то, успел ли я пообедать или нет и пропустил ли я назначенный час по забывчивости или намеренно. Тут только до меня дошло, как же я оказался легкомыслен, позабыв о приглашении циклопа на радостях, что в первый раз мне удалось от него ускользнуть. Слуга не дал мне времени на размышления; его доводы были весьма красноречивы и убедительны: консул-де рискует, что этот деспот в приступе ярости и ему напортит, и весь народ перебаламутит.
Я привел в порядок волосы и платье и скрепя сердце бодро зашагал за слугою, взывая к Одиссею, моему патрону, и прося его о заступничестве перед Афиной-Палладой.
Добравшись до львиного логова, я был препровожден веселым скороходом в большую столовую, где за овальным столом в гробовом молчании сидело человек сорок. Место справа от губернатора пустовало, к нему-то меня и подвел скороход. Поклонившись хозяину дома и гостям, я сел рядом с ним, оправдав свое опоздание обширностью города и тем заблуждением, в которое уже не в впервые вводит меня разница во времени. Он с горящими глазами отвечал, что по приезде в чужую страну следует всякий раз осведомляться о местных обычаях и принимать их во внимание. Я заметил, что всегда стараюсь поступать именно так, однако нахожу, что даже при самых благих намерениях в первые дни в незнакомом городе, не зная местных обычаев, иной раз впадаешь в известные ошибки, кои можно было бы счесть непростительными, если бы не смягчающие обстоятельства – дорожная усталость, рассеянность из-за новых впечатлений, заботы о сносном пристанище и о дальнейшем путешествии.
Он спросил, как долго я собираюсь здесь пробыть. Я отвечал, что хотел бы пробыть как можно дольше, дабы точнейшим исполнением его приказов и распоряжений выразить ему мою признательность за любезный прием. Немного помолчав, он спросил, что я успел повидать в Мессине. Я коротко рассказал ему, как провел утро, какие сделал наблюдения, и присовокупил, что более всего удивили меня чистота и порядок на улицах разрушенного города. И вправду было достойно удивления, как удалось все улицы очистить от развалин, причем весь мусор свалили за разрушенные стены, а камни, наоборот, сложили вдоль домов, освободив тем самым мостовую для пешеходов и экипажей. Посему я мог, не кривя душой, польстить губернатору, заверив его, что все мессинцы с благодарностью признают, что этим благодеянием они обязаны лишь его попечениям. «Признавать-то они признают, – пробурчал он, – а сколько прежде было крику о жестокости, с которой их к этому принуждали, для их же пользы!»
Я заговорил о мудрых намерениях правительства, о высших целях, которые будут поняты и оценены лишь по прошествии времени, и тому подобное. Он спросил, видел ли я иезуитскую церковь, я отвечал отрицательно, тогда он заявил, что отдаст распоряжение показать мне эту церковь со всеми ее достопримечательностями.
В продолжение нашего, прерывавшегося редкими паузами разговора я заметил, что все остальные хранили полное молчание, да и шевелились лишь постольку, поскольку надо было поднести кусок ко рту. Едва убрали со стола и подали кофе, как они уже стояли вдоль стен, точно восковые фигуры. Я подошел к домовому священнику, который должен был показать мне церковь, дабы заранее поблагодарить его за труд; однако он уклонился от разговора, смиренно уверив меня, что приказ его превосходительства для него закон. Тогда я заговорил со стоявшим рядом со мной молодым иностранцем, французом, который тоже, видимо, чувствовал себя как на угольях, ибо он сразу же словно лишился дара речи и окаменел, подобно всем остальным, среди которых я приметил несколько человек, вчера с тревогою наблюдавших сцену с мальтийцем.
Губернатор удалился, и вскоре священник сказал мне, что нам пора идти. Я последовал за ним, остальные неслышно разбрелись. Он подвел меня к порталу иезуитской церкви; выстроенная в обычном для этого ордена стиле, она роскошно и величественно вздымалась к небесам. Навстречу вышел служитель и пригласил нас войти, но священник удержал меня, сказав, что следует дождаться прибытия губернатора. Вскоре тот приехал, остановился на площади неподалеку от церкви и знаком подозвал нас троих к своей карете. Он велел служителю не только показать мне церковь во всех подробностях, но и обстоятельно рассказать как историю алтарей, так и разных достопримечательностей. Затем пусть отопрет ризницы и порадует мой глаз всем, что там есть диковинного. Я человек, которому он хочет оказать должное уважение, дабы я имел все основания в своем отечестве славить Мессину. «Но не забудьте, – сказал он мне с улыбкой, какую только могло изобразить его лицо, – не забудьте, покуда вы тут, вовремя являться к столу, вам всегда будет оказан хороший прием». Я едва успел почтительнейшим образом ему ответить, и карета тронулась.
С этой минуты священник приободрился, и мы вошли в церковь. Кастелян – как хотелось бы его назвать в этом волшебном дворце, где более не совершаются богослужения – уже приступил к исполнению строжайшего приказа, когда в пустое святилище ворвались консул с Книпом и на радостях, что видят меня, коего уже почитали узником, бросились меня обнимать. Они были насмерть перепуганы, покуда оборотистый скороход, вероятно, щедро поощренный консулом, непрерывно гримасничая, не рассказал им о счастливом завершении всей этой истории, чему оба безмерно обрадовались и быстро меня разыскали, узнав о том, какую честь оказал мне губернатор, дав возможность осмотреть эту церковь.
Меж тем мы стояли перед главным алтарем, любуясь сокровищами старины. Колонны из ляпис-лазури, украшенные позолоченной бронзой, пилястры и филенки во флорентийском стиле, изобилие дивных сицилийских агатов; бронза и позолота, то и дело повторяясь, связывали все в единое целое.
Поразительная контрапунктическая фуга возникла из переплетения рассказов: консула и Книпа – о моих возможных затруднениях и кастеляна – об остатках былой роскоши; причем как первые, так и второй были одержимы предметом своего рассказа, а я получил двойное удовольствие, ощутив ценность моего избавления и увидев наконец архитектурное применение полезных ископаемых Сицилии, на которые я потратил немало сил.
Точное знание составных частей этой роскоши помогло мне обнаружить, что так называемая ляпис-лазурь этих колонн, собственно, всего лишь известняк, но такого красивого цвета, какого мне еще не доводилось видеть, и к тому же отлично подобранный. Но тем не менее колонны эти весьма примечательны; ведь чтобы выбрать куски столь красивой и ровной окраски, надо было иметь неимоверное количество материала и, кроме того, потратить немало усилий, чтобы разрезать, отшлифовать и отполировать камень. Но разве что-нибудь могло остановить отцов иезуитов?
Консул тем временем не умолкая говорил о том, что мне могло угрожать. То есть: губернатор, недовольный собой ввиду того, что я при первом же своем визите оказался свидетелем его жестокого обхождения с лжемальтийцем, собрался особо меня почтить и выработал определенный план, который из-за моего отсутствия сорвался в самом начале его осуществления. После долгого ожидания сев наконец за стол, деспот уже не в состоянии был скрывать свое нетерпение и неудовольствие, и все собравшиеся со страхом ждали новой сцены либо при моем появлении, либо после обеда.
Тем временем кастелян, снова и снова пытаясь продолжить рассказ, открыл потайные помещения, построенные в прекрасных пропорциях, с подобающим, пожалуй, даже роскошным, убранством; там сохранились еще кое-какие предметы церковной утвари, формой своей и нарядностью гармонирующие с целым.
Никаких благородных металлов я здесь не увидел, так же как и подлинных произведений старых или новых мастеров.
Наша итало-немецкая фуга, – ибо патер и служитель пели на первом из этих языков, а Книп и консул – на втором, – уже близилась к концу, когда к нам примкнул офицер, виденный мною за столом. Он был из свиты губернатора. Это снова могло оказаться небезопасным, тем более что он предложил отвезти меня в гавань, где намеревался показать мне многое, обычно для иностранцев недоступное. Друзья мои переглянулись, но я не дал им себя удержать и один пошел за ним. После нескольких ничего не значащих фраз я заговорил с ним доверительнее и признался, что за столом заметил, как кое-кто из моих молчаливых сотрапезников дружелюбными знаками давали мне понять, что я не одинок среди чужих, что, напротив, я нахожусь среди друзей и даже братьев, а значит, мне не стоит волноваться. Я считаю своим долгом поблагодарить его и также передать мою благодарность всем друзьям. На это он отвечал, что они тем паче старались меня успокоить, что, зная характер своего патрона, сами не очень-то за меня беспокоились; ибо такие взрывы, как в истории с мальтийским рыцарем, довольно редки, и достойный старец сам себя за них корит, долго следит за собою, некоторое время безмятежно и беспечно выполняет свои обязанности, покуда какая-нибудь неожиданная случайность не спровоцирует новую вспышку. К этому мой храбрый друг присовокупил, что ему и его товарищам больше всего хотелось бы поближе сойтись со мною, а потому они просили бы меня побольше рассказать о себе, для чего представится возможность нынче вечером. Я вежливо отклонил это предложение, прося его простить мне мою причуду: я хотел во время путешествия быть для всех просто человеком, и если я мог в этом качестве снискать доверие и участие, то мне это весьма приятно; завязывать же иные отношения я не могу по целому ряду причин.
Убеждать его я не хотел, ибо не мог же я сказать, что это за причины. Однако мне показалось весьма примечательным, что при этом деспотическом правлении люди вполне благомыслящие столь достойно объединились для защиты как самих себя, так и чужеземцев. Я не утаил от него, что хорошо знаю об их отношениях с другими немецкими путешественниками, и стал распространяться о достохвальных целях, коих можно добиться таким путем, с каждой минутой повергая его во все большее изумление своим доверительным упрямством. Он пытался любыми средствами раскрыть мое инкогнито, что ему не удалось, отчасти потому, что я, ускользнув от одной опасности, не хотел бессмысленно подвергаться другой, отчасти же потому, что я отлично заметил: воззрения этих почтенных островитян так разнятся от моих собственных, что более близкое знакомство со мною не принесет им ни радости, ни утешения.
Вечером я провел еще несколько часов с деятельным и доброжелательным консулом, который разъяснил мне, что же значила сцена с мальтийцем. Это был не авантюрист, но просто охотник до перемены мест. Губернатор, человек знатного рода, почитаемый и ценимый за его серьезность, дельность и большие заслуги, известен своей необузданной жестокостью, бесконечным своеволием и ослиным упрямством. Недоверчивый, как всякий старик и деспот, он подозревает, ничего точно не зная, что при дворе у него завелись враги, и люто ненавидит тех, кто все время ездит взад-вперед, считая таких непосед шпионами. На сей раз ему под руку попался этот красный кафтан, когда он, после долгой паузы, должен был на кого-то излить свою желчь.
Мессина и на море, понедельник, 14 мая 1787 г.
Оба мы проснулись с одинаково отвратительным чувством из-за того, что, взглянув первый раз на пустынную Мессину, мы, горя нетерпением, решились договориться о возвращении с капитаном французского купеческого судна. После благополучного завершения истории с губернатором, при добрых отношениях со здешними храбрецами, которым мне надо было лишь раскрыть свое инкогнито, и после визита к моему банкиру, жившему за городом, в прелестной местности, я мог и в дальнейшем рассчитывать на приятнейшее времяпрепровождение в Мессине. Книп, которого увлекли красивые девушки, больше всего хотел, чтобы не кончался обычно всеми ненавидимый встречный ветер. Между тем положение сложилось не из приятных, – вещи нельзя было распаковывать, ибо нам следовало в любую минуту быть готовыми к отплытию.
Сигнал раздался около полудня, мы поспешили подняться на борт, среди собравшейся на берегу толпы обнаружили нашего милейшего консула, с которым мы простились, горячо его поблагодарив. Протиснулся к нам и желтый скороход, ожидавший вознаграждения за свои веселые выходки. Вместе с деньгами он получил от нас поручение сообщить хозяину о нашем отъезде и просить его извинить мое отсутствие за столом. «Кто уехал, тот прощен!» – крикнул скороход, затем, как-то странно подпрыгнув, исчез.
На корабле все выглядело совсем иначе, нежели на неаполитанском корвете; однако по мере удаления от берега нас все более занимал великолепный вид расположенных полукругом дворцов, крепости и вздымающейся над городом горы. А по другому борту – Калабрия. С юга и с севера глазу открывался широкий пролив, вдоль которого тянулись берега удивительной красоты. Мы не могли налюбоваться всем этим, но тут нам показали, что слева, еще довольно далеко от нас, в воде происходит какое-то движение, а справа, несколько ближе к берегу, высилась скала, – это были Харибда и Сцилла. То обстоятельство, что в природе эти два чуда так далеки друг от друга, а поэт предельно сблизил их, послужило поводом для разговора о поэтических вольностях. Тысячи раз доводилось мне слышать сетования на то, что предметы, знакомые людям по рассказам, в действительности их не удовлетворяют; причина тут неизменно одна: воображение и действительность соотносятся друг с другом как поэзия и проза, – поэзия делает их могучими и устремленными ввысь, проза же распространяет вширь, как бы упрощает их. Ярчайший тому пример – пейзажисты XVI столетия в сравнении с нашими современниками. Рисунок Иодока Момпера рядом с наброском Книпа сделал бы зримым этот контраст.
Меня вновь охватило пренеприятное ощущение морской болезни, и здесь это состояние не скрашивалось уединением, как во время предыдущего переезда, тем не менее каюта оказалась достаточно просторной для нескольких человек; удобных матрацев тоже хватало. Опять я принял горизонтальное положение, а Книп заботливо подкармливал меня отличным хлебом и красным вином. В этом состоянии все наше сицилийское путешествие представлялось мне в черном свете. По сути, мы ничего не увидели, кроме напрасных усилий рода человеческого устоять против беспощадности природы, лукавых козней времени, против вражды и ненависти друг к другу. Карфагеняне, греки, римляне и другие позднейшие народы строили и разрушали. Селинунт подвергся методическому разрушению; чтобы уничтожить храмы Джирдженти, не хватило и двух тысячелетий, а чтобы стереть с лица земли Катанию и Мессину, достало несколько часов, если не минут. Этим мыслям, вызванным морскою болезнью у человека, которого уже не раз качало на житейских волнах, я не позволил взять верх надо мною.
Понедельник, 14 мая 1787 г.
Уже близился вечер, но, вопреки нашим желаниям, мы никак не могли войти в Неаполитанский залив. Нас продолжало относить к западу, и корабль, приближаясь к острову Капри, все более удалялся от мыса Минервы. Всех охватили нетерпение и досада, лишь мы с Книпом, смотревшие на мир глазами художников, могли быть этим довольны, ибо наслаждались закатом, прекраснейшим за все время нашей поездки. Сверкая всеми красками, открывался нашему взору мыс Минервы и подступающие к нему горы, меж тем как скалы, нисходящие к югу, уже окрасились в синеватые тона. Весь берег от мыса до Сорренто был залит светом. Мы видели Везувий с чудовищным облаком дыма над ним, от которого к востоку тянулась длинная полоса, так что казалось, сильное извержение неминуемо. Слева от нас был Капри, круто уходящий ввысь. Сквозь прозрачную синеватую дымку мы отчетливо видели очертания его скалистых берегов. Под чистым, без единого облачка, небом сверкало спокойное, почти недвижное море, при полном штиле оно теперь простиралось перед нами, точно светлый пруд. Мы восторгались этой картиною, Книп огорчался, что никакая живопись не может воссоздать эту гармонию, так же как тончайший английский карандаш, даже в самой искусной руке, не будет в состоянии передать эти линии. Я же, убежденный в том, что даже куда менее значительные памятки, нежели те, что способен создать этот умелый художник, со временем будут для меня в высшей степени желанными, подвиг его в последний раз напрячь глаза и руку; он позволил мне себя уговорить и сделал одну из самых точных зарисовок, которую потом раскрасил, тем самым доказав, что для художника и невозможное возможно. Столь же жадно следили мы, как вечер становится ночью. Капри был теперь совсем темным, и, к нашему изумлению, облако над Везувием и облачная гряда стали разгораться, чем дальше, тем сильнее, и, наконец, на горизонте мы увидели величественную светящуюся полосу – то полыхали зарницы.
Любуясь дивными видами, мы проглядели, что нам грозит беда; впрочем, волнение, начавшееся среди пассажиров, не позволило нам долго оставаться в неведении. Пассажиры, более искушенные в мореплавании, чем мы, горько упрекали капитана и штурмана за то, что те из-за своей неловкости не только прозевали пролив, но подвергли опасности доверившихся им людей, их имущество и так далее. Мы спросили, в чем причина этого беспокойства, ибо не понимали, чего можно опасаться при полном штиле. Но оказалось, что как раз из-за штиля эти люди и не находили себе места. «Сейчас, – сказали они, – мы уже попали в течение, которое огибает остров и благодаря определенному направлению волн тащит нас на острые скалы, где нет ни пяди земли, ни бухты, чтобы искать спасения».
После таких речей наша судьба представилась нам в весьма мрачном свете; хотя ночь и не позволяла нам видеть приближение опасности, мы все же заметили, что корабль, покачиваясь и кренясь, двигался к скалам, становившимся все мрачнее, хотя над морем еще был разлит слабый вечерний свет. В воздухе ни дуновения; каждый поднимал вверх носовой платок или легкую ленту, но не было даже намека на вожделенный ветерок. В толпе нарастал шум, нарастало и безумие. Женщины с детьми не молились, преклонив колена на палубе, так как двинуться невозможно было из-за тесноты, просто лежали, крепко прижавшись друг к другу. Они еще больше, нежели мужчины, хладнокровно размышлявшие о помощи и спасении, неистовствовали и бранили капитана. Теперь ему припомнили все, о чем молчали во время путешествия; большие деньги за дурные каюты, убогую пищу, не то чтобы неприветливое, но молчаливое обхождение. Он никому не отчитывался в своих действиях и даже в последний вечер продолжал упрямо умалчивать о предпринятых им маневрах. Его и штурмана называли теперь пришлыми торгашами, которые, не зная лоцманского искусства, руководствуясь лишь корыстью, получили во владение судно и теперь из-за своей бездарности и неумелости обрекли всех, кто им доверился, на гибель. Капитан молчал и, казалось, все еще раздумывал, как спасти корабль, но мне, с младых ногтей ненавидевшему анархию хуже смерти, было невыносимо дальнейшее молчание. Я вышел вперед и принялся убеждать пассажиров с таким же примерно хладнокровием, как если бы обращался к «птицам» Мальчезине. Я постарался разъяснить, что их шум и крики сбивают с толку тех, на кого еще можно возлагать надежды, так что они не в состоянии ни думать, ни даже понять друг друга. «Что же касается до вас, – воскликнул я, – то соберитесь с духом и обратите горячую молитву к божьей матери, ибо она одна может замолвить за вас слово перед сыном, чтобы он сделал для вас то, что сделал для своих апостолов, когда волны бушующего озера Тивериадского заливали лодку, а господь спал, но, разбуженный безутешными и беспомощными, тотчас же повелел ветру стихнуть; так и сейчас он может повелеть, чтобы задул ветер, коли будет на то его святая воля.
Эти слова подействовали как нельзя лучше. Женщина, с которой я раньше беседовал о предметах нравственных и духовных, воскликнула: «Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé!» Они и вправду затянули свои литании страстно, с неимоверным усердием, тем паче что и так уже стояли на коленях. Они могли предаться этому с тем большим спокойствием, что моряки, как видно, решили испробовать еще одно средство спасения: они спустили на воду шлюпку, которая могла вместить от силы человек шесть или восемь, и при помощи длинного каната скрепили ее с кораблем, матросы сильными ударами весел пытались тянуть его за собой. На мгновение все поверили, что они волокут его поперек течения, и тешили себя надеждой, что таким образом удастся вытащить корабль. Однако либо эти усилия только увеличили сопротивление течения, либо произошло что-то другое, но вдруг шлюпка со всеми гребцами, описав на долгом канате дугу, прибилась к кораблю с обратной стороны, словно кончик бича, которым хлопнул возница. И эта надежда рухнула!
Молитвы сменились стенаниями, положение становилось еще ужаснее, ибо пастухи, пасшие коз наверху, на скалах, чей костер мы уже давно приметили, глухо закричали: внизу гибнет корабль. Они кричали еще множество каких-то непонятных слов; люди, знающие язык, догадались, что они радуются добыче, которую надеются выловить завтра поутру. Даже утешительное сомнение, вправду ли корабль находится так угрожающе близко к скалам, вскоре, увы, рассеялось, ибо команда вооружилась длинными шестами, чтобы в крайнем случае хотя бы отталкиваться ими от скал, пока, наконец, и шесты не сломаются, – тогда все будет кончено. Корабль качало все больше, прибой, казалось, усиливался, и вследствие этого новый приступ морской болезни заставил меня спуститься в каюту. Оглушенный, я повалился на матрац, правда, даже с некоторой приятностию, вызванной, вероятно, мыслью об озере Тивериадском, ибо перед глазами у меня совершенно отчетливо стояла гравюра из Библии Мериана. Оказывается, сила чувственно-нравственных впечатлений всего ярче проявляется, когда человек предоставлен самому себе. Не знаю, долго ли я пролежал так, в полузабытьи, но проснулся я от страшного шума наверху. Я понял, что по палубе взад и вперед таскают длинные канаты, и это дало мне надежду, что удастся пустить в ход паруса. Немного погодя вниз примчался Книп и сказал, что мы спасены, поднялся слабый ветер и в тот же миг было сделано все, чтобы поднять паруса. Книп и сам не остался в стороне. Корабль уже заметно отошел от скал, и хотя мы еще не совсем выбрались из течения, есть надежда его одолеть. Наверху все было тихо; вскоре явилось еще несколько пассажиров, они сообщили о счастливом исходе и тоже улеглись.
На четвертый день нашего плавания я проснулся рано поутру здоровым и свежим, так же как во время предыдущей поездки; так что, вероятно, в более долгом путешествии я заплатил бы свою дань морской болезни всего лишь трехдневным недомоганием.
Стоя на палубе, я любовался островом Капри, что находился в стороне, довольно далеко от нас; корабль наш держался курса, позволявшего надеяться, что мы сможем войти в залив, что вскоре и свершилось. После столь тяжкой ночи мы радовались возможности в новом освещении увидеть красоты, коими восхищались минувшим вечером. Опасный скалистый остров остался позади. Накануне мы издали любовались правой стороной залива, а теперь замки и город были прямо перед нами, а слева – Позилипо и мысы, простершиеся до Прочиды и Искьи. Все высыпали на палубу, впереди других – греческий священник, одержимый своим Востоком; в ответ на вопрос местных жителей, восторженно приветствовавших свою прекрасную родину, как ему нравится Неаполь в сравнении с Константинополем, он весьма патетически произнес: «Anche questa è una città!» – «Это тоже город!» Мы вовремя достигли гавани, кишмя кишевшей людьми, было самое оживленное время дня. Едва выгрузили и поставили на землю наши чемоданы и прочие вещи, как их подхватили двое носильщиков, а стоило нам произнести, что мы намерены остановиться у Морикони, и они с этой поклажей, точно с добычей, бросились бежать так, что на людных улицах и на шумной площади мы то и дело теряли их из виду. Книп нес портфель под мышкой, и мы надеялись сохранить хотя бы рисунки, если эти носильщики, менее честные, чем неаполитанская беднота, лишат нас того, что пощадило море.








